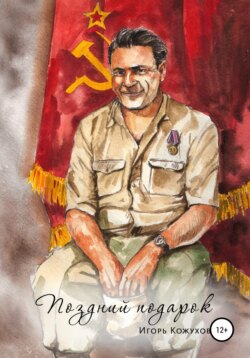Читать книгу Поздний подарок - Игорь Александрович Кожухов - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеЯма
– Да, город – это яма. Угодивший туда выбраться из неё уже не может и, чаще всего, не хочет. – Это говорил Иван Иваныч, главный из четверых охотников, ехавших домой из тайги. Говорил он, как бы всем, но упор делал на семнадцатилетнего парня, своего тёзку, Ваньку, которого взяли с собой в город в больницу. Ваньку лягнул любимец, маленький лосёнок Губан, которого они с батей нашли около погибшей от пули браконьера матери-лосихи.
Лосёнок уже почти месяц жил у них в загоне, привык к Ваньке как к кормильцу, а вот вчера, когда Ванька наклонился за ведром, лягнул прямо в лицо. И если бы лосёнок не был такой малыш, отлетела бы голова у Ваньки. А так – ничего: полежал полчаса, выплюнул два коренных зуба и, казалось бы, всё. Ан нет. Наутро правая сторона лица, точнее, челюсть, страшно распухла. Рот открывался с дикой болью, а есть он смог только молоко и то только потому, что оно жидкое. На счастье, на кордон к отцу, приехали охотники из города, и он уговорил их взять Ваньку в город, в больницу.
– Да пускай, с нас не убудет. Устрою его в больницу, подлечим, а пока то да сё, у меня пускай поживёт, с сыном моим познакомится, – громко говорил директор чего-то там, Иван Иванович. Был он огромен, смешлив и говорлив. Остальные были, наверное, рангом ниже, больше молчали, меньше пили, но охотились азартно, не жалея сил. Через сутки, находившись по тайге, напарившись вечером в бане, напившись батиной самогонки, охотники тронулись домой, забрав Ваньку с большим рюкзаком подарков в город. Думали поспать, но дорога была из разряда «никаких», поэтому Иван Иваныч громко разговаривал.
– Вот взять мою жену. Привёз её тридцать лет назад маленькой, худенькой, всего боялась. Дали нам комнату в общаге, так она варить выходила по ночам. Понимаешь ли, смотрят на неё. Про ванну и туалет вообще молчу – заставляла охранять, представляешь? И шёл ведь с ней, и стоял под дверью. Ладно, в туалет быстро, а когда в ванну ходила, полчаса стоял и разговаривал с нею через дверь, чтоб знала – не убежал. – Он громко, в голос, смеялся, широко открывая рот и по-хозяйски хлопая себя по коленям.
– А теперь? Теперь ты её из города никакими силами не вытащишь. На даче и то заставила туалет сделать и ванну. И хотя сделали, мне не трудно, —
он хитро подмигнул Ваньке, – но дачный «комфорт» неудобств – пропадает. Так я себе в конце участка за деревцами простой туалет сколотил, с выгребной ямой. Так веришь-нет, как мне там хорошо думается, – он опять хохотал, заражая всех весельем, – только вот тяжёл стал, долго на корточках уже не могу…
Ваньке тоже было смешно, но смеяться он не мог из-за дикой боли в челюсти. Поэтому, зажав её руками, старался сдерживаться. Почти через сутки въехали в город.
* * *
Иван Иваныч был явно человек слова. Ещё на окраине он позвонил кому-то и, ласково называя абонента «милая Аллочка», рассказал про Ваньку. Что отвечала Аллочка, Ванька не слышал, но, никуда не заезжая, приехали в больницу. Тут Ванька испытал то, что испытывала, наверное, жена Иван Иваныча. Ему стало неловко и даже стыдно за себя.
Вокруг столько людей – чистенькие и ухоженные. Женщины и девушки в халатах, милые, улыбчивые, красивые… И тут он, в своей защитной куртке, в солдатских крепких ботинках и старых джинсах. Да ещё с кривой опухшей рожей…
Но боль не давала шанса на отступление. Его позвали в чистый белый кабинет. Молоденькая медсестра дала ему стакан с зелёной жидкостью и попросила тщательно прополоскать рот.
«Вовремя», – подумал Ванька, ведь рот он давно не чистил, так как не мог в него засунуть зубную щётку. Затем его посадили в удобное кресло, которое опустилось, как кровать. Вошёл молодой врач с закатанными рукавами, ополоснул руки, сел около его головы.
– Ну-с, слушаю!
– Что? – не понял Ванька.
– Что случилось, рассказывай.
– Лось лягнул, точнее, лосёнок, а я нагнулся неудачно, вот и получилось, – Ванька застеснялся.
– В милицию заявил? – врач аккуратно, пальцами, полез в рот.
– На кого? – Ванька вытаращенными, слезящимися от боли глазами смотрел на маску, прикрывающую рот врача.
– Ну, на Лося этого. Это ведь чья-то кличка, я правильно понял?
– Нет, это правда, лось, а кличка у него Губан. Он ещё маленький, совсем ребёнок.
Врач встал.
– Ну, не знаю, ребёнок это или нет, но выбил он тебе два зуба, третий сломал и челюсть у тебя сломана. – Он помыл руки, вытер их белым полотенцем и снял маску. – А Лося этого зря боишься. Думаю, милиция тебе поможет…
Но тут подошла медсестра и что-то тихо сказала ему. Врач засмеялся.
– А, вон оно что, а я думаю, что за лось? В общем, определяйте его в палату, все анализы, и завтра операция.
Ванька растерялся. Но когда вышли, их встретил Иван Иваныч.
– Не дрейфь, Ванёк! Операцию сделают, а жить будешь у меня, в комфорте и удобстве. Хата у нас большая, живём втроём. В общем, поехали. Мне врачи позвонят, машину за тобой вышлю. Всё.
Ванька, обалдевший от всего, а более от людей, которых уже увидел больше, чем за всю прошедшую жизнь, только мотал головой, соглашаясь со всем.
Больница поглотила его сразу всего, сделав слабым и поддающимся всему, что бы с ним ни делали. И вечером, улёгшись наконец на кровать, он был доволен, что всё пока кончилось, хотя голоден был, как медведь весной…
Неожиданно приснился сон – воспоминание.
…Года два назад, весной, они зашли с батей далеко в тайгу проверить медвежьи лёжки. Шли тихо, и когда невдалеке раздался медвежий рёв, Ванька схватился за приклад своего «зауэра». Но отец приложил палец к губам и рукой стал показывать в сторону большой поляны. Ванька присмотрелся и среди кустов и осевшего от тепла снега увидел худого, облезлого медведя. Медведь встал перед сосной на задние лапы и, рыча, резко сгибался, обдирая с сосны кору. Некоторое время его не было видно, потом он опять вытягивался во весь рост перед сосной и опять рыча и обдирая дерево, сгибался.
– Тяжело ему сейчас, ох, тяжело. Он всю зиму в туалет не ходил и сейчас у него прямая кишка пробкой заткнута, как бочка. Может, поможем?
– А сможем? – Ванька смотрел на отца, как на волшебника.
– А вот, смотри. – Отец поднялся во весь рост, приложил ладони рупором ко рту и резко, и громко прокричал:
– А-а-а-а-а! – Медведь присел, в ответ хрюкнул и, припрыгнув, поскакал по-лягушачьи в лес, громко пуская газы. Отец весело смеялся:
– Ну, прорвало наконец.
Когда они подошли к ободранной сосне, всё вокруг было усыпано коричневым вонючим медвежьим пометом.
…Ванька в темноте открыл глаза. Пахло из его полуоткрытого, давно не чищенного рта: «Скорее бы операция…»
* * *
Операция прошла успешно. Ваньке вырвали третий обломанный зуб и наложили на челюсти шины. За эти дни ничего не евший, а только пьющий кефир, Ванька стал похож на Дон Кихота, каким его рисуют в книжках.
Он устал от больницы, от общенья с людьми, от невозможности остаться одному и от больничного запаха, который, казалось, въелся ему в кожу. И когда через неделю ему сказали, что за ним пришла машина от Иван Иваныча, очень обрадовался. Врач объяснил, как снимать резинки перед едой, как промывать рот лекарствами, которые ему дадут, и когда приехать на осмотр. Шофёра он знал. Молодой, до тридцати лет, парень был похожим на Иван Иваныча и характером, и поведением. Всю дорогу смеялся и рассказывал весёлые истории из жизни города.
– А ещё тебе жениться сейчас надо, на время. И не бычься. Кто тебе будет бульоны варить? Я? Или Татьяна Александровна? Дак у неё без тебя забот много. И опять же, мужские дела подсобнее справлять со своей женой, а не бегать в поисках по городу.
Ванька предательски краснел, а водила заразительно смеялся.
– Давай вот щас подвернём – вот они стоят, и выберем тебе, какую хошь? – и он наигранно крутил рулём в сторону девчонок, стоявших на обочине, а Ванька испуганно мычал сквозь резинки во рту и тряс головой.
– Что, не хочешь? Ну, не буду, не буду. Живи на кефире, только скоро ты от него дойдёшь до полного мумифицирования…
Наконец приехали.
Оказывается, Татьяна Александровна – это жена шефа, привлекательная ещё, но уже тучная женщина. Она встретила его довольно приветливо, провела по дому, показала, где он будет спать, где мыться, где есть. И, усадив в кухне на мягкий стул, стала расспрашивать о нём самом. Но, поняв, что говорун с Ваньки никакой, спохватившись, предложила поесть.
– Есть я хочу, но челюсть не жует, больно. Мне бы кефира…
– Да какой кефир! Нашёл еду! Я сейчас тебе такой бульон заварганю…
Она открыла кастрюлю, налила в литровую банку супа и затем белой штукой, похожей на штырь с ножичками, загудела.
– Это блендер. Я тебе сейчас промелю до состояния кефира, ты напьёшься и наешься.
И, действительно, сняв резинки, он напился такой вкусноты, что от души сразу отлегло, стало легко и захотелось спать. Татьяна Александровна села напротив, вытянула ноги в чёрных чулках и неожиданно закурила тонкую сигарету.
– Что, хорошо? Ну иди, поспи немного. Скоро Костя придёт из школы, будешь знакомиться.
Ванька поблагодарил и, уйдя, быстро уснул на широком, предложенном ему диване.
* * *
Костя оказался очень похожим на отца и одновременно на мать. Этот парадокс сразу удивил Ваньку, и он даже пытался угадать, как же так могло получиться. Уверенная отцовская крепкая походка, широкие жесты и весёлый нрав. И в то же время материнская плавность и практичность поступков. А в-третьих, было видно, что он явно понимал, чей он сын.
Вечером, он уже свысока, поучительно-самоуверенно высказывал Ваньке:
– Вот тебе сколько? Семнадцать. А что ты видел? Сосны да болота? Зайцев да лягушек, лисиц, да… этих, как их… которые токуют, петухи? А я в шестнадцать полмира уже объехал, за рубежом уже три раза был и в Артек, как в соседний магазин, езжу! Ты, наверное, и телевизора-то не видел?
Ванька психовал: – Видел!
– Ну, может быть, и так. А знаешь, что такое CD-проигрыватель?
Ванька растерялся: – Нет.
– Ха-ха-ха! – смотри.
Костя вставил маленькую блестящую пластинку в небольшой аппаратик и нажал кнопочку. И, удивительно – по телевизору стали показывать самого Костю в длинных трусах и таких же, как он, юношей и девушек.
Затем хохочущего Иван Иваныча с пузом навыкат, обнимающего Татьяну Александровну, и ещё много всего.
– Ну, что, понял? А ты говоришь…
И Костя опять начал рассказывать про городские чудеса.
– А кинотеатры? А дискобары? Я там, между прочим, постоянный посетитель и плачу за вход уже не сто рублей, а тридцать. И пиво бесплатно. А сколько людей!!! И никто тебя не знает, понимаешь. И никому до тебя дела нет, а ты сам делай, что хочешь, и живи. Живи и кайфуй! – Костя задохнулся от восторга и махнул рукой. – Я ещё учусь, отец не хотел, чтобы я рано школу кончал. И сейчас уже знаю, куда дальше пойду, как жизнь свою буду налаживать. Как подумаю, что можно сделать, голова кругом. Отца везде знают и уважают, поэтому мне везде дороги открыты…
Костя, сидя напротив Ваньки в кресле, раскраснелся, воодушевлённый своими перспективами.
– А ты что хочешь в жизни делать?
Ванька молчал. И что, действительно, он мог сказать? Что нравится ему его тайга? Что, если бы не этот случай, не стал бы он находиться ни одного дня здесь, теряя свою вольную хваткость, задыхаясь и кляня обоняние, потому что запахи, настолько резкие и мерзкие, вызывали постоянную головную боль и оскомину в горле? Что от постоянных звуков он просто теряет ориентацию, не реагируя уже на что-то отдельное из-за постоянного шума и гама? Что чувствует, как бетонные стены вытягивают из его тела силу!
– Я хочу жить с отцом и матерью на кордоне. Хочу построить дом и привести в него простую девушку, согласную жить по заветам наших дедов.
– А это как?
– Как? Да просто. Растить детей, любить свою землю, не загаживать её, а жить с ней в мире. Вдыхать по утрам хмельной, пьянящий, сладкий от чистоты воздух, встречая яркое, умытое волшебной росой, солнце. Не орать, пытаясь быть услышанным, не переступать через людей, не замечая их боли, а помогать им, не лицемерить и не врать. В конце концов, надеюсь, что так лучше.
Костя поднял руку, улыбаясь, требуя слово.
– И думаешь, у тебя это получится?
– Думаю, да, потому что другого не хочу. – Ванька держался рукой за челюсть, которая заныла от долгого разговора.
Вечером пришёл Иван Иваныч и, громко позвал Ваньку к столу. Но Ванька не пошёл на общий ужин, сославшись на сильную головную боль.
* * *
Проснулся Ванька поздно, Кости в комнате уже не было. На столе записка: «Диски в шкафу, любуйся жизнью, недоступной тебе». Записка покоробила, но время скоротать как-то надо. Открыв шкаф, он читал названия и откладывал диски. Что хотел увидеть, он сам не знал. В конце концов, взял диск из глубины шкафа и нажал, как учил Костя, зелёную кнопочку. Побежали нерусские буквы, затем иностранный разговор и начало – сюжета. Парень с девушкой разговаривают о чём-то, улыбаясь открыто и радостно, затем быстрое движение навстречу друг другу, поцелуи – и вот они уже раздетые. И уже через минуту секс, открытый, без купюр и, как показалось Ваньке, хамский. Конечно, он знал, что это такое, но так явно и бессовестно, что такого он даже не мог себе представить. Стало вдруг стыдно, что он это смотрит, и очень неудобно, словно подсматривает за чем-то личным. Он торопливо выключил CD-проигрыватель и забросил диск на место.
«Вот это да! Что это такое, и кому принадлежит? – неприятное чувство колыхнулось в груди, словно в вонючее болото залез. – Господи, как же всё это противно.»
Он пошёл на кухню, откуда доносилась негромкая музыка. Оказалось, Татьяна Александровна мыла посуду.
– Доброе утро, больной. Что, настолько всё серьёзно, даже вчера выйти не смог? – она села на стул, вытянула ноги в чулках и закурила. Ванька стоял в кухонном проеме.
– Да, но сейчас легче. – Он неотрывно смотрел на толстую струю воды из крана. Она заметила этот взгляд и выжидающе молчала.
– А куда вода убегает?
– Вода, гм, не знаю, наверное, в выгребные ямы какие-то или в канализацию.
– Как это? А почему вы краны не закрываете?
– Да я, мальчик мой, плачу за воду, и к тому же река наша такая огромная, и моя струйка в ней, как капля в море…
– Но ведь в городе миллион человек и если половина не закрывают краны – это же какая масса воды?!
Ванька закрыл воду и стоял, опустив голову, покрасневший и взволнованный.
– Знаешь что, юноша впечатлительный. Это ты сначала такой скромный, добрый и обязательный. Посмотрим, что с тобой через годик будет. Пожалуй, своего не упустишь, будешь рвать и метать. Это тебе здесь, а не там. Здесь тебя жизнь заставит, а если нет – затопчут тебя люди и обстоятельства, запомни это, если хочешь хорошо здесь устроиться.
– Да не хочу я жить в этом вашем городе и никогда не хотел! А если вам нравится, оставайтесь с Богом, процветайте. Только однажды выбраться уже, наверное, не сможете из этой вашей любимой – ямы… Простите, если что.
Ванька заскочил в комнату, схватил свой рюкзак и, уже открывая входную дверь, услышал за спиной повелительно:
– Стой!
Он остановился, резко развернулся, готовый отстаивать свое право на уход. Татьяна Александровна стояла в двух шагах от него, плавно покачиваясь на носках, скрестив на груди руки, увешанные дорогими тонкими браслетами, спокойно улыбаясь.
– Послушай меня, гордый сын воли. Я тоже уходила, уходила уставшая и разбитая городом, уходила больная от его суеты и проклинающая его, уходила одинокая из толпы людей. Мне казалось, что я ненавижу его, и так оно, скорее всего, было. В довершение всего, меня никто не понимал, даже муж. Уходила и… возвращалась, благодарная Ивану за то, что он меня не останавливал. Так что иди, только деньги вот возьми, без денег не попадёшь домой.
Ванька растерянно, молча подошёл, взял деньги, сказал дежурное «Спасибо» и вышел.
P.S.
Толпы народа. Автобус до вокзала, касса – наконец билет куплен. Но билет на 20:00, а что делать целый день? Вышел из вокзала и, поддавшись интуиции, просто пошёл мимо домов, через дороги и потоки машин. И даже не удивился, придя на берег реки. Но это была не та река, к которой он привык у себя в тайге.
Серо-зелёная масса, жирно мерцающая бензиновыми разводами, заплёванная окурками, закиданная бумагой и целлофаном, вспухающая у берега ядовитой жёлтой пеной – это была не река, а именно та канализация, куда стекали все городские нечистоты. По крайней мере, так ему показалось на первый взгляд.
Ванька, человек, который стеснялся даже плюнуть в реку, смотрел вокруг и испытывал такие ужас и боль, какие не испытывал никогда в жизни. Словно кто-то очень родной ему попал в ужасную беду и решается вопрос: жить или нет, а он не знал, как помочь…
– Зачем я пришёл сюда? – загипнотизированно смотрел на зацепившиеся за торчащую корягу целлофановые пакеты, словно пытающиеся плыть против грязного течения, – лучше бы спокойно сидел на стульчике в зале ожидания…
Ванька развернулся и, ускоряя шаг, пошёл обратно в город.
– Нет, нет, есть ещё места, где я нужен и где ещё могу, наверное, помочь, не допустить такой беды.
На кордон Ванька пришёл вечером следующего дня. Тёплый вечер начала июня до липкого разморил огромные высокие кедры, не такие монументальные, лохматые сосны и тёмные пикообразные ёлки. Всё это, знакомое с детства величие и устоявшееся годами спокойствие, до восторга захватило его, заболевшую в городе, душу. Он, словно маленький, сорвался с места, перескакивая от одного знакомого дерева к другому, обнимая их стволы, как добрых друзей, и разговаривая с ними, забыв о стягивающих челюсть резинках. Вбежав в окормлённую обвисшими сосновыми прожилинами ограду, Ванька растерянно остановился около дома. Тяжёлая деревянная входная дверь была подоткнута массивной, потемневшей от времени палкой, заменяющей замок. Родителей не было дома, и парень, бросив на крыльцо рюкзак, побежал к загону…
…Губан его словно ждал! Его большая угловатая голова была повёрнута к Ваньке. Увидев его, лосёнок смешно и коряво заскакал навстречу. Растроганный Ванька не остерегаясь, обхватил его голову и прижавшись к ней лицом зашептал в ухо другу:
– Ну, что ты, губоротый? Думал, что уйду я от вас, да? Как бы не так! Нет на земле места, роднее этого и нет его дороже! И пускай они там, как могут, – он заглянул стригущему ушами лосёнку в глаза, увидев в них своё отражение, – а мы здесь будем, как надо!
Губан положил свою тяжёлую морду ему на плечо, поверив Ваньке и согласившись с ним!
10.03.2009 г.
Старики
У деда Прони захворала бабка! Сухая и скорая на подъём, работящая, добрая, некрикливая, всегда встающая раньше него, вдруг, раз! – и не поднялась утром. Он вначале даже не заметил, по привычке быстро одевшись и выскочив до «ветру», но, когда «управившись», зашёл домой, то, чу: что-то не так! Спали они уже лет двадцать порознь – как он говорил: «Уже не помню, когда!» Дед, любитель тепла, устраивался на печке, бабка, не любящая духоты – в дальней тёмной комнате. Как она умудрялась вставать до зари, он не понимал, ведь там не было окон, и «ночь» длилась сутки. Наверное, по природному чутью или внутренним часам, по науке.
Сегодня же его знаменитая, одна на всю деревню полурусская печь ещё не гудит, принося в дом тепло и уют. Дед осторожно вошёл в бабкину комнату и, елозя рукой по стене в поисках включателя, елейно проговорил:
– Ты чё, старая, проспала подъём? Я же тебя просил, ложись где-нибудь на свету…
Из дальнего угла послышался её слабый, какой-то виноватый голос:
– Дед, иди возьми спички, а то убьёшься об стол…
Дед уже ткнулся бедром в угол стола и, беззлобно матерясь про себя, вышел в кухню и взял спички. Выключатель оказался на противоположной стене, около кровати. Он включил свет и удивился, как всё здесь незнакомо.
Он помнил эту комнату в те времена, когда были ещё маленькими дети, тогда, по-«евоному», выключатель был около дверей. Он совсем забыл, что перенёс его сюда с соседом-электриком, ныне покойным, Петром по просьбе тогда ещё крепкой жены своей в 1985 году, когда младший ушёл в армию. Старший тогда заканчивал учёбу в морском институте, и она всё чаще ночевала в этой комнате из-за страшного мужнина храпа.
– Что мне, из-за разовой двадцатиминутной «радости» всю неделю его свист слушать? Ну, уж нет – надо будет, позовёт, а так хоть высыпаться буду!
Ежедневные заботы убивали желания, и уже очень скоро стали они жить по разным сторонам одной избы, встречаясь только на кухне.
В комнате оказалось как-то уютно, и даже отсутствие окна не портило этого впечатления. Половички, сплетённые из разноцветных тряпичных полосочек – на полу; белые и светло-голубые, похожие на снежинки, салфетки – на столе, на трюмо с тёмным зеркалом и на старом огромном чёрно-белом, давно «слепом» телевизоре на безногой тумбочке. Над кроватью, на цветном с горным пейзажем ковре – фотографии. Чуть выше опять они – старинные с одинокими дородными женщинами и усатыми, сидячими, мужчинами (бабки и деды по обе линии), посерёдке – свои: почти с детства до свадьбы и дальше, а ниже всех – современные, какие-то несерьёзные, мелкие, всё больше цветные.
В левом от кровати углу, под потолком небольшой иконостас с потемневшим от времени и забот ликом Николая Чудотворца, обставленный с обеих сторон иконками чуть поменьше. Снизу под полочкой – висячая красивая лампадка с чуть заметным, на удивление живым, огоньком. А за лампадкой, что деда покоробило, – большие фотографии его детей: старшего, сильно похожего на Проню в юности, и младшего, наоборот, вылитая мать! Иконостас сверху задёргивался «грешной» занавеской на леске, но сейчас она была собрана в углу…
Поборóв малодушное желание перекреститься, дед повёл взгляд дальше, знакомясь со всем, как бы впервые.
На фоне чистых, два раза в год белёных, стен – огромный, ещё хрущёвский, шифоньер с плавными углами, жёлтыми торчащими ручками и мутным зеркалом. И среди этой чистоты и серьёзности – маленькая голова жены, повязанная по ресницы белым простым платочком, её лицо, иссечённое временем.
– Ты что это, старая? – Проня склонился над кроватью, – захворала? Ты, поди, простыла, я думаю, вот и заболела. И что болит? – он приготовился слушать историю болезни.
Бабка открыла чуть красные глаза и тихо сказала:
– Ничего…
– Это как? Не чувствуешь?
– Это – ничего не болит. Просто встать не могу, слабость.
Дед, не знакомый с понятием «слабость», усмехнулся и, махнув рукой, заключил: «Заболела!»
– Я печку налáжу, пельменей тебе сварю и сбегаю к фельдшеру, пускай придёт тебя потрогат. И фельдшер – баба, она ваши болезни знает, не то что наши!
Бабка закрыла глаза, а он пошёл топить печь, вспоминая случай, произошедший с ним лет пять, нет, десять, назад…
… Кум его, Федор Ильич, сосед через огород, позвал его в гости просто так, от души. В процессе опробования вчерашнего самогона, после третьего полстакана, кум вспомнил, что перестелил полы в стайке у скота.
– Знаешь, – хвастал он, – сейчас пол я настелил с уклоном в пять градусов, и все отходы скотские очень легко убирать: жидкие стекают сами, а твёрдые, подтолкнул чуток лопаткой и – в канавку. Потом грузи в тележку и увози.
Проня, конечно, похвалил его, но кум настоял посмотреть. Когда зашли, его коровы как раз недавно опорожнились, и Проня, на грех в кирзачах, скользнул одной ногой и сел почти на шпагат. Между ног, в паху, что-то хрустнуло, но, разгоряченный алкоголем, он значения не придал. Однако утром встать не смог от сильной боли, вызвали фельдшерицу – тогда ещё совсем молодую дородную девушку.
Разговор Прони и врачихи потом живо пересказывал всем кум, в принципе, сам во всём и виноватый.
– И вот заплывает она, большая, как баржа, моет руки и подходит к Проне. А я смотрю на него и вижу: начал он сомневаться в правильности хода. Говорит ей: «Не надо, уходи». А она: «Почему это? Будьте любезны, уж покажите, что болит» – и стягивает с него одеяло. Проня глаза вылупил, одеяло руками держит и орёт, что у него там ничего нет, чего, мол, смотреть? Она – в непонятках: «Я врач, меня стесняться нельзя, к тому же я уже всё это видела раньше!» А он: «Вот у кого видела, у того и лечи!» Она ему: «Вот вы могли там что-то потянуть, и это повлияет на вашу половую репродуктивность». И опять одеяло тащит. А Проня от этих слов вообще ошалел! Откуда же он знал, что у него там вместо того что есть, – половая репродуктивность! Он, ажно всплакнув немного, говорит: «Если эта репродуктивность не перестанет болеть, я сам в больницу к хирургу поеду, а сейчас ослобони от греха, уйди». Она стоит и головой качает: «Зря вы так, я бы смогла вам помочь». А он с визгом в ответ: «Я со своей бабкой сорок лет живу, она и то мне уже не поможет!» Врачиха ему: «Вы что имеете в виду?» А он ей: «А вы?» Плюнула она: «Ну, и болейте!» И ушла. Вытер Проня пот с лица, выпросил у меня самогону на втирания и через неделю бегал, как конь, по деревне…
Дед, улыбаясь воспоминаниям, растопил печь, сварил штук двадцать пельменей и поставил в тарелке остывать. Вспомнил, что бабка любит пельмени с хренодером, нашёл его в пол-литровой баночке под порогом и
положил на пельмени горку. В стакан налил настоявшегося чая из душицы и понёс бабке. Поставил всё около кровати на стул и повторил:
– Ешь, я за врачом пойду.
Она открыла глаза и еле слышно ответила:
– Хорошо. Иди. Я поем…
* * *
Жизнь Проня помнил до 90-х. В деревне было весело и хорошо! Все жили как бы одной семьей и знали своё дело: работали на ферме, сажали огороды и даже строили жильё. И от этого было спокойно. Всякие неурядицы решали сообща. По крайней мере, были объединены, пускай чуть утопической, но целью, пускай не слишком настоящими, но правилами. Потом вдруг как-то быстро, совершенно непонятно для большинства, стало плохо: не нужно, не важно, не выгодно. За несколько лет развалили то, что строили почти столетие. Дети из города писали всё больше о страшном, а они с бабкой, как могли, помогали им. Старший в 90-х уехал на Восток, младший подался в бизнес…
Проня подошёл к больнице и, тщательно обметя ноги, вошёл. Врачица, как обычно, хотела пошутить, но, посмотрев ему в лицо, не стала.
Проня, переведя дух, начал:
– Бабка моя что-то захандрила, не встала сегодня. Говорит, устала, а что это за болезнь? Вот и я говорю – простыла, поди. Ты приди, – он окинул взглядом большую врачицу, – приди, дочка, посмотри её. А я уж тебе картошечки, огурчиков солёных, помидорчиков…
Врачица улыбнулась и пообещала. Дед вышел…
… Старший стал моряком, помощником капитана, потом капитаном. Сообщал о себе редко, но метко. За двадцать лет приезжал три раза.
Младший, резво начав бизнес, во время дефолта прогорел. Где-то прятался от долгов, изредка присылая письма. А в 99-м, весной, пришло последнее, где он написал, что устроился на хорошую работу где-то далеко. Написал, чтобы не волновались и не искали и что он обязательно скоро приедет. Всё, с тех пор – ни слуху, ни духу. И судьба теперь их – ждать.
Мир двух старых людей ограничился домом, огородом и хозяйством.
За дом отвечала бабка, за хозяйство – дед, огород – общий.
Кошка отходила к дому, к хозяйству – старая лошадь, по годам конским, ровесница дедов, и собака, тоже старая, проведшая жизнь на цепи, охраняя
хозяйство. И всё. Даже телевизора – друга всех стариков России – не было. Однажды дед посмотрел, как убивали солдат в Чечне. Ошарашенный увиденным, вырвал из него шнур , а на вопрос бабки ответил:
– Не могу судить, но, смотря такое, могу согрешить. – Что он имел в виду, она не поняла, но решение его приняла…
И остался у них от мира маленький телефон, по которому раз в месяц-два звонил им старший сын.
Бабка лежала так же, как утром. Пельмени уже подсохли, чай совсем остыл.
– Ты чего не ешь? – дед нагнулся над её лицом и, ощутив прохладу, испугался. Но когда уже хотел закричать, она вдруг открыла глаза и чуть улыбнулась.
– Я хотела поесть, только повернулась на бок, голова кружится, думаю, протяну руку и скувыркнусь на пол…
Дед понял свой промах, разделся, помыл руки, и, подпихнув бабке под спину подушку, стал кормить её, как маленькую. Но только она была действительно слабой, и жевать пельмень не смогла. Дед растерянно смотрел, потом, подобрав пельмень, выпавший из её рта, участливо спросил:
– Может, я пожую? Как ты?..– бабка закрыла глаза и прошептала: – Пить!
Дед поднёс стакан с чаем, но, наклоняя его, не смог унять дрожи в руках и почти всё вылил ей на грудь. «Что же это?» – он вздохнул и хотел повторить, но бабка отказалась: «Хватит».
«Может, соску? – с отчаяньем думал он, чувствуя, как закипают слёзы в глазах, – нет, лучше соседку попрошу!»
– Я сейчас управлюсь по хозяйству, врачиха придёт, может, чё посоветует. Ну, а потом уже посмотрим, что делать.
Бабка снова еле заметно шевельнула головой, и он, чуть успокоенный, вышел…
* * *
В кухне неуютно. Вроде, всё, как обычно – чисто, тепло от печи, ещё не мусорно после вчерашней бабушкиной уборки. Но на столе – нож не на месте, кастрюля с плавающим в ней забытым пельменем, открытая банка хренодёра. Дед сиротливо оглянулся на дверь и с опаской подумал: «А вдруг помрёт?» —
и, уже не стесняясь, перекрестился, добавив: «Не дай, Господи, не позволь, Отец родной!..»
Потом покрошил в пельменный бульон чуть подсохшего хлеба, и, посомневавшись, для полноты – вчерашнего варёного картофеля, пошёл «управляться». Собака, поняв, что идут к ней, вылезла из будки и, натянув цепь, задорно завиляла хвостом, болтаясь от этого вся. Её, маленьким нескладным щенком, подобрал дед лет пятнадцать назад, назвал за длинноту и нескладность Воблой и после «детской» месячной верёвочки определил на цепь. Она честно несла службу, звонко лая на чужих, и по ночам, регулярно, два раза в год, «неизвестно откуда», приносила щенят, которых, по просьбе деда, за бутылку топили местные алкаши. Сам Проня очень переживал по этому поводу, но оправдывал себя тем, что пока слепые, они без души, попутно стыдя за такую распутность Воблу. Вобла все понимала, но сделать ничего не могла – и всё повторялось. «А вот теперь – думал Проня, и надо бы щеночка, но собака, как назло, уже года три, а то и пять, без помётов.»
Он поставил чашку около будки и назидательно сказал: «Всё съешь – чашку унесу, а то остынет». Вобла поняла, поблагодарила деда: «Ахва» – и стала есть.
Проня улыбнулся и пошёл к главной своей любви (после бабки) – старой лошади, которую очень давно назвал Сказкой.
* * *
Он купил её у молодого, нечистого на руку, разбитного весёлого ветеринара. Купил 30 декабря 1966 года, когда вместе с ним обмывали рождение второго сына. Ветеринар пьяно доказывал Проне, что лошадь ему сейчас очень нужна:
– У тебя же теперь два сына! И покос нужен большой, и дрова, чтобы тепло им было. А трактора нынче не допросишься! – и он убедительно мотал указательным пальцем у Прони перед глазами. – А подрастут, научишь их джигитовать, – он опять закрутил пальцем перед лицом, – и будут они сильные и смелые! – Проне очень хотелось отломить этот палец, но последний аргумент его убедил, и он согласился, от «греха подальше»…
– Только скажи, а где ты взял жеребёнка, сам сподобил или его твоя корова отелила?
Ветеринар хмурил лоб, вспоминая, откуда у него жеребёнок, если лошади своей нет, но придумать ничего не смог. Сошлись на том, что это из соседней деревни, и за десять полновесных червонцев Проня перетащил от ветеринара завёрнутого в тряпку жеребёнка, который к тому же оказался жеребухой.
Получилось так, что Сказку, родившуюся в колхозном стаде от крепкой кобылы Речки и украденную ветеринаром, Проня увидел и полюбил, пускай меньше, но раньше сына, которого уже звал Захар!
31-го он прекратил пить, и 1 января колхозная «скорая» привезла домой его сына! Проня затащил его в дом, размотал все тряпки и с упоением смотрел на орущее чудо с перевязанным поперёк животом, с маленькими кукольными ручками и ножками и с этим, ни с чем не сравнимым, запахом сладкой прелости и женского молока! Потом целовал и обнимал Капу, благодаря её за это, ещё одно в его жизни, чудо. В общем, теперь уже по-трезвому, порадовались все вместе новому человеку и, внятно объяснив сыну Фёдору, кто для него Захар, стали жить!..
Дед вошёл в тёплый, светлый и чистый сарай и сразу увидел Сказку, уже стоявшую посреди загона. Она, конечно, узнала хозяина и, немного похрапывая, запряла ушами.