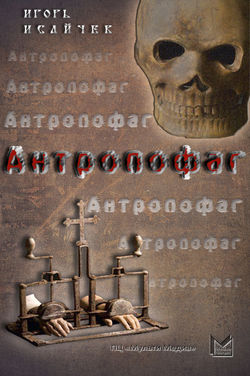Читать книгу Антропофаг - Игорь Исайчев - Страница 1
Глава 1. Солдат
ОглавлениеО приходе в этот мир Ефим известил округу истошным воплем, до икоты перепугавшем даже видавшую виды дебелую повитуху, аккурат в Петров день 1784 года от рождества Христова.
Отец его, колченогий Пахом, с самой юности любивший крепко заложить за воротник, уже в зрелом возрасте сошелся с пересидевшей в девках, даже по деревенским меркам уж слишком простоватой Параськой. Вечерами, перебравши дрянного вина, на забаву соседям он развлекал себя тем, что с безумным звериным рыком таскал жену за косы по двору. Затем пинал со всего маха в живот и, несмотря на гулявший в голове хмель, недрогнувшей рукой с одного удара рассекал сыромятиной вожжей ветхую ткань сорочки и живую кожу под ней. Однако нежданно-негаданно для общества на старости лет умудрился прижить от нее нежеланного отпрыска.
Крестили Ефима, едва ли не годовалым, да и то исключительно по настоянию местного батюшки, долго стыдившего непутевых родителей. В три года отроду малец едва не отдал Богу душу, подхватив свирепствующую в губернии и косившую всех без разбора черную оспу. Но, на удивление, страшная болезнь не пристала ни к ходившей за сыном Параське, когда-то в детстве перемогшейся схожей заразой, подхваченной от коровы, ни к отцу-пьянчужке, вообще благоразумно сбежавшему в разгар эпидемии в лес. Самому же, чудом выкарабкавшемуся Ефиму, на вечную память остались глубокие темные рытвины по всему телу, особенно заметные на щеках.
Так они и жили втроем, не шатко, ни валко. Ефим подрастал, с малолетства приучаясь к работе по хозяйству. С семи лет он уже вовсю браконьерил с отцом на арендаторском озере, помогая расставлять сети, а затем выпутывать из них рыбу, которую Пахом за гроши сбывал путникам на тракте.
Как-то по осени, когда ближе к закату Ефим привычно собрался на промысел, отец нежданно велел остаться на дворе, отговорившись тем, что в этот раз у него уже есть помощник. Не привыкший задавать лишних вопросов мальчишка послушался, но, ни на следующее утро, ни через неделю Пахом не вернулся, бесследно сгинув вместе с лодкой.
Параська, на словах не раз принародно грозившая отравить мужа за беспричинные побои, после его пропажи, казалось, окончательно лишилась остатков рассудка. Забросив дом и сына, она, ревя белугой, оборванная и простоволосая, целыми днями металась по заросшим топким берегам, разыскивая хоть единый след исчезнувшего Пахома, возвращаясь затемно, чтобы с первыми петухами вновь приняться за свои тщетные поиски.
Когда же однажды не вернулась и мать, всю бесконечную ночь простучавший зубами со страху, ни на мгновение не сомкнувший глаз Ефим, с проблеском зари со всех ног кинулся на озеро. В тайном месте, где обычно прятал лодку отец, он увидел леденящую кровь картину. На нижнем суку старой, неохватной березы с размозженной молнией вершиной, на непонятно как оказавшихся тут вожжах, под порывами свежего утреннего ветра медленно покачиваясь, висела Параська. Помертвевший мальчишка застыл, прикипев взглядом к неузнаваемому, набрякшему и посиневшему лицу. Но особенно потрясло его зрелище вывалившегося сквозь черно-фиолетовые губы чудовищно распухшего багрового языка.
Помутневший Ефим поначалу никак не мог понять, кто же так надрывно и отчаянно воет, пока надорванную глотку не опалило нестерпимой болью. Его ноги подкосились и, сломавшись в поясе, он упал на колени, со всего маху уткнувшись лбом в податливо-мягкую землю. Когда же немного рассеялась тьма в глазах, Ефим, не чуя под собой ног, и захлебываясь, наконец прорвавшимися слезами, кинулся обратно в село.
По указанию старосты, тут же распорядившегося направить гонца в уезд, покойницу сняли и пристроили в леднике. Прибывший на третий день в сопровождении строгого сухопарого доктора соцкий, в селе задержался недолго. После поверхностного осмотра тела ожидаемо признал кончину Параськи типичным самоубийством, и дозволил погребение. На пропажу Пахома полиция и вовсе не обратила никакого внимания.
В одночасье осиротевшего двенадцатилетнего Ефима приютил староста. Он же, на вскоре состоявшемся сходе, взял на себя заботу о мальчишке, решительно отвергнув предложение отправить его послушником в монастырь. Не избалованный заботой Ефим, пожалуй, впервые в жизни испытал искреннюю благодарность к суровому властному мужику, уже много лет державшему общину в ежовых рукавицах.
Семь лет как один день, ни словом, ни взглядом не смея перечить благодетелю, и не отнекиваясь от любой, даже самой черной работы, он от зари до зари гнул спину в растущем год от года хозяйстве старосты, пока не случилось ему невольно подслушать не предназначенный для чужих ушей разговор.
В тот роковой вечер конца лета, замотавшийся за день Ефим за какой-то мелочью заглянул в овин, ненадолго присел в прохладе перевести дух, да неожиданно для себя прикорнул, отвалившись к стене и свесив голову на грудь. А разбудили его приглушенный говор за стеной строения.
Ощущая неловкость от неурочного сна, Ефим, стараясь не раскрыться, заглянул в щель меж неплотно уложенных бревен. Первым он высмотрел младшего сына старосты, известного баловня отца, здоровенного, косая сажень в плечах тугодума с грубым, и так же как у Ефима посеченным оспой лицом. Сам же стоящий рядом староста, разражено стуча костяшками согнутых пальцев по прорезанному глубокими морщинами загорелому лбу, шипел растревоженной гадюкой:
– Болван! Дубина стоеросовая! Четверть века в солдатах гнить вознамерился? Зазря я, что ли грех смертный на душу брал, когда упыря этого хромого топил, а потом женку его полоумную вздергивал? Да опосля ублюдка их столько годов на своем загривке тянул? Тебя же, дурень великовозрастный, от рекрутчины избавлял. Ужель я вот этими самыми руками, – тряс он заскорузлыми от тяжкого крестьянского труда ладонями перед самым носом огорошенного детины, – отдам свою кровинку ворогам на растерзание?.. Завтрева же этому выродку лоб забреют. Третьего дня еще все бумаги выправил. Лишь бы стервец не прознал ничего, да ноги не сделал. Однако ничо, – погрозил староста хищно скрюченным указательным пальцем староста в сторону близкого леса. – Я тоже не лыком шит. Афоньку за ним доглядать приставил. Небось, не упустит.
Оглушенный таким изощренным коварством Ефим обмер, до крови прокусив ладонь, которой зажал себе рот, чтобы не заорать от обиды, рванувшей душу нестерпимой болью. Он застыл, не в силах пошевелиться, а перед его глазами как наяву все качалось, неторопливо оборачиваясь вкруг себя, висевшее на березе мертвое тело…
На следующее утро с сеновала, где отсиживался Ефим под неусыпным надзором работника Афанасия, его, ухватив стальными пальцами за щиколотки, бесцеремонно стащил бравый унтер в пестром шутовском наряде, из которого больше всего резали глаз ярко-зеленый камзол, несуразная треуголка и куцая, обильно посыпанная мукой коса.
Унтер, коротко чиркнув гусиным пером в угодливо подсунутой старостой бумаге, защелкнул на запястьях Ефима холодные стальные кандалы грубой ковки и небрежно пихнул его в запряженную вислопузой кобылой телегу. В ответ на немой укор в глазах хозяйки дома, испуганно прикрывшей рот уголком платка, хмуро шевельнул кончиком залихватски подкрученного уса:
– Э, тетка. Это он щас такой квелый. А вот как в лес нырнем, авось прочухается и вмиг стрекача задаст. Ищи его потом, свищи. С вас же, случись чего, по круговой поруке за него и спросится. Да и мне, опять же морока лишний раз в такую даль еще за одним мотаться.
Крутившийся рядом староста, ожегшись о ненавидящий взгляд начавшего потихоньку приходить в себя Ефима, поддержал унтера, незаметно опуская ему в карман медную монету:
– И то верно, служивый, ты уж за ним особо присмотри, чтоб не сбежал ненароком. Вон, как зыркает, звереныш. Столь годов от семьи последний кусок отрывал, кормил-поил, а теперича, заместо благодарности, того и гляди, в глотку зубами вцепится.
Равнодушно отмахнувшийся от старосты, но, тем не менее, не отказавшийся от подношения унтер безучастно буркнул:
– Мне ваши дела без интереса. Отворяй поскорей, хозяин, ворота. До темна поспеть надобно…
Глубокой ночью, несмотря на множество возможностей даже не помышлявшего о побеге Ефима заперли в сырой и тесной келье с тремя такими же бедолагами из соседних деревень. По странному выкрутасу судьбы острогом стал тот самый монастырь, в который когда-то намеревался пристроить его на послушание общий сход.
Широко зевающий и с кряхтеньем почесывающий поясницу унтер только перед самой тяжелой, специально обитой железом дверью, снял с Ефима оковы и, подтолкнув за порог, в промозглую тьму не освещенной даже лучиной кельи, сочувственно крякнул:
– Вот и зачалась, парень, твоя служба государю…
Подняли их до свету, выдав по черствой краюхе и глиняной крынке ледяной воды, а затем, по одному выгнали на двор, где два костлявых монаха в черных подрясниках, при тусклом свете закопченного фонаря сноровисто сбрили каждому волосы на лбу до самой макушки.
Потрясенный еще одним напрасным унижением Ефим попытался, было, вывернуться из цепких пальцев чернецов:
– Почто, дядька, уродуешь? Чай в солдаты везешь, а не в каторгу? – с отчаянием взвыл он, и тут же захлебнулся от хлесткой затрещины, выбившей из глаз целый рой разноцветных искр.
Унтер, будто и не снимавшей на ночь свой клоунский камзол, с посыпанной свежей мукой косой, потирая ладони, назидательно произнес:
– Не дядька, балбес, а господин фурьер. И заруби себя на носу, тля, – с этой самой минуты ты солдат. Посему выходит, со всеми своими потрохами, до распоследнего волоса, принадлежишь государю императору и воинскому начальнику. А так как командир для тебя сейчас я, то ты, скотина безмозглая, будешь безропотно исполнять все мои приказы. Уяснил?
Не дожидаясь ответа, он умело саданул каменным кулаком Ефиму под ложечку и, безучастно разглядывая корчившегося от непереносимой боли, не имеющего сил вздохнуть, парня, как ни в чем не бывало, продолжил:
– Повелю – дерьмо жрать будешь. А вздумаешь ослушаться, шпицрутенов вдоволь отведаешь. Коли из-под них живым выйдешь, язык-то навеки прикусишь, – унтер добыл из кармана коротенькую трубку-носогрейку. Пока монахи заканчивали брить Ефима, набил ее, раскурил, высекая огнивом весело брызнувшие искры, и неожиданно как-то очень по-отечески добавил: – Такие вот дела, парень…
За пять месяцев в учебной рекрутской команде, слившихся для Ефима в один безумный бесконечный день, с короткими перерывами на мертвый сон, его обучили проворно натягивать обмундирование, маршировать в строю и в одиночку, обращаться с тяжеленным, длинным, почти в человеческий рост ружьем, и даже позволили сделать несколько выстрелов по соломенному чучелу, отнесенному на сто шагов. Там же старшие товарищи, а большинство рекрутов, таких же, как и он господских, да казенных крестьян, чуть разбавленных мещанами из глухих уездных городков, были на десяток лет старше двадцатилетнего Ефима, пристрастили парня к курению табака.
За всю свою деревенскую жизнь Ефиму всего-то раз пришлось быть свидетелем телесного наказания, когда два односельчанина попались в господском лесу. Мужикам здорово подфартило, что при них не оказалась ни снастей, ни добычи, и поэтому они получили всего-то по тридцать ударов розгами. Для проведения показательной порки барин прислал личного экзекутора, виртуоза своего дела, который, на спор, самой тонкой лозой рассекал плоть до кости. Но вездесущий староста, так же как и все остальные имеющий рыло в пуху, тогда умудрился крепко подпоить палача, спустя рукава покаравшего нарушителей отделавшихся лишь вспухшими задами.
С полновесным же наказанием шпицрутенами Ефим, поневоле вспомнив угрозу забрившего его унтера, столкнулся под конец пребывания в учебной команде. Как-то ничем не примечательным утром, сразу же после подъема новобранцев построили на заснеженном плацу в две длинные шеренги с барабанщиками на правом фланге. Суетливые младшие унтера с охапками ореховых палок побежали вдоль строя, вручая по увесистому пруту каждому солдату. После этого на середину вышел майор и зачитал приказ о наказании. Из него следовало, что два инородца, то ли из башкир, то ли из татар, к которым особо придирался въедливый фельдфебель, задумали его убить, а затем сбежать. Однако один из них, тот, что был помоложе, перед самым побегом одумался и донес на приятеля, на поверку оказавшегося скрывавшимся под чужим именем известным разбойником. Донесшему назначили наказание наименьшее, всего две тысячи ударов, а второму душегубу, припомнив прошлые грехи, выдали по-полной, все дозволенные двенадцать тысяч.
После того как, огласив приказ, майор в компании капитана и армейского лекаря поднялся на крыльцо казармы, под барабанную дробь вывели приговоренных. Выбранный ими в жертву фельдфебель сорвал с дрожащих совсем не от мороза, а от ужаса предстоящего рекрутов и небрежно скинул наземь надетые прямо на голое тело шинели, затем лично приспустил им штаны, обнажая тощие смуглые ягодицы, и привычно обернулся, выглядывая полкового священника. Но тут же хлопнул себя ладонью по лбу, презрительно сплюнув на снег и негромко, но слышно для стоявшего неподалеку Ефима, буркнул в прокуренные усы:
– Совсем запамятовал – это ж нерусь некрещеная. Вот теперь пущай своего Аллаха о милости молят, а мы и поглянем, поможет он, аль нет, – и принялся привязывать первого беднягу к ружейному стволу.
Едва-едва разумеющий грамоте Ефим сбился со счета, сколько раз проследовала мимо него жуткая процессия. Возглавлял ее долговязый рядовой из старослужащих, тянувший за собой прикрученного грубой пенькой к концу ствола наказуемого. Плечом к плечу с ним шествовал второй солдат, направлявший начищенный до зеркального блеска штык прямиком в живот несчастному, чтобы тот не вздумал ускорить шаги, невольно стараясь быстрее разделаться с экзекуцией. А по бокам, не давая ни на вершок уклониться от града хлестких ударов, его теснили двое специально приставленных рекрутов.
Захлебывающихся криками инородцев еще не дотащили до конца строя, а их плечи и спины уже превратились в сплошное кровавое месиво. Палки, со свистом разрезая воздух, с омерзительным хлюпаньем выбивали из истерзанной плоти багровые брызги, липкой моросью оседающие на судорожно стискивающих их кулаках, рукавах и даже закаменевших лицах новобранцев.
Когда горемык в очередной раз волокли мимо Ефима, у него мелькнула крамольная мысль хоть чуть-чуть смягчить удар. Но, словно разгадав намерение дать слабину, надзирающий за порядком фельдфебель тут же опалил его предостерегающим взглядом, в котором отчетливо читалось: «Только попробуй, сразу на том же месте окажешься!» – и рука сама собой, стремительно описав полукруг, со всего размаха влепила ореховый прут в размозженное податливое мясо.
Когда младший из инородцев, не выдержав и первой тысячи ударов, без памяти обрушился под ноги конвоирам, с крыльца неспешно спустился помахивающий резной тростью доктор. Недовольно поджав губы, он ткнул металлическим наконечником в окровавленное тело и велел облить его ледяной водой. Затем слабо стонущего бедолагу подняли из розовой пенистой лужи, погрузили в тележку от зарядного ящика, и все началось сызнова. Однако еще через пятьсот палок в лазарет увезли уже обоих, а майор с крыльца объявил об отсрочке экзекуции до поправки наказуемых.
Перед самой отправкой в полк солдатская молва донесла до Ефима, что оба, так и не приходя в себя, через три дня преставились…
После окончания рекрутского обучения нежданно-негаданно Ефим угодил в конную роту недавно образованной по указанию самого Аракчеева артиллерийской бригады. Впрочем, что собой представляет загадочная бригада, Ефим особо не задумывался. Теперь для него миром стал четвертьпудовый медный единорог, а семьей суровый фейерверкер Иван Митрич, да пять обслуживающих пушку канониров.
Но, не успел новоиспеченный артиллерист за короткое лето толком освоиться на новом месте, как ранним осенним утром рота была поднята по тревоге и, выдвинувшись из расположения, влилась в бесконечную колонну войск. На терзающий всех без исключения вопрос: «Куды ж на сей раз гонют-то? Никак опять война?» – ответил вернувшийся от капитана фейерверкер. Пустив лошадь шагом вслед за подскакивающим на выпирающих из разъезженной колеи булыжниках единорогом, унтер на ходу набил короткую носогрейку, ловко управляясь с огнивом, запалил табак в трубке, и только выдохнув плотный сизый клуб, мрачно заговорил:
– Такие вот дела, братцы… Австрияков, ети их мать, выручать идем. Наподдали по первое число союзничкам французишки. Теперича наш черед пришел с ними лбами треснуться, – он машинально потер обветренную, прорезанную глубокими морщинами кожу под куцым козырьком кивера, и добавил: – Лишь бы наши лбы крепче оказались.
Утомительный, по пятьдесят-шестьдесят верст за световой день поход, растянулся на долгие бесконечные недели. Пехота валилась с ног, несмотря на то, что своими ногами солдаты шли налегке не более чем по десять верст, меняясь друг с другом местами на телегах с оружием и амуницией. В колонне, воровато оглядываясь по сторонам, шептались о несметной силе, собранной Наполеоном и о предательстве австрийцев, без боя сдавших свою столицу. Как-то услышав подобные речи меж канониров, Митрич, пригрозив пудовым кулаком паникеру, злобно рыкнул:
– Никак шея по петле соскучилась, балабол бестолковый? По-нынешнему военному времени за такие разговорчики вмиг на ближайшем суку пристроят, чтоб другим неповадно было. – Отвернувшись с брезгливой миной от побледневшего со страху молодого артиллериста, он специально повысил голос: – И зарубите себе на носу на веки вечные, что не родился еще тот супостат, коей сумел бы рассейского воина превозмочь!
В этот миг, в душе тайно робеющего перед неизбежной схваткой Ефима, что-то сдвинулось. Ледяным комком настывающий под ложечкой страх растопила окатившая с головы до ног жаркая волна гордости за необъятную непобедимую отчизну, которую ему, как в былинные времена, выпала удача защищать от ворога…
Пройдя всю Галицию, Австрию и Баварию, тридцатипятитысячная русская армия под командованием Кутузова остановилась вблизи города Браунау, где стало известно, что вместо ожидаемых союзных австрийцев в пяти дневных переходах сосредоточилось сто пятьдесят тысяч опьяненных победами, рвущихся в бой французов.
Главнокомандующий был вынужден скомандовать отступление, и войска, разрушая за собой переправы через реку Инн форсированным маршем двинулись на Ольмюц, навстречу подходившему из России Буксгевдену, стараясь как можно дальше оторваться от наступающего на пятки противника.
Через Дунай русская армия переправилась у Маутена 28 октября 1805 года. Саперы тут же подорвали мост, обломки которого, едва различимые сквозь густое облако грязно-серого порохового дыма сначала взметнулись в низко нависшее, хмурое небо, а затем с громким плеском обрушились в свинцовую воду, породив захлестнувшую берег волну.
Ефим, вместе с остальными готовивший позицию для пушки, непроизвольно вздрогнул, когда по ушам ударил тугой грохот взрыва, и застыл, было, завороженный никогда невиданным ранее зрелищем столь грандиозного разрушения, но тут же получил крепкий пинок от фейерверкера, гаркнувшего сорванным голосом:
– Шевелись, дармоеды! Француз ждать не будет, пока вы тут окрестностями налюбуетесь!
Озверевший унтер как в воду глядел. И часа не прошло, как на дальний, пологий берег выскочили конные в синих мундирах. Увлеченно занятый укреплением малого редута Ефим заметил их только после череды глухих хлопков ружейных выстрелов. Он разогнулся и вытянувшись во весь рост, из-под козырька ладони попытался рассмотреть, что же такое там происходит, когда по меди пушечного ствола звонко щелкнула первая пуля.
Насыпавший рядом вал бывалый канонир мощным толчком в спину сшиб Ефима наземь, злобно прошипев:
– Куды ж ты прямиком под пули-то лезешь, сопляк? Жить наскучило?
А со всего размаха приложившийся носом о земляной бугор Ефим, утирая выступившие от боли слезы, огрызнулся:
– Не шали, дядька. Мимо же пролетело.
– Это сейчас мимо, – стягивая его за штаны в укрытие, назидательно откликнулся артиллерист. – Так же будешь чучелом огородным на виду торчать, следующая непременно в башку угодит.
Тем временем к гарцующим на берегу и беспорядочно палящим через реку кавалеристам присоединились валом выкатывающие к урезу воды серо-голубые пехотинцы, волокшие с собой длинные лодки.
Залегший орудийный расчет подстегнула прокатившаяся вдоль редута команда: «Заряжай!» Больше не обращая внимания на все чаще жужжащих в воздухе свинцовых пчел, прислуга бросилась к единорогу, который, подпрыгнув на лафете, с оглушительным грохотом выплюнул первую гранату, рванувшую в гуще суетившейся вражеской пехоты. Тут же откликнулись соседние пушки, добавляя хаоса в рядах французов.
Однако, несмотря на потери, противоположный берег продолжал наводняться войсками противника, а на взгорке, прямиком на дороге, ведущей к разрушенному мосту, развернулась батарея из восьми орудий, первым же прицельным залпом накрывшая русскую позицию.
Подхвативший с тележки заряд картечи Ефим вдруг ослеп. Ему в лицо словно выплеснули целый чугунок жидкой, слизисто-теплой каши. Каким-то чудом умудрившись удержать поклажу, он рукавом шинели кое-как протер глаза, и в ужасе отпрянул, чуть не наступив на расколотую пополам, пустую человеческую голову. С трудом оторвавшись от жуткого зрелища грязно-желтых, в бордовых потеках внутренностей черепа, он тут же наткнулся взглядом на свесившее через кромку недостроенного редута обезглавленное прямым попаданием ядра тело, еще продолжавшее фонтанировать черной кровью из размочаленного обрывка шеи.
Отчаянный вопль: «Заряд!!!» – вырвал Ефима из сковавшего ледяным панцирем оцепенения. Моментально забывая обо всем, он рванулся к орудию и едва успел передать гранату с рук на руки, как вокруг часто защелкали пули, одна из которых впилась в спину заряжающему. Тот глухо охнул и, закатив глаза, медленно осел.
Ефим отчаянно чертыхнулся, и судорожно припоминая, то чему его учили на полевых занятиях, выхватил заряд из сведенных предсмертных конвульсией пальцев убитого канонира, загнал гранату в остро разящее сгоревшим порохом, закопченное нутро пушки, осадил ее банником и отскочил, освобождая место наводчику.
А все пребывающие и пребывающие французы вовсю переправлялись через вспененную султанами разрывов реку. Передним лодкам до берега уже оставались считанные сажени. Размазав разодранным рукавом, грязь по пылающему потному лицу, и поправив сбившийся набок кивер, Митрич озабочено крякнул:
– Эх, братцы, сдается мне, не удержать нам басурмана. Без подмоги все здесь поляжем… Однако делать нечего. Двум смертям не бывать, а одной не миновать… Заряжай!.. Наводи!.. Пли!..
Единорог, окутавшись дымом, с грозным рявканьем подскочил, сметая картечью выскакивающих из ближней лодки французов. Ефим, ставшими от бурлившего внутри возбуждения необычайно зоркими глазами отчетливо видел, как пронесшаяся над водой свинцовая метель беспощадно кромсала человеческие тела. Она с невероятной легкостью, будто навостренное умелой рукой железо сухой хворост, перерубая, а то и напрочь отрывая конечности, щедро залила веселую синь мундиров алой, парящей в стылом воздухе кровью.
Но, как бы ни старались артиллеристы, сами один за другим гибнущие под ураганным огнем противника, первая цепь солдат в ярко-голубых мундирах, стреляя на ходу, уже карабкалась по крутому косогору на штурм редута. Как чертик из шкатулки, выскочивший из-за спины пушкарей старший над приданной арьергардному отряду командой из трех единорогов юный юнкер, с непокрытой головой, в перепачканном землей, гарью и кровью мундире, звонко крикнул:
– Позиции держать!.. Штыки примкнуть!.. К штыковому бою приготовиться!..
Тяжко вздохнувший по правую руку от Ефима бомбардир перекинул через голову ремень, доставая висевшее за спиной ружье. Сноровисто загнав шомполом пулю в ствол, хрустнул пружиной, взводя курок. Вскинув оружие к плечу, он выстрелил в сторону подступающего неприятеля, поневоле отступив на шаг, отброшенный мощной отдачей. Затем снял с поясного ремня трехгранный штык, и с усилием насадив его на конец ствола, довольно буркнул:
– Ну, теперь дело будет. Ох, и порезвимся, вдоволь кровушки расплещем. – И повернувшись к оторопевшему парню, озорно подмигнул. – Не тушуйся, молодец, к закату как пить дать всей компанией пред Господом нашим предстанем. Он-то всем по заслугам и выдаст.
Привалившись спиной к лафету, под визг роями пролетающих над головой пуль Ефим, прилаживая штык на ствол, с какой-то небывалой легкостью во всем теле, отстраненно подумал: «Верно, дядька сказал. Не удержимся мы. Порешит нас француз», – но мысль о неминуемой скорой смерти, против ожидания, не вызвала страха, а напротив, пробудила внутри залихватскую бесшабашность. У него даже руки раззуделись ухватив ружье наперевес, тотчас броситься в отчаянную атаку. А там уж, будь что будет.
И тут, когда Ефим, поддавшись порыву, уже напружинил ноги, чтобы вскочить, до его слуха вдруг донесся дробный перестук множества копыт. В следующее мгновение прямо через редут понеслась конная лава. Подоспевшие в решающий миг гусары Павлогорадского полка, стремительно скатываясь по косогору, текущему желтым песком под копытами широко расставляющих задние ноги лошадей, разъяренными дьяволами обрушились на успевшую форсировать Дунай французскую пехоту.
Еще мгновенье назад распрощавшиеся с жизнью русские артиллеристы воспряли духом, и беглым огнем сначала разметали прислугу вражеской батареи, повредив при этом две пушки, а затем принялись картечью выкашивать все живое на противоположном берегу и топить оставшиеся на воде лодки. Как заведенный мечущийся от зарядного ящика до казенника пушки Ефим, не заметил, как вокруг сгустились ранние сумерки глубокой осени. И когда он подскочил к единорогу с очередным зарядом, с ног до головы покрытый копотью Митрич, утирая сочащуюся из глубокой царапины через всю щеку сукровицу, осадил его, хлопнув тяжелой ладонью по плечу и хрипнув сорванным голосом:
– Шабаш малый. Кажись, слава те Господи, – фейерверкер размашисто перекрестился, – на сей раз отбились. Не иначе как к ночи отступим.
Опытный вояка, как водится, вновь угадал. Ближе к полуночи, когда гусары, подобрав своих раненых и убитых, ушли, а раненых французов погрузили на телеги санитары из бившегося по соседству мушкетерского полка, на позицию прискакал юнкер. Его голова и один глаз были замотаны свежими, сиявшими в темноте бинтами, а правая рука, подвязанная к шее, покоилась в лубке. Тем не менее, юнец, не обращая внимания на ранения, твердо держался в седле и, передав благодарность за храбрость от самого князя Багратиона, скомандовал отходить.
– Вашь бродь, – в ответ, под одобрительное гудение, подал голос один из канониров. – А с провиантом-то как сладится? С утра маковой росинки во рту не было.
– Потерпите еще немного братцы, – умоляюще пискнул юнкер. – До основного лагеря всего-то верст десять. А там все с пылу, с жару. И щи, и каша. Князь, опять же распорядился всем по чарке выдать.
– Ну, как говориться, для бешеной собаки что семь, что десять верст не околица, – тихо просипел окончательно охрипший Митрич. – Чего теперь лясы попусту точить. Ефимка, гони лошадей с передками. И остальные тоже шевелитесь, если хотите поскорее брюхо набить. Да покойников наших не забудьте. На тележку для зарядных ящиков сложите, а уж как расцветет, так по-людски похороним…
Под утро добравшиеся до бивуака измученные артиллеристы, уже не в силах вспоминать даже о терзавшей их всю дорогу голодухе, как подкошенные повалились на солому в наспех натянутых походных шатрах-балаганах. По приказу командующего ротой капитана уцелевших в бою на переправе пушкарей по общему подъему будить не стали, дав им хоть немного отоспаться.
Ефима растолкали незадолго до полудня. Понукаемый невнятно сипящим Митричем, он первым делом поспешно умял полный котелок уже успевшей простыть каши, заботливо оставленный у изголовья кем-то из сослуживцев. Затем, резко выдохнув, опрокинул пожалованную князем чарку, тут же осадив жгуче-крепкое хлебное вино чуть теплым чаем и, наскоро навертев неприятно-влажные портянки и натянув сапоги, во все лопатки припустил за остальными, уже подходившими к границе лагеря.
На опушке густо разросшегося, буреломного лиственного леса уже были вырыты пять могил, а рядом с ними на земле лежали наспех зашитые в белые саваны тела. Вдоль них, облаченный в траурную черную ризу, расхаживал грузный полковой священник, мерно размахивающий курящимся кадилом и нараспев читающий отходную молитву. А поодаль переминались с ноги на ногу солдаты из инвалидной команды, с лопатами вместо ружей в руках.
Унтер смерил грозным взглядом запыхавшегося Ефима подскочившего последним, и скомандовал построение. Едва они сомкнулись плечом к плечу в ровную шеренгу, как из-за ближних балаганов вывернулся озабоченный капитан. Но, не успел он раскрыть рот, перед строем уже осадил холеного белого жеребца сам Багратион, сопровождаемый адъютантом с опухшими и покрасневшими от постоянного недосыпа глазами.
Капитан, придерживая бивший по ноге палаш, бросился, было, с докладом к князю, но тот, спешившись, лишь утомленно отмахнулся:
– Что вы, право, голубчик? Какие уж на похоронах церемонии. Тут, вон, батюшка, – он кинул в сторону продолжавшего окуривать покойников священника, – командует. Его епархия.
Прервавшийся на полуслове капитан отступил, давая дорогу Багратиону, который, на ходу перекрестившись, обернулся к следовавшему за ним как на привязи адъютанту:
– Ну, мертвым земля пухом, а нам еще живых поблагодарить надо, – и протянул помощнику раскрытую ладонь, куда штабной вложил стопку монет.
Проходя вдоль вытянувшихся во фронт канониров, князь, со словами: «Спасибо братец, выручил», – одаривал каждого серебряной полтиной.
Когда последняя монета была вручена, он отшагнул назад, окинул строй посветлевшим взором и неожиданно звонко крикнул:
– Благодарю за службу, артиллеристы! Надеюсь, и дальше не посрамите!
– Так точно, ваша светлость! – за всех гаркнул в ответ, вскинувший два пальца к виску капитан.
– Вот и славно, – тяжко вздохнул уже погрузившийся в свои мысли Багратион и, сделав знак адъютанту следовать за собой, стремительно вскочил на коня.
После отбытия высокого начальства, инвалиды поочередно опустили убитых в ямы и, дождавшись пока сослуживцы бросят в каждую по горсти земли, дружно взялись их закапывать. Ефим, не найдя в себе силы дожидаться окончания скорбного ритуала, в угнетенном состоянии духа отправился восвояси, продолжая неосознанно тискать потной ладони нагревшийся кругляш монеты.
На полпути до шатра дорогу ему вдруг заступила непонятно откуда вывернувшаяся цыганка-маркитантка. Уперев руки в боки, разбитная бабенка, тесня пышной, увешенной звенящими при каждом движении монистами грудью, затараторила:
– Эй, куда спешишь, служивый? Не торопись, соколик, передохни. Давай погадаю, всю правду расскажу. Что было, что будет, чем сердце успокоится, – не давая опомниться огорошенному неожиданным напором парня, она вцепилась ему как раз в тот самый кулак, в котором была зажата полученная за ратную доблесть полтина. – Вижу совсем юный еще, нецелованный. Позолоти ручку, яхонтовый, и такую суженую приворожу, всю оставшуюся жизнь благодарен будешь.
Ефим, хотя задним умом и понимал, что плутовка как-то сумела прознать о щедрой награде, выданной артиллеристам, и явно намерилась ее выманить, словно завороженный, помимо воли разжал ладонь. Алчно сверкнувшая глазами цыганка уже прицелилась цапнуть вожделенную добычу, однако, едва притронувшись к монете, с шипением отдернула руку, будто та была докрасна раскалена в кузнечном горне.
Как ошпаренная отпрыгнув от солдата, она, вдруг пачкая широкую пеструю юбку, бухнулась на колени прямо в дорожную слякоть, и отчаянно заголосила:
– Ох, не прогневайся господин!.. Прости ты за-ради вечного благоденствия темного владыки душ наших дуру неразумную!.. Не иначе бес шаловливый, куражась, попутал!.. Под руку подтолкнул!.. Только, молю, не проклинай… – Заливающаяся неподдельными слезами цыганка на коленях ползла к опасливо пятящемуся молодому канониру, норовя облобызать заляпанный свежей грязью носок сапога и продолжала причитать: – А за монетку-то зла не держи. Монетку я заговорила. Хранить теперь тебя монетка эта будет…
Тут Ефиму, не знающему как отцепиться от полоумной маркитантки, подоспели на помощь товарищи. Тертый фейерверкер, сразу смекнувший, что цыганка пытается облапошить деревенского олуха, с ходу набросился на нее с хриплой бранью:
– Ты чего тут, курва, за представление устроила? Шомполов захотела? – и, притопнув ногой на резво подхватившуюся с земли и без оглядки припустившую торговку, заодно обругал и Ефима: – А ты почто рот раззявил – Аника-воин? Другой раз, вовремя не подоспеем – без штанов останешься!.. Полтину-то наградную чай этой варначке отдал? – но, углядев на его ладони серебристый диск, одобрительно крякнул: – Раз так, ладно… Пойдем-ка я тебя к делу пристрою, чтоб ворон не считал больше …
Все время, пока голый по пояс Ефим, несмотря на зябкую сырость поздней осени, обливаясь горячим, парящим на открытом воздухе потом, драил банником ствол единорога, у него из головы не шли последние слова цыганки о заговоренной монете. И когда дотошно-придирчивый Митрич, наконец, решил, что пороховой нагар окончательно счищен и отпустил его, Ефим, хоронясь от чужого глаза, завернул полтину в чистую тряпицу и упрятал в потайном кармане мундира, ближе к сердцу…
Почти месяц конно-артиллерийская рота не принимала участия в боях, отступив вместе с основным составом армии к окраине городка Ольмюц, куда подтянулись остатки изрядно потрепанного французами австрийского войска, а затем прибыли и императоры обеих союзных держав. Две несметные силы встали друг напротив друга, и лишь ждали подходящего момента, чтобы схлестнуться в решающей кровавой схватке.
В ночь с девятнадцатого на двадцатое ноября, сразу после полуночи, на пологих холмах, поднимающихся из лощины, разделяющей вражеские армии, на французской стороне, отчетливо видимые даже сквозь белесые языки тумана, вдруг начали загораться и множиться огни. Гул тысяч человеческих голосов, с расстояния в три версты сливающий в неразличимое: «а-а-а-а!!!» и «р-р-р-р!!!», волнами катил вдоль неприятельской позиции.
К караулившему в очередь единорог Ефиму, хрустя подмерзшей травой, подошел тот самый канонир, который, спасая, сшиб его на землю в самом начале боя на переправе.
– Чего не спиться, дядька? – окликнул ветерана изрядно озябший, ежащийся и зевающий Ефим.
– Да вот брюхо что-то крутит, прям спасу нет, – пожаловался ветеран. – Верный знак, едрена-матрена, – с утра будет дело… Табачком-то, часом, не богат?
Приняв поданный кисет, он распустил стягивающую горловину тесемку, и набил вынутую из-за голенища трубку с длинным чубуком. Присев на корточки, добыл из костра уголек, опустил его в надколотую прокопченную чашку, прижимая не страшащимся жара желтым пальцем, довольно запыхтел, окутавшись сизым облаком. Затем, прислушавшись к продолжавшим шуметь французам, проворчал:
– Ишь, едрена-матрена, разошлись, дьяволы, – и сам того не осознавая, что попал в самую точку, продолжил: – Будто сам Напольон на передок изволил пожаловать… А ты парень, – канонир с кряхтеньем и отчетливым хрустом в коленях распрямился, плотнее запахнув шинель, – иди-ка спать, покудова я тут за тебя покараулю. Один ляд мне теперича до утра глаз не сомкнуть.
Не заставляя себя долго упрашивать, Ефим низко, в пояс поклонился, и уже на ходу поблагодарив: «Вот спасибо дядька! Век твою доброту помнить буду!» – шустро нырнул в балаган, провожаемый беззлобным бурчанием старого артиллериста: «Знамо дело – буду помнить… У вас-то, у молодых память короткая… Еще до свету, едрена-матрена, все позабудешь…»
…Около пяти утра, в кромешной, густо залитой непроницаемо-сырым туманом тьме, которую не в силах был разогнать мутным пятном плывущий над головой месяц, русский лагерь пришел в движение. Чадили выедающим глаза дымом костры, куда для поддержания пламени скидывалось все, что невозможно было взять с собой: ломаные стулья, столы, колеса, кадушки, прохудившиеся ящики для хранения зарядов и прочий подобный хлам. Офицеры, впопыхах допивавшие чай, надевали шпаги и ранцы. Солдаты жевали свои сухари на ходу. Когда возле стоянки полкового командира появлялся австрийский офицер-проводник, полк приходил в движение, строился и вливался в колонну во все удлиняющуюся колонну. Постепенно шорох тысяч ног наполнил окрестности.
Конно-артиллерийская рота заняла предписанную ей позицию на Праценских высотах лишь после рассвета, в начале десятого часа, долго толкаясь в тесноте колонн, окончательно перепутавшихся в непроглядном, с видимостью не далее вытянутой руки, тумане. А когда ближе к одиннадцати раздираемая треском выстрелов хмарь, в конце концов, растаяла, то взору артиллеристов открылась ужасающая картина.
Наступающая с высот самая малочисленная четвертая колонна попала под удар основных сил французской армии. Дикая мешанина из людей и коней стремительно накатывала на батарею. Не успели канониры сделать и пары залпов по тылам французов, как схватка закипела уже вокруг орудий.
Растерявшийся от столь стремительного разворота событий Ефим даже не успел дотянуться до неосмотрительно отставленного ружья, как перед ним вырос затравленно хрипящий сквозь оскаленные зубы французский гренадер. Вытаращив побелевшие безумные глаза, вражеский солдат нацелился острием обагренного кровью штыка прямиком в живот противнику.
Похолодевший в предчувствии неминуемой гибели Ефим инстинктивно отшатнулся, поскальзываясь и опрокидываясь на спину. Долговязый гренадер, проваливаясь в пустоту, упал на колени, до самого основания загоняя штык в землю. А опомнившийся Ефим, вскочил, судорожно стискивая удачно подвернувшийся под руку банник, и размахнувшись, со всего маха ахнул им по затылку француза, срывая кивер. В дикой какофонии вокруг он никак не мог услышать, но, каким-то шестым чувством уловил, как треснули, плеснув алыми брызгами, кости черепа врага. Тот конвульсивно дернулся, воткнулся лбом в сухую траву, и замертво опрокинулся набок.
Стряхнув оцепенение и проникаясь ритмом боя, Ефим больше не теряя ни мгновенья, вывернул из рук убитого им француза ружье и, крутнувшись вокруг себя, воткнул штык в спину наседавшего на Митрича толстяка в голубом мундире. А затем, они уже вдвоем кинулись на подмогу капитану, безуспешно пытающемуся игрушечной шпагой отбиться от троих неприятельских солдат.
Но французы лезли со всех сторон, и вся рота неминуемо полегла бы, если бы не отчаянная контратака непонятно откуда вывернувшихся мушкетеров, сумевших отбросить их от батареи. Спеша вывести подразделение из неминуемого окружения, на глазах слабеющий от потери крови, фонтаном хлеставшей из пробитого штыком бока, бледный как полотно капитан скомандовал немедленное отступление. Но, так как большая часть орудийной прислуги погибла, а каждый второй из оставшихся в живых канониров был ранен, то спасти удалось всего лишь одиннадцать единорогов, оставив противнику четверть сотни пушек.
Ефим, с начала до конца варившийся в адском котле Аустерлицкой битвы, завершившейся полным разгромом союзной русско-австрийской армии, единственный из всей роты не получил ни одной царапины. Видавшие виды ветераны поражались небывалой удачливости молодого канонира, а тот, ничего не отвечая на удивленные вопросы, лишь пожимал плечами и, усмехаясь в заметно отросшие усы, промеж делом щупал и поглаживал сквозь ткань мундира заветную монету.
Но окончательно он уверовал в свою неуязвимость спустя год с небольшим, когда 27 января 1807 года его конноартиллерийская рота под командованием Ермолова, совместно с ротой Яшвиля, пошла на верную смерть, выполняя отчаянный приказ генерала Кутайсова. Под ливнем пуль, косивших ничем не прикрытых, превратившихся в живые мишени артиллеристов, развернутые прямиком в чистом поле тридцать шесть орудий дружным картечным огнем в упор разметали наступавший французский авангард.
Тогда же, казалось бы, притерпевшегося к ледяному дыханию неотступно витавшей вокруг смерти Ефима до глубины души потрясла картина в один миг ставшего алым прежде белоснежного поля, стремительно окрасившегося кровью, наплывшей из густо усыпавших свежий снег рваных ошметков до неузнаваемости изувеченных человеческих тел.
Но, как бы там ни было, заговор цыганки продолжал его хранить и в багровом от пламени пожаров мареве лета 1812 года, когда биться с французскими полчищами пришлось уже на своей земле. Под Смоленском словил на вдохе пулю в грудь и захлебнулся темной кровью суровый фейерверкер Митрич. У Соловьевой переправы кирасир в сияющей медью каске, одним ударом палаша, будто гнилой арбуз развалил череп ветерана турецких компаний по-отцовски опекавшего Ефима. И к сентябрю, когда русская армия откатилась до деревеньки Бородино, где, встав в прорезанном оврагами поле, стала готовиться к решающей битве за древнюю столицу империи, из довоенного набора канониров в расчете единорога он остался одним-единственным.
Накануне боя, вечером 6 сентября всем русским артиллеристам был зачитан приказ неустрашимого генерала Кутайсова, ставшего начальником артиллерии в армии Кутузова: «Подтвердите от меня во всех ротах, чтобы с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки… Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. Если б за этим батарея и была взята, то она уже вполне искупила потерю орудий».
Ефим, в составе своей роты оказался на левом фланге, где вблизи деревни Семеновское всю ночь копал землю, вместе с сослуживцами возводя укрепления, названные в диспозиции «семеновские флеши».
Первые выстрелы сотни французских пушек, расположившихся в полутора верстах от русских позиций, разорвали тревожную предрассветную тишину задолго до восхода солнца. Но расстояние между противниками оказалось слишком велико, и завязавшаяся было артиллерийская дуэль, не нанесла серьезного вреда ни одной из сторон.
Тогда французы, прекратив бесполезный огонь, за час, с семи до восьми утра перетащили сотню орудий ближе и, сократив дистанцию примерно до шестисот саженей, вновь приступили к энергичному обстрелу, под прикрытием которого на опушке леса начала построение пехота. Однако с флешей вовремя заметили приготовления противника и русские артиллеристы меткими картечными залпами расстроили каре, загнав уцелевших неприятельских солдат под защиту деревьев.
Взбешенный неудачей маршал Даву лично возглавил следующую атаку, предваренную мощнейшим артналетом. На скорую руку оборудованные укрепления плохо защищали от визжащих в воздухе осколков, которые беспрепятственно вспарывали тела одного за другим гибнущих канониров.
Лишь непрошибаемый Ефим, проворно орудующий банником, даже не подумал пригнуть голову. Когда же у него под ногами, злобно, по-змеиному шипя, завертелась окутанная молочным дымом граната, он в запале, как досадную помеху, попытался отбить ее в сторону носком сапога. Но не успел… Мир вокруг содрогнулся от оглушительного грохота и чудовищной силы удар выбил из Ефима дух…
Очнулся он от нестерпимой боли, вгрызающейся в каждый вершок тела. Так и не сумев разлепить спекшихся век, сквозь выворачивающий наизнанку душу скрип плохо смазанных осей подскакивающей и раскачивающейся на ухабах телеги, перекрывающий надрывные стоны и рокот близкой канонады все же уловил, как кто-то хрипло сокрушался над ним: «Эх, едрена кочерыжка, и энтот вот-вот преставится. Эдак, Порша, мы с тобой в лазарет одних, прости Господи, покойничков доставим… Давай-ка погоняй, мож кто и дотянет». Тут же хлопнули вожжи, рванулась вперед телега и дернувшийся в такт движению Ефим, ошпаренный приступом невыносимой боли, вновь впал в спасительное забытье.
Вопреки пророчествам санитара он, изредка выныривая из горячечного бреда, пока лекари кромсали истерзанную плоть, каждый раз выковыривая новый осколок роковой гранаты, протянул до конца ноября. По вставшему санному пути, Ефима, как тяжко раненного, санитарным караваном отправили прямиком в столицу и поместили в Семеновско-Александровском военном госпитале.
Госпиталь, несмотря на мучительные процедуры и перевязки, ему приглянулся. Кормили там от пуза. И не только мясом, а еще какими-то невиданными ранее разносолами. В кои-то веки довелось вдосталь поваляться на крепкой кровати с новеньким, непромятым матрасом, в ослепительно белой, без пылинки палате. Здесь же он впервые за двадцать восемь лет жизни с изумление узнал, что, оказывается, существуют простыни с пододеяльниками, которые по мере загрязнения, иной раз и ежедневно, меняли дородные санитарки, туго затянутые в кипенной белизны халаты, с ярко-алыми крестами на накрахмаленных косынках.
Слегка оклемавшись, Ефим смекнул, что напрасно грешил на заговоренную полтину. До неузнаваемости исковерканная, вогнутая и до половины треснувшая монета приняла на себя основной удар осколка и отклонила его от сердца. Даже мелкие мародеры из караванной обслуги, не погнушавшиеся потертым кисетом и парой заношенных до дыр портянок, не рискнули прибрать к рукам спасшее хозяина от верной смерти завороженное серебро.
Перед Пасхой, на последней неделе поста, который, впрочем, с благословления госпитального батюшки не касался больных и раненых, Ефима привели в громадную залу, где его, предварительно раздетого догола, перебрасываясь фразами на непонятном языке, долго вертели, щупали и слушали через прикладываемую то к спине, то к груди трубку, облаченные в белоснежные халаты благообразные эскулапы.
Примерно через месяц после этого осмотра, названного мудреным словом «консилиум», потихоньку выздоравливающему канониру объявили о полной непригодности к дальнейшей воинской службе, а также, что за проявленную на поле боя доблесть, высочайшим соизволением ему даруются вольная, и он переводится в сословие мещан, с правом проживания в любом городе на выбор.
…Упитанный каптенармус, выдавший отставнику чьей-то доброй рукой отстиранный от кровавых пятен и аккуратно заштопанный мундир, потертый ранец, заранее выправленную подорожную и наградные деньги, завистливо прогудел:
– Ух, и свезло тебе, паря. Мало того, что вчистую со службы списали, да еще и вольную получил. Вот бы мне так.
Сноровисто подсчитавший и живо прибравший деньги Ефим, живо ощутил зуд в тех местах, где стянули кожу безобразные шрамы, оставшиеся после удаления зазубренного железа, и желчно усмехнулся:
– Так чего ж ты здесь-то подвизаешься? Во какую ряху отъел? Попросился бы в полк, когда компания началась. Если б голова уцелела, смотришь, уже тоже бы по воле гулял.
– Э, нет, приятель! – ничуть не обиделся румяный здоровяк. – Мне и здесь неплохо. Всего-то десять годков осталось. Не то, как раньше, раз забрили, и до могилы. А тут, глядишь, еще и деньжат прикоплю, на старости лет какую торговлишку открою… Сам-то, куда теперь подашься? Слыхал, тебе даже здесь, в столице, разрешено поселиться?
Ефим помедлил с ответом. Поневоле вспомнил, как помертвел, впервые услышав о вольной, до конца не веря в неожиданно обрушившуюся удачу. Загнанная глубоко внутрь, и от этого еще более жгучая в своей неосуществимости неутоленная жажда мести все эти долгие годы черной плесенью точила его душу. Вот и теперь перед глазами, как живое, всплыло ненавистное лицо старосты. До хруста стиснув кулаки, он растянул бледные губы в мертвенной усмешке:
– С поселением успеется. Сперва домой надобно попасть, должок один старинный стребовать. А там уж, как сложиться…
Добродушный толстяк приподнялся с табурета и, прощаясь, протянул высохшему за время болезни Ефиму пухлую ладонь:
– Что ж, служивый, бывай здоров. Ни пуха тебе, ни пера…
– К черту, – безучастно откликнулся тот, уже занятый мыслями о предстоящем нелегком пути, и тяжело припадая на покалеченную ногу, не обернувшись, зашагал прямиком к украшенным затейливыми коваными завитками госпитальным воротам…