Мифы Древнего Китая
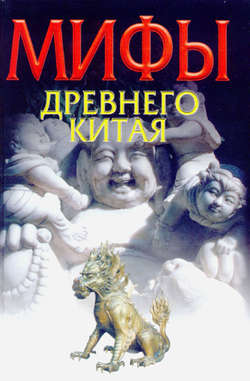
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Игорь Родин. Мифы Древнего Китая
Введение
I. Мир возникает из хаоса
Инь и янь
Хуньдунь – воплощение первобытного хаоса
Паньгу – творец мира
II. Нюйва создает и опекает людей
Богиня Нюйва лепит людей из глины
Нюйва – богиня любви и брака
Нюйва спасает мир от гибели
III. Человечество возрождаетсяпосле потопа
Дети спасаются от потопа
Нюйва и ее брат Фуси
IV. Удивительные существа, населявшие древний мир
Удивительные жители неведомых стран
Народы, удивительным образом производящие потомство
Страны, населенные людьми необычного роста
Фантастические существа – полулюди-полузвери
Мифы и легенды о драконах
Феникс
Другие удивительные животные
Лиса
Чудесные птицы
Странные существа
Мифические существа – неиссякаемый источник пищи
Фантастические морские обитатели
V. Чудесные растения
Чудесные деревья
Чудесные плоды
Деревья с драгоценными камнями вместо плодов
VI. Небесные владыки
Боги четырех стран света
Как небесные владыки поделили мир
Битва между Хуан-ди и Ян-ди. Восстание медноголового Чию
Чжуаньсюй закрывает людям путь на небо
Владычица Запада Си-ванму
Священные горы Кунлунь – обитель богов
VII. Древнейшие правители Поднебесной империи
Легендрный правитель Ди-Ку
Янь-бо и Ши-чжэ – правители звезд
Чудесный пес Паньху
Император Яо
Притча о старике, играющем в цзижан
Сюй Ю и пастух
Легенда о добродетельном Шуне
VIII. Стрелок И – посланник и изгнанник небес
Стрелок И расстреливает из лука девять солнц
Другие подвиги стрелка И
О том, как стрелок И лшился бессмертия
Гибель стрелка И
IX. Юй – усмиритель великого Потопа
Божества и великаны – усмирители водной стихии
Великий Гунь-строитель плотины и его сын Юй
Усмиритель потопа Юй и прекрасная фея Яо-цзи
Путешествие Юя. Юй и его жена
X. Три религии Древнего Китая
Даосизм, буддизм, конфуцианство
Конфуций и его учение
Лао-цзы и даосизм
Конфуций и Лао-цзы
Учение Будды в Китае
XI. Поиски бессмертия
Даосы и поиск бессмертия
Колодец долголетия
Плавучие Острова Бессмертных
Сказания о восьми бессмертных
Предания о совместных деяниях восьми бессмертных
Бессмертные братья Мао
Легенды о других бессмертных
Лю Ань и Багун
Легенды о долгожителях
XII. Рассказы о магах и волшебниках
XIII. Божества – покровители людей
Боги – покровители земледелия и податели культурных благ
Наука добывания огня трением из страны Суймин
Чэн-хуаны и туди-шэни – божества-покровители территорий
Легенда о Цзян-хоу
Дух домашнего очага Цзао-шэнь
Божество Паньгуань, распорядитель человеческих судеб
Божества-покровители профессий и ремесел
XIV. Божества – покровители семьи
XV. Природные божества
Божества священных гор
Духи звезд
Божества Солнца и Луны
Тай-суй – повелитель времени
Божественные «небесные управы»
Юйцян – бог ветра и моря
Бог приливов У Цзысюй
Хэ-бо – дух реки Хуанхэ
Хэ-бо и ученик Конфуция Таньтай Цзыюй
Легенда о Ван-ди
Ли Бин и дух реки Янцзы
Как были обожествлены духи колодца
О том, как коварную богиню вод Шуй-му постигло справедливое возмездие
Легенды о встречах с водными божествами
XVI. Небесные воители
Вэнь-Юаньшуай – победитель дракона
Ма-юаньшуай – покоритель злых духов
Синь Сингоу-юаньшуай – громоборец
Цыцзи Чжэньжэнь и зеленый дракон Цинлун
Ночжа, сын Ли-тяньвана – божества-хранителя Севера
Мэнь-шэнь – божества-хранители Небесных Врат
XVII. Духи, бесы и оборотни
Небесный владыка Хуан-ди и волшебный зверь Байцзэ
Двуглавая змея Вэйшэ
Цзи – девочка, победившая змея
Добрые духи Тайфэн и Ди-тай
Изгнание бесов
Повелитель демонов Чжун Куй
Чун-ван – «князь насекомых»
Легенды о встречах с оборотнями
Крысы-оборотни
Лисы-оборотни
Тигры-оборотни
Злокозненные духи
Злокозненные духи вещей
Деревья-оборотни
Воскресшие мертвецы
Злокозненные духи самоубийц
Злокозненные водные духи – шуй гуи
Фэн-Шуй
XVIII. Загробный мир
Юду – обитель душ умерших
Ад
Глава подземного царства – Дицзан-ван
Божества похоронных обрядов
Янь-ван и судьи загробного мира
Путь души после смерти
Легенды о столкновениях людей с царством мертвых
XIX. Сказания о небесных феях
Цань-шэнь
Чжи-нюй
Ци-сяньнюй
Три дочери бога Янь-ди
XX. Рассказы о чудесах, знамениях и предсказаниях
XXI. Легенды о древнейших императорских династиях: Ся, Инь и Чжоу
Ци, сын Великого Юя
Веселый император Кун Цзя
Рождение династии Инь
Правитель Ван Хай и его брат Ван Хэн
Тан-ван
Безумный правитель Цзе-ван
Тан-ван разбивает армию Цзе-вана и становится Правителем
Люди чжоу и их предок Хоу-цзы
Последние годы династии Инь
Вэнь-ван и его наставник
У-ван побеждает Чжоу Синя. Конец династии Инь
Бесславный конец императора Чжао-вана
Му-ван
Мятежник Янь-ван
Гибель династии Чжоу. Сюань-ван и Ю-ван
XXII. Легенды о других правителях и их подданных
Отрывок из книги
Пожалуй, нет ни одной древней цивилизации, которая бы вызывала столь пристальный интерес, как цивилизация Древнего Китая. Причем интерес этот особенный, отличающийся от того, который проявляют исследователи и все, кто интересуется вопросами происхождения культуры, к, скажем, Древнеегипетской цивилизации или к цивилизациям Месоамерики. Древнекитайская цивилизация уникальна тем, что дошла до нас в непрерывной традиции, что она не является результатом только археологических и антропологических разысканий на руинах погибшей культуры, но познается как органический, живущий и поныне феномен, входящий составной частью в культуру нынешнего Китая.
Это указывает на своего рода уникальную живучесть мировосприятия китайцев, дает пример культурного развития без радикальной ломки устоев прошлого во имя утверждения настоящего, пример относительно мирного сосуществования и ассимиляции не только различных религий – даосизм, буддизм, конфуцианство – но и мировоззренческих систем различных этапов развития общества (тотемизм, шаманизм). Для мировосприятия китайцев вообще всегда была чужда религиозная нетерпимость (исключая, пожалуй, лишь XX век, ознаменовавшийся «культурной революцией»). В отличие от хритианства и ислама, считающих своим долгом навязывать свои религиозные догмы остальному миру (идея мессианства), китайцы (как и большинство народов Востока) никогда не боролись с чужими богами. Они скорее были готовы включить их в свой и без того крайне многочисленный пантеон, лишь бы не нарушать общественного равновесия. Вероятно, это происходило из-за того, что религиозным системам, бытовавшим в Китае, во все времена был чужд жесткий монотеизм (т. е. признание единого верховного божества), свойственный христианству и исламу. Верховное космическое божество у китайцев никогда не было персонифицировано. Скорее, это было некое высшее начало, источник всего, которое не может быть познано (то, что у даосов, например, называлось «уцзи»). Так что китайцы поклонялись, можно сказать, даже не самому божеству, а его различным проявлениям в окружающем мире. Это могло быть что угодно – от грозного явления природы и болезни до странно ведущей себя бытовой утвари или рождения близнецов. Если некоторому количеству людей это высшее начало являлось в каком-то неведомом ранее виде, это было достаточным основанием для «канонизации» данного явления, возведения кумирни и основания соответствующего культа. Отсюда – своего рода беспрецендентный религиозный демократизм, столь чуждый западному миру. Божества были для китайцев своего рода каналами, связывающими миры, при помощи которых вышее начало могло проявляться в нашем мире и по которым, соответственно, можно было возносить молитвы, приносить жертвы, уведомлять о тех или иных своих пожеланиях – одним словом, общаться с высшим началом. В соответствии с этим, божества могли иметь множество имен, так как проявления высшего начала могли быть самыми различными. «Какая разница кому поклоняться – имена могут быть самыми различными, ведь важно не имя, а то, что за ним стоит», – вполне мог бы сказать каждый из китайцев. В соответствии с этой логикой, идея единобожества (и уж тем более мессианства) показалась бы китайцам чистешей воды нелепостью, или – в лучшем случае – какой-то разновидностью идолопоклонства. Именно поэтому основные коллизии в религиозных системах Китая разворачивались не вокруг вопроса кому поклоняться и как, но в вопросах проведения божественной воли в земной жизни. Как придать миру вокруг и, соответственно, обществу, вид божественной красоты и совершенства? Как уподобить мир Великому Творению, в котором царят гармония и равновесие? С теми или иными поправками все религиозные системы Китая отвечали на этот вопрос одинаково: при помощи самосовершенствования. Для даосов это был путь постижения Дао, для буддистов – постепенное слияние с изначальной сущностью мира (достижение состояния будды) и погружение в нирвану, для конфуцианцев – путь «идеального мужа», свято соблюдающего установления (правила) ли. Примечательно, что во всех этих случаях человек не был рабом бога, но всегда занимал позицию волящего субъекта – от выбора самого пути самосовершенствования до скорости передвижения по нему. Замечательно также и то, что человек изначально наделялся возможностью стать одним из «мест» проявления высшего божества, т. е. он вполне мог достичь «божественности» благодаря самосовершенствованию, и в том случае, если он делал это успешно, его вполне могли причислить к «лику святых». У даосов такой человек становился бессмертным, у буддистов – буддой, у конфуцианцев – «идеальным мужем» (правителем, чиновником и проч.) и вполне заслуженно занимал свое место в пантеоне. Идея изначальной греховности (первородного греха) человека, свойственная западным религиозным системам, никогда не была на Востоке среди определяющих. Соответственно, не было идеи изначальной вины и, как следствие, – идеи искупления. Даосские аскеты не умерщвляли плоть во имя искупления мнимых грехов, а наоборот – укрепляли ее путем пробуждения духа. Так, даосы верили, что существует возможность обрести бессмертие на уровне физического тела, полностью подчинив его укрепленному духу, они считали, что тело в этом случае приобретает совершенную пластичность, т. е. возможность трансформироваться во что угодно на материальном уровне. Другими словами, это была лишь техника самосовершенствования, а не добровольное принятие на себя наказания во искупление изначальной греховности человеческого существования. Аналогично самоистязания у индуистов никогда не были самоцелью (т. е. способом искупления грехов), но лишь методикой достижения экстаза и вхождения в состояние измененного сознания для приобретения и демонстрации сверхвозможностей. Правда, идею мироотрицания, хотя и в существенно ином виде, мы находим в буддизме, который считал существование, т. е. проявленность в материальном мире, изначальным злом. Однако если мы внимательно посмотрим на систему основополагающих ценностей буддистов, мы увидим, что существенно они отличаются лишь в одном пункте: буддисты вводят в свою систему понятий идею высшего божества, т. е. дают ему определение (давать определение – не значит персонифицировать), что всегда оставалось за скобками в даосизме (непостижимое Дао), а тем паче в конфуцианстве и более ранних религиозных системах. Основой материального мира, самого его существования, издревле считался дуализм, т. е. наличие во вселенной противоположных начал (инь и ян). Согласно космогоническим представлениям, до них существовало единое, нерасчлененное состояние бытия (у даосов именуемое «тайцзи»), из которого путем изначальной вибрации возникли противоположности (инь и ян), в свою очередь породившие весь материальный мир. Если в остальных религиозных системах верховное, изначальное божество оставалось «за скобками» и речь шла лишь о «земных» небесах, о гармонизации взаимодействия инь и ян и, соответственно, приведении в равновесие человеческого бытия, то буддизм в качестве своих небес признает уже не земные небеса, а находящиеся неизмеримо выше, и божеством, которому следует уподобляться, избирается уже не «небожитель», а «начало мира», первопричина и источник всего. Далее следует довольно простое умозаключение. Если уподобиться богу – значит стать Единым (т. е. вернуться в первоначальное состояние), то следует прекратить в себе борьбу противоположностей и остановить непрерывную цепь воплощений в материальном мире (инкарнаций). Но поскольку мир – есть воплощение единства и борьбы этих начал, то следует максимально ограничить свое взаимодействие с этим миром, так как он поселяет эту борьбу и внутри человека (проявлениями этой борьбы буддисты считали эмоции, чувства, желания, называя их «волнениями дхарм»). Отсюда – идея отрешенности от мира, молчания сознания и проч., а в конечном итоге – слияние с Единым, т. е. преодоление дуализма (проявленности), обретение изначальной цельности. Таким образом, вектор устремлений буддистов оказывается направлен лишь на иные «небеса», в то время как суть мировоззрения у них остается прежней – в их системе человек тоже является волящим субъектом, цель которого состоит в воплощении в себе божества, в максимально возможном уподоблении ему. Как видим, к теме «искупления» и «мироотрицания» в христианско-иудейском понимании все вышеизложенное не имеет ни малейшего отношения. Если совсем кратко формулировать разницу между западным и восточным религиозным мироощущением, то это можно было бы сделать так: восток – жить во имя того, чтобы воплотить в себе бога (стать богом), запад – жить во имя того, чтобы бог тебя простил. Не составляет труда подметить, что разница в этих двух положениях заключается в смещении субъектно-объектных отношений. В первом варианте человек является в гораздо большей степени субъектом, чем во втором. Во втором случае волящим субъектом мыслится лишь бог (который волен прощать или нет), в то время как человек – безусловный объект его волений. Свобода человека здесь ограничена произволом верховного божества, и воля человека направляется лишь на выбор способа и поддержание большей или меньшей интенсивности вымаливания прощения. Выражаясь в понятиях китайской философии, подобная расстановка сил свидетельствует о том, что в востоке в большей степени выразилось начало «ян», а в западе (стороне света, где заходит солнце) – соответственно, «инь» (что, к слову сказать, неоднократно упоминается в древних китайских источниках).
.....
Заканчивая развернутый анализ мифа о противоборстве Хуан-ди и Чию, а также о последующем разрушении «лестниц на небеса», остается лишь добавить, что посредством обращения к магии и жертвоприношения Хуан-ди поднял дух своего войска, а бой священного барабана вселил в воинов храбрость, и войско Центра победило «медноголовых», чей предводитель затем был публично казнен.
Говоря о мифологеме «разрушения лестниц на небеса», невозможно не отметить его чрезвычайную распространенность в мифологии различных народов. Обычно это связывается с понятием Мирового древа (поддерживающего и связывающего миры) и всевозможными вариантами его повреждения.
.....