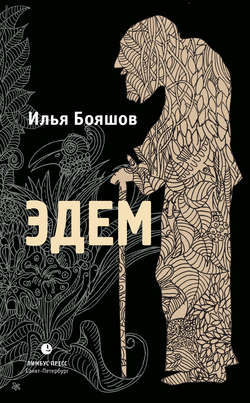Читать книгу Эдем - Илья Бояшов - Страница 1
ОглавлениеВнимание!
Автор честно предупреждает о наличии в эдеме растений, которые более нигде не произрастают, – поэтому напрасны попытки навести справки о них во всевозможных справочниках.
Рододендроны были сочны. Ведь до сих пор помню – изумительны.
Стены почти скрыты (девичий виноград).
За цветами-зазывалами, яркими, как арлекины, несомненно, рай: дух его словно под цирковой шатер затянул. Фиговые деревья! Боже мой, неужели баккуроты?! Несомненно, дело было весной. ццц Что же еще, кроме нее, сработало таким верным магнитом?
Любопытство (кто из нас не раб любопытства, кто не проклинает его потом!) гнало вниз по узкой аллейке.
Я приписал это чертово, поганое, несносное весеннее любопытство тяге к прекрасному. Разумеется, дело в эстетике, в увлечении флорой. Зачем же еще тогда было совать сюда свой нос?
«Господи, почему же ты оставил меня?!»
Лавр, плющ, остролист, кипарис, можжевельник, лох серебристый, лаванда, розмарин, канадская ель, ель простая, сосна карликовая, сосна японская, барвинок голубой, тис, крокусы, примулы, анемоны, фиалки и прочее, совершенно невиданное, безусловно, тропическое – недурно, недурно…
Впрочем, какое там недурно – просто великолепно!
Кроме того, во всем – тщательнейшая ухоженность.
Повсюду щелкало и свистало: кажется, попугаи.
Сад за целомудренно прикрытыми девичьим виноградом стенами, в самом центре «сити», в самом его ужасающем дымном тигле, эдем, о существовании которого я ранее и не подозревал, всякий раз проносясь мимо и наблюдая лишь за мельканием своих, зауженных к носам, точно крысиные морды, ботинок. Но стоило поскользнуться (словно кто-то толкнул под руку) и, поднявшись, оглядеться – расступились дома (а ведь вокруг да около теснились, как пассажиры в простонародном метро, офисные гробницы) и на глаза попались распахнутые ворота. И запах! Запах! Повторюсь: рододендроны. И эта вдруг протянувшаяся кипарисовая ветвь.
Пробежал бы я мимо! Господи, если бы только я пробежал! Нельзя спотыкаться: любая остановка – неизбежная задумчивость. А затем – любопытство.
О любопытстве, впрочем, упоминалось.
Итак, я отчаянно любопытствовал – и оказался внутри. С двух сторон плыла истинная Амазония. Как вам отсеченные безупречным бордюром от безупречной дорожки пальмы и сладостный, словно ожидание женщины, цветочный парфюм?! Все разрыхлено, все обихожено. Я торопился заглянуть за каждый невиданный куст. Я поздравлял себя с открытием, я ликовал от собственной дерзости. Вот так, распахивая глаза на фиги и на невиданные, там и сям раскрывшиеся орхидеи (пусть священная частная собственность, счастье, что сторожевыми собаками и не пахнет), проскочить сад от края до края, возможно, сорвать вон ту сногсшибательную настурцию, окунуть цветок в нагрудный карман офисного пиджака – и обратно, в жужжащий мир.
Наткнусь на хозяина – разумеется, до самой малой своей частицы рассыплюсь на лесть, заготовлен совершенно искренний шаблон: «Извините незваного гостя (господин, месье, мистер!), не смог сдержаться. Иметь такое чудо – да вы счастливчик. Совершенно ведь было не устоять, каюсь, заглянул ненадолго (а ведь раньше-то не замечал!), я сам ценитель цветов (нет, нет, просто ценитель) – быстренько пробегусь, ведь, судя по всему, эдем невелик. Не думаю, что у мастера (а мастерство несомненно!), сердце-сухарь – с созданным здесь раем черствость никак не вяжется».
Впереди переливался пурпурным, алым и розовым светом розарий. Прямо за ним, внизу аллеи, изумительная лужайка (солитеры, рокарии) с прудиком в центре, правда, довольно мутным – кувшинки присвоили себе порядочную часть воды. На лужайке кормились то ли травой, то ли насекомыми несколько павианов (безобразный детеныш цеплялся за обвислый живот облезлой самки), при виде меня стайка во главе со своим королем бросилась за орешник. Затем я осмотрел навес (судя по всему, для инвентаря) – земляной пол, тонкая обрешетка, крыша из пальмовых листьев.
За этим подобием таитянской хижины незатейливый босоногий старикан (фигура пейзажных полотен Шишкина, дополнение к дубку или стогу, штаны и рубаха навыпуск) банально правил косу, лезвие которой то и дело стреляло в меня солнечными зайчиками. С подбородка дедка свисал какой-то китайский клок, лысина вдохновила бы собой Фалесова орла[1]. По ее бокам еще золотилась кое-какая растительность, но свою песенку она спела. К седой яблоне рядом прислонена была бамбуковая палка. Садовник? Сторож? Вне всякого сомнения. Но, разумеется, не шишка: прислуживает какому-нибудь, свихнувшемуся на идеях Вокса и Олмстеда[2] владельцу. Увидел гостя – и по-прежнему занимается своим унылым делом. Неужели здесь нет газонокосилки?
Я кивнул ему.
Он кивнул мне.
– Простите за вторжение! – крикнул я.
Еще один кивок.
– Не разрешите ли полюбопытствовать на магнолию?
Старикан продолжал работать китайским болванчиком.
– Так я пройдусь, прогуляюсь?
Новый кивок. Он тотчас забыл обо мне. О, эта старческая беспристрастность, и эта традиционная ругань железа с точилом:
– Вжиг, вжиг, вжиг…
Время терпело. Обогнув пруд, я поднялся еще по одной аллейке (вокруг попугаи, оливы, прочее волшебство) и уткнулся в неожиданно дикий кустарник – настоящую проволоку, переплетенную так, что казалось невозможным протиснуть сквозь нее даже мизинец. Высота вызвала невольный трепет – не менее пяти метров. Более того: кусты совершенно не пропускали звуков города. Птичье щелканье, визгливые ответы лезвия на точило, да одинокое бормотание шмеля – вот и все. Напрасно я вслушивался. И напрасно пытался отломить от преграды хотя бы одну колючку. Темная, переходящая в черноту зелень над головой казалась попросту угрожающей. За непробиваемой защитой скрывалась и сама стена, совершенно отсюда невидимая и, честно говоря, ненужная. Имея столь надежную поросль, владелец свободно мог обойтись не только без нее, но и без самых дружелюбных к непрошеным гостям созданий – шустрых доберман-пинчеров.
Итак, оазис имел форму круга, в чем я смог убедиться, прогулявшись вдоль сплошной сетки удивительного кустарника (обрывавшегося лишь возле ворот) и очутившись на том же месте минут через десять. Планировка была исключительно проста: «перекрестием прицела» являлась уже описанная лужайка с прудом и навесом, от которой подались в стороны четыре аллеи: южная вела к единственным воротам, северная, восточная, западная – в ужасные кустарниковые тупики. Кроме аллей было несколько троп. Совершив променад и по ним, я, ко всему прочему, обнаружил посреди остальной красоты мушмулу японскую, папайю, дуриан, авокадо и, кажется, суринамскую вишню. Что же, я посетил сами небеса: вот только кустарник портил впечатление. Впрочем, какие претензии можно предъявлять к охраннику?
Я подвел кое-какие итоги. Так как здесь не обнаружилось ни усадьбы, ни виллы, ни даже коттеджа, следовало предположить – неизвестный хозяин навещает тайное место из чисто эстетических соображений, имея постоянную прислугу в лице встретившегося старикана. Разумеется, на ночь парадиз закрывается – охрана здесь решительно не нужна: разве что ворота – слабое место. Впрочем, они чересчур высоки. Да и кому придет в голову сюда забираться? Кто из пробегающих горожан знает о саде? Очередная стена посреди банковского и офисного стекольно-бетонного разгула, к тому же завешанная лианами. Мне просто повезло: старикан-садовник из-за явной дряхлости памяти забыл провернуть за собой пару раз ключ. Все ясно: место создано для поэтического вдохновения, неги, отдыха от банального Сохо[3]. Красотой своей оно вопиет об уединении, о раскинувшемся в тени коврике, о зеленочаевой пиале!
Впрочем, закралась иная мыслишка: эдем вполне может прицепиться и к балансу неведомого биолого-ботанического института. В таком случае, где они, помешанные на таиландской ixora javanica, желчные суетливые «ботаны»?
Однако, мне-то какое дело до ixora javanica?
Посвистывая, я подошел к дедку.
– Еще раз спасибо за гостеприимство!
Большой палец аборигена-сторожа проверил лезвие. Затем для пущего успокоения последовал пучок травы, тотчас разделившийся на две половины.
Дед прислонил косовище к навесу и совсем неуклюже, чуть было не промахнувшись, показалось, даже как-то болезненно, подхватил палку. Он сгреб ее своими ужасными подагрическими пальцами, напоминавшими когти. Он на нее оперся. К черту все эти литературные россказни про мудрых благостных старичков. Унылая правда в следующем: глаза его оказались не голубого, не синего, не василькового и не прочего умилительно-стариковского цвета, ничего они не отражали и никакой внутренний свет из них не излучался. Ни искринки – во взоре царствовала одна муть. Он тупо ждал продолжения, зная, молчать я не буду – и вот по какой причине.
– Тысячу раз простите… Вы не могли бы выпустить отсюда, так сказать, незваного гостя?
– У меня нет ключа, – сказал он.
– Но ворота были открыты. А вот когда, во время прогулки, я подошел и полюбопытствовал…
Точильщик пожал плечами.
– Послушайте, – сказал я мягко. – Здесь, кроме вас, еще работает кто-нибудь?
Он отрицательно покачал головой.
– Не могли же они сами запахнуться.
– У меня нет ключа, сынок.
Шутки в сторону: нужно выбираться. Тем не менее уместный вопрос сорвался с языка моего:
– Как же вы сами выходите?
– Кто сказал, что я выхожу? – удивился садовник.
– То есть?
– Я здесь живу.
– Где?
Он показал на навес.
– Вы что, вообще в город не выглядываете?
– Некогда, – сказал дед устало.
И отвернулся, явно намереваясь заняться делами.
Попугаи орали. Павианы скакали. Сад источал ароматы. Голова моя разболелась.
Я побежал к воротам.
Я прибежал обратно.
– Давайте сюда ключи.
Удивительно мутный взгляд. Однако были они у него. Вне всякого сомнения, были!
– Мне нужно немедленно выйти! – О, где самообладание? где даже остатки самоконтроля? Я терял чувство юмора. Я почему-то вспотел. – Открывайте! Я опаздываю. Я тороплюсь.
– Это невозможно, – возразил старикан. Он редко моргал, пропуская сквозь когти-пальцы тощую, жухлую, словно пучок осеннего лука, бороденку.
– Да вы с ума сошли! У меня куча отчетов. Шеф убьет. Съест без соли.
– Ничего уже не поделаешь.
– Как так «не поделаешь»? Мне немедленно нужно выбраться!
Бороденка вновь пропущена. Палка крепко сжалась когтями (кажется, нефритовый набалдашник). Гнусный старческий подбородок, раздвоившись, успокоился на нем, словно на троне.
– Послушайте! В час – деловая встреча. Если я опоздаю, две шкуры сдерут.
– Я все понимаю, сынок. Однако позволь спросить. Как ты здесь оказался?
Я бросил взгляд на палку. Я бросил взгляд на косу. Я напомнил этому старому ободранному еноту:
– По всей видимости, вы забыли закрыть ворота. Они были распахнуты. И еще: в них торчал ключ. И если вы здесь один, следовательно, никто, кроме…
– И ты сюда заглянул? – перебил этот несомненный маньяк.
– Да, – ответила злость за меня.
– Мог бы пройти мимо, – как ни в чем не бывало, заметил мерзавец, – однако…
– Но кусты настолько красивы…
– Мог бы пройти, – упрямо гнул он свое. – Многие проходят!
(Неужели вызовет полицию? Ах, вот в чем дело! Хорошо, пусть копы! В конце концов, здесь мне уже откровенно не нравилось.)
– Послушайте, я все объясню. Нельзя сказать, что я садовод. Скорее, любитель. Но все-таки… Меня привлекла обыкновенная красота – что же в этом криминального? Что плохого в элементарной тяге к прекрасному? Я разглядывал рододендроны. Кроме того, вы, кажется, разрешили…
– Ты виноват, сынок, – неумолимо сказал он.
– Послушайте, я же попросил разрешения…
– Виноват в другом…
– В чем?
– В тяге к прекрасному.
Он что, острит? Гнусный подбородок. Гнусная бородка. Гнусное местечко. Однако, полицией и не пахло. Старикан, засмеявшись, сказал:
– Ты заглянул сюда добровольно: никто тебя не неволил – значит, придется смириться.
– ???
– Сад хорош, однако нужен уход.
– ???
– Моя подагра. Пальцы иногда не разогнуть…
– Предлагаете заняться прополкой?
– Раз уж ты сам залез, – сказал он.
Я побежал к воротам. Чтобы перелезть через них не было и речи. Никаких приспособлений. Никакой лестницы. Справа и слева – кустарник. За кустарником – стены. Я прибежал обратно:
– Ключи! И не заставляйте прибегать к насилию.
Я возвышался над ним: молодой, разгоряченный, разъяренный (второе место по спринту в олимпиаде компании, к которой я имел честь принадлежать, а, кроме того, армрестлинг, боулинг, всякое другое спортивное прошлое).
Я протягивал свою железную руку.
– Не заставляйте, – повторил я. – Ключи у вас. Я в этом не сомневаюсь.
Старик кашлянул.
– Вот мотыга и тяпки, – отвечал он, теперь даже без тени своего извращенного юмора. – Начни-ка с того края. Видишь курильскую сливу?
И где этот сукин кот прячет их? В карманах штанов? Или висят на крючке под навесом? К черту почтение к старости. Я готов был надеть на сумасшедшего валявшееся неподалеку отвратительное, перепачканное глиной ведро. Я готов был заломить садоводу руку. Тем более, подбородок его на мгновение соскользнул с набалдашника: потеряв опору, маньяк пошатнулся, и показалось – что-то в штанах его звякнуло.
– Ключи! – рявкнул я, скидывая пиджак (тончайшая шелковая рубашка – он не мог не заметить бицепсы).
– Ты, как никто другой, подойдешь мне, сынок! – радостно заметил дед. На этом возгласе диалог наш был завершен. Я быком подался вперед. Его палка взлетела. Удар. Свет померк в очах моих.
Пока надо мной властвовал бездонный, словно наркоз, нокаут (к сожалению, далеко не последний), стервятник знал дело: с владельцем бицепсов, рубашки и кредитной карточки «Visa», своей блестящей золотой вязью интересующей теперь разве что местных павианов, навсегда попрощались портмоне, мобильник и паспорт. Я не сомневался – они нашли приют на дне все того же пруда, пригоршня теплой воды из которого возвратила меня в мое новое безрадостное бытие. Впоследствии и сама карточка, олицетворявшая некогда статус ее обладателя – триста пятьдесят тысяч долларов, господа! – каким-то образом оказалась в лапах здешнего обезьяньего короля. Господи, я так гордился ею раньше! А тогда даже не успел пошевелиться. Несостоявшееся будущее было невозмутимо осмотрено, разломано, а затем клочки бесценного пластика хамски брошены мне в лицо. Несомненно: обезьян на долгие годы приобрел здесь самого опасного врага. Но и символичность его поведения была оправдана: пойманная муха окончательно превратилась в ничто: в выброшенного на необитаемый берег Робинзона, в злосчастного ленноновского «nowhere man»[4], в безымянного раба великого Рима, вынашивающего безнадежные планы отмщения и бегства.
Впрочем (глупец!), в тот злополучный день я еще на что-то надеялся.
– У вас не может не быть ключей, – сказал я зло, возвратившись из небытия в благоухающий кошмар.
– Возможно, есть, – сказал старик примирительно, затевая свою изощренную (и, как оказалось потом, бесконечную) игру в осла и морковку. – Видишь ли, раз уж ты заглянул, то должен помочь. Хотя бы какое-то время.
– А когда помогу?
– Поглядим, – весьма неопределенно отвечал старый негодяй.
Следом за разумом очнулась и прежняя злость:
– И сколько времени продолжится помощь?
– Все от тебя зависит, сынок!
(А вот это заявление оказалось гнуснейшей ложью.)
– Когда вы меня отпустите? Сегодня? Завтра?
– Сложишь пару-другую рокариев. Подновишь кое-где дренаж. Поможешь с компостом: нужно подкормить облепиху. Мне не управиться с огородом: на все рук не хватает. Тебе придется полоть батат. Пока не созреет, конечно. Ну, и, разумеется, поливка.
– Вы что, хотите продержать меня до осени?
Несчастная глупая муха! Она еще ни о чем не догадывалась.
– Я научу тебя кое-чему, – продолжил дед. – Рокарии – ничего сложного. Два-три валуна на каждый, вот только с цветочками повозиться придется…
Кажется, я начал сходить с ума:
– Семья! Работа! Что скажу домашним? Дайте позвонить. Хотя бы весточка!
Нет, нет, ничего он мне такого не дал.
Была истерика в самом буквальном смысле: я рвал на себе волосы. Я вдоволь напаниковался. Падал, кажется, в ноги. Проклинал, плакал, сулил жалкие, совершенно ненужные деньги. Сколько часов прокатался, стуча по возделанной земле ботинками и кулаками?
Время здесь не имело значения.
– Где спать? – спрашивал я растерянно.
– Где угодно. Ночи теплые, трава прогрета.
– Дождь!
– Здесь не бывает дождей.
Я был слишком потрясен, смят (настоящая раздавленная клюква!), пропустил столь знаковый ответ, не придал ему значения! Здесь не бывает дождей? Явная чушь, глупость, маразм! Как может не быть здесь дождя? Старик идиот! Я спешил дальше, я слезно спрашивал:
– Чем питаться?
– Сырые овощи еще никому не вредили.
– А хлеб! Хлеб! – вопил я.
– Хлебное дерево. Так ты начинаешь?
Этот паяц вновь, как бы с трудом, опирался на палку, которая так внезапно, так блестяще чуть было не отправила меня на тот свет. Я пощупал свой лоб. Я поднялся. Иов окончательно проснулся во мне (клянусь: ничем, ничем не гневил Господа ранее, и ведь не собирался гневить).
Все было бесполезно. Он ждал. Я устал до чертиков.
– Давайте сюда ведро.
Дом, семья, безутешная мать, шеф, карьера – нет, даже говорить ничего не буду.
Молоденькая жена (всего-то два месяца воркованья в гнездышке) – какая невыносимая тема. Позвольте все пропустить. Позвольте умолчать. Лучше о другом: о безысходной пахоте, о всякой ерунде, о начавшейся обыденности Освенцима. Я расскажу о ведрах («Больше двух нам и не нужно, – невозмутимо ответил дед, – зачем больше?»), так вот: оба были дырявые. Кое-как на время удавалось заткнуть их глиной, но глина неизбежно размокала, и от пруда до розария (да и то бегом!) я мог доносить едва ли половину содержимого – что уж говорить о растениях в самых дальних концах, которые всасывали влагу с ужасающей неистовостью и подобно настоящим ирландцам готовы были пить бесконечно. Голова моя отказывалась верить в реальность моего сизифова труда: в первый же день своего рабства я потребовал объяснений – для такого ухоженного пространства неизбежно требуются поливалки, должна быть целая их система, на худой конец, шланг и хотя бы обыкновенный электрический насос.
– Для чего все это, сынок? – террорист явно давал понять: дитя не разумеет самых очевидных вещей.
Да, да, конечно, я еще не представлял, что меня ждет; разозлившись, я кричал, чтобы хоть в этом старый придурок не водил за нос: наверняка где-то спрятана кнопка.
– Беда твоя в том, что тебя терзает слишком буйное воображение, – заметил он. – Откуда ты взял, что тут есть поливалки?
Уважения мучитель, разумеется, не вызывал никакого. Кроме того, находясь в заложниках, я имел право перешагнуть на «ты». Ярость (в данном случае, благородная) – повивальная бабка хамства.
– Скажешь еще, что их нет?
– Работа руками – настоящее благо. (Изощренность садизма заключалась в том, что он не повысил голоса. Кажется, даже подсмеивался.)
– К черту подобное благо! Где насос?
– Ничего страшного, если к вечеру и подустанешь немного: сон будет только крепче, – словно не слыша, гнул дед свою линию. – Я вот что скажу: выливай пятьдесят ведер на северной стороне, сорок пять на южной – цветочки там, как ты уже заметил, любители выпивки – разумеется, за наш с тобой счет. Затем – вон те фиги и германские камелии. Пальмы – раз в десять дней – оговорюсь, при их поливке ты освобожден от всего остального – вот это действительно, признаюсь, занятие утомительное. Розарий – не менее пятнадцати полных ведер: значит, пятнадцать ходок туда и обратно. Ну и всякая мелочь – фиалки, нарциссы, левкои. Конечно же, огород. Я беру на себя остальное, включая косьбу. И не вздумай губить деревья, – мягко продолжил дедок. – Побег невозможен.
Я пропустил мимо ушей предупреждение. Джентльмен во мне умер на удивление быстро. Мной владели сарказм и ненависть. Повторюсь: ненависть и сарказм. Я исходил на злобу:
– Скажи еще, что подобный английский лужок был создан косьбой и ручной прополкой?
– Всю жизнь каждый день занимаюсь этим, сынок.
– Таскаешь дырявые ведра?
– Много работы – мало дум, – сказал он загадочно.
– Не верю.
– Придется.
Увы, но весь бред оказался правдой: дехканин ферганской долины со своей допотопной ирригацией на фоне этого безумца смотрелся носителем технологий.
В итоге, я ужасными ведрами черпал ужасную воду. Я бегал на юг и на север. Мелькали анакардии, оливы, ананасы и студенистые пальмы. Цветники казались бесчисленными, словно вселенные. Кажется, они никогда не насыщались. Петунии требовали воды. Розмарин, лаванда, барвинок белоцветный, пурпурный и голубой, которые, казалось, не могли насладиться моим унижением – требовали. Инжир, папайя, манго, киви, карамбола, кароб, саподилла, япотикаба, шоколадное дерево, кровожадные георгины[5]… После пятидесятой ходки я шатался подсолнухом на ветру. И сколько же здесь обитало всякой аспидной мрази. Пыточных дел мастера (знаете, о ком вопию я!) всполошившийся тучей встречали у пруда: и отличались удивительной виртуозностью. Но то, что, поднимаясь с нимфейника, целыми звеньями терзало кроме лопаток и несчастный мой лоб, было только что вылупившейся желторотой мелочью. Возле тенистых кущей роилась настоящая комариная гвардия, всеми крыльями своими звенящая об Армагеддоне, который тут же, к всеобщей радости крылатых демонов, и начинался (в кустах остролиста к молодцам-гренадерам добавлялись еще и мошки, любимейшие создания дьявола, забивающие ноздри, рот и уши). Я выл и, роняя ведра, чесался, как шелудивый пес. Мелкие муравьи, там и сям опадая с ветвей, довершали насилие. Две гусеницы гигантских размеров повстречались возле ванильной орхидеи (мне показалось, они даже шипели) – и, кажется, брызнули чем-то пахучим. Побоявшись давить явных гадин, я позорно бежал. Я томился и пал духом: мой труд, словно великая китайская стена, сулил только бесконечность – и более ничего. Беспрестанно питая рай, в первый же день я превратился в руину. Я распух и поистине озверел: тело было укус на укусе. Плюс невиданный, дикий пот. Меня словно посыпали солью. Мозоли вскрывались одна за другой: мне казалось, я слышу, как они лопаются. Сад, полный мелких и крупных извергов, сиял как ни в чем не бывало: благоухающий, безмятежный.
– Ну что же, с мелочевкой ты справился, – заметил возникший рядом дедок, – теперь подложи компоста под вон ту камнеломку.
Я безропотно потащился к компосту. А затем попросил:
– Пить!
Он удивлялся и ранее, но здесь так просто подпрыгнул.
И показал на пруд.
Губы мои, протестуя, едва шевелились:
– Только не это.
– А что же еще? – сама дизентерия вещала его голосом.
– Думаешь, я буду хлебать эту теплую вонючую воду с личинками комаров?
– Непременно, – хозяин вновь оперся на уже знакомый знак власти.
Меня опять принялось терзать фантазерство:
– Здесь должен быть родник. Нечто холодное, чистое.
– Его нет, как и нет поливалок. Вода вполне подходит. Тепловата, правда, и с привкусом, но ничего не поделаешь.
– И тебя никогда не посещала идея выкопать колодец?
– Будь проще, – сказал он.
– Боюсь, не получится.
– Не сомневайся в силах своих!
Дед, несомненно, как пять пальцев, знал недалекое будущее. В том недалеком будущем я опустился на четвереньки. Я трясся от отвращения. Поначалу я черпал гадость ладонью.
Сквозь скрюченные пальцы вода протекала, как сквозь дуршлаг. Затем, содрогаясь, опустил лицо еще ниже, лицезрев собственную безумную физиономию. Разгоняя кувшинки, я начал хлебать болото. И, кажется, вместе с личинками.
Старик запротестовал, увидев попытку мою стащить брюки:
– Нет, нет. На компостную кучу!
– А что, нельзя за кустом?
– Все должно идти в дело.
– Хорошо. Помочиться-то хоть можно именно здесь?
– Только не на лириодендрон!
Я направился к розам.
– Нет, нет, сынок! Оставь в покое розарий!
На фоне подлых кремовых роз клевер ползучий – чудо. Место, почва – любые. Ухода не требует.
Я помочился на этого доброго малого.
Какие спички?! Боже, какие там спички?!
Ни примитивной печи, ни костра, ни кофе, ни чая, ни хотя бы пресных лепешек в золе (не было соли, не было даже горстки сахарного песка, даже сахарной пыли в карманах). Вновь продемонстрировав нефритовую подставку для подбородка, дед открыл еще одну истину – здесь обходятся без горячей готовки. Так же непринужденно (и от этого вдвойне страшно) сражает инсульт: на этот раз я схлопотал по лбу энергетической палкой, впрочем, хлопнувшей с не меньшим успехом.
С зажигалкой я попрощался, кажется, в своей молодоженской ванной, она осталась на бритвенном столике (именно в дни, когда забываешь необходимое, и разражаются катастрофы), совершенно ведь по-дурацки бросил в той благословенной, умчавшейся жизни ее скользкое пластмассовое тельце, навсегда отрезав себя от выпеченного хлеба (все то же хлебное дерево), жаркого (здешние кролики) и, что самое дикое, от благословенного, божественного, лечебного никотина. А какой в этом аду колыхался повсюду табак! Подобные листья повергли бы в шок кубинцев.
Глядя на это поистине королевское курево, ваш покорный раб сходил с ума от одной только мысли, что еще неделю назад, расфранченный, благоухающий «олдменом», высокомерный, словно британский бульдог, он отказался от миниатюрной подарочной лупы: ее совали китайцы вместе с набором жалких своих авторучек на каком-то совершенно никчемном приеме – конечно, без пяти минут сэру (зарплата триста тысяч долларов в год, не бог весть, конечно, но все впереди, ведь позади Гарвард) не хватало еще этой стекляшки. Вместо того чтобы сунуть ее в карман благоухающего пиджака, от которого после нескольких дней моего здесь пребывания отказался бы даже самый непритязательный старьевщик (а что ведь тогда стоило просто сунуть!), вместе с теми же ручками, выбросил в первую попавшуюся урну.
Господи, все было предопределено!
Пачка «Кэмэл», извлеченная из заднего кармана заляпанных глиной брюк, смятая, словно лицо алкоголички (внутри прилипли друг к другу две оставшиеся близняшки), выглядела форменным издевательством.
Огнем здесь не пахло, его просто неоткуда было взять.
А вот «Кэмэл» пах, он еще долго мучительно-сладостно пах. Прошло еще огромное количество времени (я не говорю недель, месяцев, лет, я перестал их считать, с горьким смехом смотрел я потом на ранние наивные свои зарубки) в этой дурной реальности, которая, словно мешок зерном, заполнилась доверху нескончаемым, ужасающим в простоте своей, идиотским трудом («рай должен сверкать, сынок») – без праздников, без отдохновения, без позабытого почти сразу обыкновенного сладостного человеческого ничегонеделания, вкусного, как арабская халява, – прежде чем пачка, запах которой я так жадно вдыхал, распалась на атомы.
Оставим за кадром ломку, забудем о жевании бетеля и хвои, о набивании рта кизилом и листьями мяты, о прочих уловках и судорогах. Прочь слезы! Только по этому поводу я выдавил их целое озеро.
Увы, с курением было покончено.
Что касается наркоты – униженно, пылко я прислуживал маку, пропалывая грядки с истинным остервенением афганца, но, поверьте, попытки дилетанта слизывать сок с бутонов, как, впрочем, и выдавливать содержимое знаменитого кактуса, всякий раз приводили к смехотворному результату. Кока давала самый жалкий эффект – листья ее могли разве что взбодрить после бессчетных возвращений от пруда к далекой (и, разумеется, самой жадной на выпивку) сесбании пурпурно-красной (sesbania punicea). Что поделать: в этом дурацком опрокинутом мире все было не так, как в том! Боже праведный, где они, протянутые дорожки великого кайфа, рассыпаемые по столу в полутьме казино, при одном виде которых пробивала мои ноздри долгожданная дрожь? И тот несказанный полет после каждого вдоха! Где он? Пребывая слугой целых зарослей первоклассной индийской «травки», я едва не ревел белухой, вспоминая сладкий дымок и свою ловкую машинку для строгих, безукоризненных, как английские сорочки, джойнтов: Господь Бог мой свидетель – я лишился самых невинных удовольствий. Насмешка, насмешка невиданная насмешка!
Пару слов об алкоголе. Вдоль троп и аллей эдема резвились виноградные плети, и каждая гроздь «изабеллы» была тяжела, словно грудь разбитной рубенсовской вакханки – но где прикажете их давить?! Ведь не в ужаснейших и дырявых ведрах.
Я ОСТАЛСЯ БЕЗ ВЫПИВКИ!!!!!!!!!!!!
Только вдумайтесь, господа. Осознайте весь этот библейский ужас!
Холодная vodka (единственное, что восхищает альбионских лордов в лукавой северной Скифии): поллитровка ее (если взяться за эту бутылку, рука не вынесет больше двух-трех секунд поистине дикого холода), на серебряном подносе в брусках алмазного льда доставляемая к столику; рюмка с четко рублеными гранями, или лучше, граненый стакан, этот восхитительный мухинский шедевр, а также селедочный хвост и огурчик, господа, огурчик, незадолго до подачи словно зародыш плававший в животворящей жиже рассола, освобожденный вилкой от материнского лона банки и нетерпеливым пальцем – от прилипшего смородинового листа. Глоток ледяной амброзии – какофония чувств, апофеоз гастрономической страсти, «Весна священная» языческого в своих страстях Стравинского, истинный марш из прокофьевского «Ромео»! Где ты, водка?!
А джин (этот старый добрый шотландский одеколон), ирландское виски, воспаляющая желудок и нервы текила, амаретто с мартини, мюнхенский шнапс, кальвадос пропойцы Ремарка, «бурбон», наконец?! Где вы, друзья?
Коктейль «Мечта яппи», поглощаемый вечерами (пекло, нега, вентилятор, торшер, неизменный махровый халат после душа и мокрые пятна от пяток по всей квартире – на парусах подплываешь к заветному бару, ах, все то же молодоженство, «дорогая, не желаешь ли пропустить по стаканчику?» – «разумеется, зайчик!»), вот рецепт «Мечты яппи»: двести граммов «Вдовы Клико», сто пятьдесят ликера («Клубничный», «Рябиновый», пусть даже «Кофейный»), несколько капель облепихового настоя, чайная ложка бальзама «Биттнер» – лимонная долька, свистящая словно свирель, соломинка: «люблю тебя зайчик, ты бесподобно милый» – «рыбка моя, я готов принести тебе солнце»… Где ты, коктейль?
Благородный гаванский ром – откликнись же, наконец! Я погибаю.
Квинтэссенция человеческой цивилизации, ее гордость, ее вершина, совершенство ее технологического ума – жестяная пивная банка. Подай хоть ты свой бархатный голос!
Нет ответа.
Были грезы о мясе, изматывающие не хуже местноболотных мошек.
Сколько лет, оказавшись в этой тюрьме, собакой Павлова я исходил на слюну. Впрочем, какое там исходил. Я заливался ею. Каждый раз, как только рвать начинал зубами спаржу, свеклу, морковь, редис, как только принимался хрупать сырым картофелем, запивая его теплой мутью из все того же пруда, миражом дрожал перед бедными моими глазами настоящий мясной коктейль: бекон, котлеты по-киевски, по-берлински, австрийские отбивные (истинный венский вальс!), ромштексы, бифштексы, бефстроганов (зайка-жена так славно его готовила!). Черты лица ее в конце концов растворились, но до мельчайшей микроскопической трещинки помнилась мне тарелка, полная восхитительных этих кусочков.
Мерещились также рульки; окорочка; подобные рентгеновским снимкам, розовые, словно попка младенца, пластиночки утренней буженины; говядина; курятина; гусятина; утятина (бульоны, духовка, жарка); бекасы в собственном соку; вальдшнепы с укропом и вишней; пузатый бочонок индейки; шипящие куропатки (масло, сковорода); вновь говядина; вновь бекон; «вепрево колено» (где-то там, в бесчисленных пражских подвальчиках, официанты и по сей день шатаются под тяжестью блюд), прочее, прочее, прочее (стоны мои бесконечны). Наконец, посещали меня самые прилипчивые видения: решеточные уик-эндные барбекю и унизанные бараниной, острые, словно кавказская страсть, шампура над раскаленным мангалом.
Несчастный австралопитек – я уповал лишь на дождь. Мечты о воде небесной преследовали долгое время – я уверил себя: рано или поздно здесь разразится гроза и Бог наконец-то придет на помощь, расщепив молнией хотя бы вон ту ель голубую канадскую. Я представлял себе, как разбегается пламя. Всесилен яркий язык его посреди цветников и рокариев. А после ливня – благословенные угли: их не сможет залить никакой ураган. И костер из сухих, смолистых, спрятанных ранее под навесом ветвей, над которым в одно мгновение можно сготовить хотя бы и попугая, ощипав, выпотрошив подлеца, насадив на прутик, без соли и без приправ (о том, почему с таким наслаждением отправил бы в свой желудок все это поганое племя, поведаю вам позднее). Сколько лет изводили меня безумные грезы. О, невыносимое царство пресных овощей. А фрукты! Собачий блюз, заунывный спиричуэлс! Уже чуть ли не на третий день заточения сделалось омерзительным манго. Невыносимыми стали ананас и папайя. Не проскочило недели плена – перезревшие бананы (отвратительные слизняки) разъезжались под моими босыми ногами: с наслаждением маньяка давил я целые связки. Гранат, авокадо, лимон? Настоящая пытка! Оливы? Забудем их как можно скорее: тоска разъедает. Подайте хотя бы крота, хотя бы землеройку – зубами готов сдирать с них шкурки – и на вертел, на вертел! В конце концов, можно в шкурке. Можно с шерстью, целиком – лишь бы жарилось, лишь бы скворчало. Наслаждение обсасывать каждую косточку!
Пытался ли я бежать? О, пытался ли я бежать!
В вечнозеленой ловушке не оказалось ни гвоздя, ни веревки, ни топора, ни молотка, ни пилы – и ни единой доски. Попробуйте-ка из ничего сотворить лестницу! В первые годы я доходил до того, что уподоблялся бобру, пытаясь грызть тонкие ольховые и рябиновые стволы. Увы, тяга к так неожиданно, просто и нелепо расставшейся со мной свободе напрочь лишила элементарного разума – для удачи, конечно же, требовались бревна не менее пяти дюймов в обхвате, высотою метров семь – все остальное было напрасной тратой времени. Забегая вперед, замечу: лихорадочные приготовления осуществлялись редкими безлунными ночами почти что на ощупь. Каторжный труд дневной душил меня, словно налоговый инспектор: иногда попросту не хватало сил заползать в самый дальний конец сада, пускать в ход зубы и вконец убитые руки (каждая косточка пальцев моих вопила от беспросветной усталости), перевязывая то и дело рвущимися лианами заготовленные днем жердины и униженно, ко всему прочему, умоляя фазанов и вальдшнепов не поднимать обычного гвалта (как правило, паника этой бестолочью все же организовывалась).
К тому же вездесущий дедок не дремал. Если мучитель вынюхивал скрываемые в самых укромных местах свидетельства очередной попытки побега, героическая работа моя уничтожалась самым безжалостным образом. Разумеется, я не ставился об этом в известность: ухмылка старого негодяя была явным признаком удачной охоты. Но и от того, что с таким трудом удавалось спасти, в конечном счете, не было проку: прислоняемые ночами к воротам гнущиеся лестницы из ненадежных рябин, под моим весом неизменно обрушивались. Попытка подкопа (созданные из щепок совки, все те же безлунные ночи, горстями выносимая и затем рассыпаемая по всему саду земля, титанические усилия, чуть было не сотворившие из меня сумасшедшего) достойна отдельной саги. О прорыве через кустарник не могло быть и речи, однако отчаяние доходило до грани. Как самоубийца-заключенный рвется к проволоке с электрическим током, так и я временами, теряя рассудок, несся на приступ. Садист-старикан каждый раз невозмутимо выковыривал меня, всего, от несчастной головы до не менее несчастных ног нашпигованного колючками, из зарослей. Яд этого чудовищного растения, после каждой такой безумной попытки скручивающий не хуже столбняка (несколько часов после штурма я рычал, катался по лугу, корчился, испуская пену изо рта), был мучительным наказанием – и Господь, судя по всему, не собирался его отменять.
Итак: таскание ведер, копка, прополка, культивирование, неизменный компост, рабатки, миксбордеры, полив баухинии пурпурной, собирание бананов и фиников. Комары, размером с бомбардировщик, злокусачие мошки, избороздившие тело царапины, нарывы, наконец, фурункулы, величиной с вулканы.
Знаете, что дед однажды сказал?
– Главное – яванские розы. Ты – лишь средство, сынок!
Описывать ли подробно ад, который разверзся передо мной?
Поверьте: слишком тоскливое это дело.
Желал ли я во что бы то ни стало найти ключи?! Бросался ли на тюремщика (тяпка, мотыга, коса) в самый неожиданный миг для него (день, ночь, утро) – от неизбывной тоски, от взрывающей изнутри не хуже гексогена, ни с чем не сравнимой ненависти?!
Да, тысячу раз, да: желал и бросался.
Проклятая бамбуковая палка! Проклятый нефритовый набалдашник!
В тот день я не смог поверить ушам своим. Я откинул мотыгу.
Как дрожал я, истощенный илот. Как паралитически трясся. Мою грудь наизнанку вывернул удивительный, никогда более не повторившийся, спазматический крик: жутко-сладостный, словно второе пришествие.
Дед оперся подбородком на палку, но напрасно в тот миг демонстрировал он свою несколько натужную конфуцианскую безмятежность. Плевал я на него. Из-под тени couroupita guianensis выбежал я на простор лужка.
Собиралось. Сгущалось. Рокотало и близилось. Концлагерь был наконец-то обложен: тучи, тучи, торжествующая чернота. Солнце, загнанное на пятачок, еще металось над нами. Обреченное, оно злобно сеяло свет на посадки анакардии западной. Я сплясал настоящую джигу. Я исполнил пару кульбитов. Так внезапно проявляется подобный талант в моряке-одиночке, делящем свою судьбу с затерянным островком где-нибудь в глубине океанского космоса, при виде размазанного по горизонту дымка.
По всем признакам должно было грохнуть. Истинное ничтожество этого адского сада, цветочно-огородный гарсон (вечный бег по маршруту: пруд – миксбордеры – деревья), пусть на сутки, пусть хотя бы на вечер, будет избавлен от пота, от зуда, от жгучей ненависти к рододендронам.
– Ливень, ливень! – орал я словно резаный. – К дьяволу пруд и ведра!
– Ах, вот в чем дело, – скрипнуло сзади.
Я не слышал тюремщика. Очередной кульбит. И вопль очередной:
– К дьяволу пижму и герань луговую.
– Здесь не бывает дождя, сынок.
– Будь прокляты вейгела и вербейник монетчатый!
– Здесь не бывает…
– К черту момордику и розу из группы флорибунда!
– Мне очень жаль…
Благословенный ливень! Дождь! Rain! Regen! Pluie! Pioggia! Lluvia! Жанбыр![6] Нет, не ублажать мне сегодня, бесправному проституту, целое семейство северных орхидей, не поливать ятрышник, не кланяться угодливо венерину башмачку! Классические альпийские горки, сад камней: молодило, камноломка, карпатский колокольчик, флокс шиловидный – как хочется, чтобы все это провалилось, смылось потоком, растворилось, словно дикое наваждение.
– Парень, очнись.
Я споткнулся. Я очнулся. Безумие завершено, и глаза наконец открыты. Тучи шли по периметру рая. За стенами резвился всемирный потоп. Судя по отдачам вселенского грома (грохотало поистине с пулеметной скоростью), молнии – эти электрические бичи – испепеляли планету. На расстоянии вытянутой руки проливались бесчисленные Ниагары, резвились водопады Виктории. Но солнце избрало своим убежищем именно это место.
– Ничего, сынок, не поделаешь.
Как неистово, до эпилептических судорог возненавидел я извращенца: его смущенный вздох за изнасилованной моею спиной, его легочное «кхе, кхе» и потряхивание бородкой. Нет хуже пытки, чем сочувствие глумливого набоковского палача[7].
Дед был прав – солнце здесь отсиживалось.
Значит – пахота без намека на перерыв. Значит, до конца, до донца, до полного истощения каждый день мне остается бегать от пруда до личи и до бругмансии с ведрами, сквозь прорехи которых безвозвратно, как никчемная жизнь моя, просеивается вода.
Я боялся к старику повернуться. Я ужасно боялся своего собственного вопроса, который собирался слететь с бледных губ моих, я трясся не хуже шахтерского отбойника – но не задать его не мог. Настоящей кашей забился мой рот, когда я решился все-таки.
– Здесь не бывает зимы, – ответил мой м-сье Пьер.
– Весна? Осень?
– Лето, сынок, – закашлялся он («кхе, кхе, кхе»). – Бесконечное лето…
Где я спал? Вернее, где забывался – без сновидений, по-легионерски мгновенно, словно захлопывая за собой крышку древнеегипетского саркофага? Да все на том же лугу, на славном клевере (он, единственный, никогда ни о чем не просил и ничего не требовал), рядом с кустом серебристого лоха, подкладывая под совершенно бесчувственную голову камень, который после очередного рабочего дня казался персидской подушкой – измотанный, заброшенный, потерявшийся в пространстве. Бедные мои брюки: вернее – болтающиеся, разодранные на коленях их обрывки! Бедная сорочка моя: вернее, клочки ее, каким-то чудом еще трепещущие на мне. Пиджак, превращенный в тряпку, давно валялся за яблоней. Испорченный «роллекс» (я пытался было приспособить под лупу «швейцарца», пытался выковырять стекло из драгоценного обруча, но оно, представьте себе, раскрошилось) давно был выброшен в пруд. Единственное, что еще имело какое-то время товарный вид, – трехтысячедолларовые ботинки. Поначалу их обладатель еще на что-то надеялся (гном непременно выудит ключ из потаенного места и поднесет на блюдечке, распахнутся ворота, нонсенс закончится, сон завершится). Клянусь, я даже не думал о привлечении старца за настоящее рабство – нет, нет, не желал проявить благородство: просто бежать и забыть. Для подобного исхода из рая я старался сохранить хотя бы ботинки. Босой, как последний гаитянский шаромыжник, я послушно возился с рокариями (дед одобрительно тряс бороденкой), я рыхлил кишащую насекомыми почву вокруг лириодендронов тюльпанных, я возделывал купуасу, я оказывал знаки внимания даже раздутой, словно толстушка, и обходящейся без особых садоводческих милостей подагрической ятрофе. После ежевечерних мучений с водохлебом-бамбуком (фаргезия, саза курильская), я пропадал в огороде: вновь дурацкая свекла, гребаная спаржа, гнусная брюссельская капуста, прибежище крахмала батат, при одном виде которого сводит скулы. Я махнул рукой на костюм, но сберегал ботинки, словно знак неминуемого освобождения.
Несчастные ступни мои – искусанные всякой ползучей и летающей тварью, изорванные лопающимися волдырями, – ознакомились здесь с каждым злобно торчащим сучком.
– Сынок, – однажды заметил мучитель. – Надень-ка ты обувь. Зачем так страдать?
Зачем?! И он еще спрашивал!!!!!!
– Не глупи! – советовал дед. – Подошвы твои еще недостаточно загрубели.
«Недостаточно загрубели!» Только вслушайтесь! Я проскрежетал зубами на подобное милосердие. Я метнул из глаз своих в сторону Ганнибала Лектора[8] молнию, приправленную самым искренним ядом – и тут же наступил на корень нанзимуса душистого. Наступали ли вы когда-нибудь на корень нанзимуса душистого? Сталкивались ли где-нибудь в самом центре Экваториального Конго с подобной мразью? Если нет, если никогда и нигде не попадался вам под ноги тот корень – вы просто счастливчики! Вы – истинные Паганели, которых из-за их близорукости минует любая беда – даже такая, как эта. Ибо nanzimus suaveolens – особая песня! Каждый его отросток – разбойничья палица с торчащими во все стороны, полными отравы, шприцами. Подобно чудовищу из самых душных кошмаров распускает нанзимус душистый под землей свои поганые щупальца, выедающие почву и создающие пустоты, в которые и попадает нога неудачника. А уж там все его шипы становятся вашими – вот что такое нанзимус.
Шприцы, разумеется, опорожнились.
Упал ли я? Забился ли в судорогах? Задохнулся? Пошла ли пена изо рта моего?
Да.
И влез в ботинки – и распрощался с будущим.
Проклятые ведра.
И растения! Растения! Злобные, жадные нетопыри! Курупуния гигантская алая, подобная циклоповой трубе архаичного, прапрадедушкиного патефона, повернувшая к рабу эдема завлекающий зев, распахнувшая свою жадную благоухающую вагину с живым, трясущимся, дразнящим полуметровым язычком внутри. Я и не подозревал, что такое вообще возможно. Старый подлец, как всегда, не обмолвился словом, а я нисколько не осторожничал, будучи стопроцентно уверен – уж меня-то она не ухватит: дело наверняка заканчивается насекомыми, на худой конец, еще какой-нибудь мелкой живностью типа колибри. И уныло возился с мясистым стволом алчной дамы, подвязывая ее туловище к обреченному на подобное соседство кипарису. Но запах, запах! У этой чертовой курупунии была настоящая течка. Бедный нос мой неминуемо приблизился к бездне.
Подобно опытнейшему анестезиологу вдова открыла свой клапан и испустила газ – две секунды, два вдоха…
Дед!
Каким-то образом вновь он шатался поблизости: косил, боронил, удобрял, обрывал, орудовал секатором – не знаю, не помню, думать о том не хочу.
Голые скользкие ступни мои непременно бы выскользнули (растение уже почти целиком меня поглотило, засосало, задушило слюной, приготовилось к пиршеству, к перевариванию, к торжеству растворения, к превращению горделивого всемогущего хомо сапиенс в желеподобный гумус) – но ботинки!
Ему удалось схватиться за их жесткую кожу.
Иссиня-зеленый, со слипшимися младенческими глазами, весь в пищеварительной слизи, намертво обвитый омерзительным язычком, я исторгся из лона. Я плакал, хрипел, плевался. Я хватал перекошенным ртом живительный воздух – до дрожи, до храпа, до зубного дробного щелканья.
Пуповина была немедленно разрублена.
Один ее красный обрубок уползал внутрь затейливой и искусной ловушки, другой – хвостом ящерицы – долго еще шлепался перед нами.
Клянусь, я слышал, наглая тварь шелестела: «Мы еще встретимся…»
Ни философии, ни пожеланий, ни самых обычных советов – тюремщик вернулся к делам своим. Я – облитый соком растения, гнусный, липкий, словно русский чиновник, – продолжил счет своих унижений.
Впрочем, что там курупуния! А, подобные этой даме, всевозможнейшие астрекусы? А изнеженные, словно лондонские геи, филомелы с острова Ява? Мне всегда казалось: готовы меня удавить.
Еще доказательства подлости? Росалиус белоцветный – не менее эротическая кукурузина. Бодрый фаллос источает энергию – ни дать ни взять мужское начало, обильно опрысканное все тем же «олдменом».
Но стоит к нему нагнуться – невиданный, дьявольский метеоризм.
Я падал каждый раз возле росалиуса бело-цветного.
Я падал возле анемонии ибитус (отвратительная, и, как у росалиуса, неожиданная вонь).
Рута душистая, пастернак, чистотел и ясенец. Пушистая тропическая вергетта, с виду приглаженная (скромный фартук по стеблю) и, казалось, наивная, словно выпускница мадридского католического колледжа… Да на подобный пук не способен самый отпетый клошар после бадьи чечевичного супа!
Ах, сколько здесь произрастало всяческих выродков!
Возлюбил ли я после всего этого дурманию кольчатую, степурию, репчатого голосата, адекондрона и еще многих подобных бандитов, о которых раньше и не слышал, и о существовании которых, находясь в той жизни, за стенами, даже и не подозревал? Господа! Здесь нужно словцо покрепче водки и спирта! Меня пытались сожрать, облить и обгадить. В изболевшееся мое существо, в бессмертную душу мою, словно дротики дартса, вонзали колючки. Терзали они меня, бесконечные ибитусы и торцепторы. Мучили. Хохотали они надо мною. Гнобили на фоне безупречного рая. В этих, к слову сказать, аристократичных на вид, раскрашенных, наряженных, вычурных, словно выставки постмодернистов, пижонах постоянно таилась какая-то гниль. Напротив (как, впрочем, всегда бывает), нищего вида селениусы, неказистые дворняги-васильки, уныло, словно сироты, побирающиеся в величавой тени гирбитуса римского (та еще изощренная тварь!) лютики, маргаритки, а с ними остальная луговая чернь, по крайней мере, не мешали работать.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Согласно древнегреческой легенде, орел, пролетая над долиной с черепахой в когтях, принял лысину философа Фалеса за камень (она ярко блестела) и выпустил на нее свою добычу, стремясь подобным образом расколоть черепаший панцирь. Результат бомбардировки для Фалеса был печален. – Здесь и далее, помимо специально оговоренных случаев, прим. автора.
2
Вокс и Олмстед – ландшафтные архитекторы, создавшие знаменитый нью-йоркский Центральный парк.
3
Здесь имеется в виду деловой квартал любого города.
4
Nowhere man – человек ниоткуда, или безымянный человек (англ.).
5
Георгины (родина – Латинская Америка) названы кровожадными не случайно: они имеют весьма темное прошлое. Именно их древние ацтеки считали цветами свирепого бога Уицилопочтли; именно их высаживали жрецы возле своих пирамид; именно они произрастали на местах кровавых человеческих жертвоприношений.
6
Следует повторение слова «дождь» на нескольких языках. Особо любопытный читатель может пробежаться по словарям и определить, что это за языки.
7
Имеется в виду пошляк, циник, а по совместительству еще и палач, м-сье Пьер, персонаж, пожалуй, самого удивительного набоковского романа «Приглашение на казнь».
8
Ганнибал Лектор – интеллектуал-людоед из нашумевшего в свое время американского фильма «Молчание ягнят».