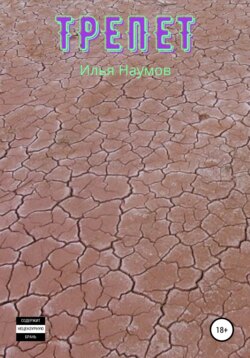Читать книгу Трепет - Илья Игоревич Наумов - Страница 1
ОглавлениеДействительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст.
Андрей Платонов «Усомнившийся Макар»
And I miss you
(Like the deserts miss the rain)1
Everything But The Girl «Missing»
1.
Город дождался Федора, но не соскучился. Воздух тауна оказался тяжелым и пахучим. Поезд захлопнулся и угрохотал. За билетной кабинкой роились маршрутки цвета расплавленного сыра; их водители тоже чем-то напоминали расплавленный сыр, а Федор, отрицавший саму возможность плацкартной трапезы, не ел уже приблизительно двенадцать часов. Однако он отказался от услуг газелистов и, сочинив из своего возвращения повод пошиковать, выудил из воспоминаний номер самого приличного по тем временам такси, и даже дозвонился, и осознал, что первым человеком, с которым он здесь заговорит спустя восемь лет, станет Алишер из бордового Хюндая, что, в общем-то, наверное, ничего. Пошевелив подслипшимися извилинами, Федор пришел к выводу, что на эту роль у него не было лучших кандидатур.
Ему захотелось придумать из поездки по городу машину времени. Место отчаянно подходящее: те же испачканные облака, тот же потрескавшийся асфальт, коренастые полужилые дома – а вывески… Ну да, где-то есть новые, не пропитанные воспоминаниями вывески. Полиэтиленово-синий гипермаркет «Европейский» родился и вырос уже без него. Без него в универмаге на Васнецова вылупился «Бургер Кинг». Федору за ближайшими бургерами доводилось ехать 270 километров. Три часа пути – такие невыносимые, пока не попробуешь столичных на работу и назад.
По бокам от вывесок те же по-своему изуродованные ДК. Сухие фонтаны. Дымка уже успевшей налипнуть на зубы рыжей пыли. И это сквозь затонированный Хюндай. В машине у Алишера была магнитола с портом USB, и некоторое время Федор нагнетал просьбу подсоединить свой смартфон, но в итоге так и не решился. Внутри головы он на полной громкости прогнал пару песен группы Винтаж и самую хитовую у Рефлекса. Параллельно с этим пытался выяснить, насколько сильно изменились здешние жители, но даже сквозь чокеры и эирподсы ему настойчиво мерещилась затасканная цитата Нельсона Манделы. Все-таки он нарочно возвращался назад, и это касалось не только пространства. Люди должны были остаться прежними, как фасад Белого дома или памятник Ленину на Комсе, за которым, правда, выскочила обновленная картонно-бежевая коробка драмтеатра.
По Алишеру трудно было судить – он был обычный, классический Алишер, к сожалению, а, скорее всего, к счастью, немногословный, смуглый и круглый, если говорить о лице. На руке у него были часы, бликующие золотом, а на туловище – серое поло претендовавшее на бренд. Пахло в машине сладко и горячо, а Федор отвернулся и склабился, смакуя подобное сочетание эпитетов. Федор боялся старых запахов: ему все казалось, что, наглотавшись воздуха простуд и сквозняков, он задохнется в смраде малой родины и будет очень долго и не факт, что успешно, привыкать к старым новым ароматам. Однако дыхательный аппарат не забыл о том, как фильтровать выхлопы раскуроченных комбинатов, не производивших уже, кажется, ничего, кроме сепии облаков. У Елшанки, естественно, будет вонять прокисшей водой, а в остальном вполне себе кислород.
Город дождался Федора и завалил его ощущениями и мыслями, которые тяжело было уместить в такси, при всем желании водителя не способное еще сильнее растянуть в общем-то пеший маршрут до его старой новой квартиры. Кое-что Федор успел разглядеть еще до того, как выплатил Алишеру триста и вынужденные двести на чай. Например, со двора утащили качели – смертоносный аттракцион из детства, который решили не вкапывать в землю, в результате чего раскачивалось не только сиденье, а вся конструкция целиком. Бабушка запрещала Федору кататься на них вплоть до самого выпускного – она думала, что это самая опасная штука во дворе, хотя сам Федор очень быстро выучил, что намного страшнее качелей скутер Саньки Игнатьева. Его наличие здесь означало, что Санька Игнатьев рядом, и лучше бы на время спрятаться со двора, иначе можно остаться без телефона или, если повезет, просто испытать унижение, глупо мыча, пока Санька будет оплевывать тебя феней, толкая по плечам и замахиваясь то так, то этак. Из всех уроков, заданных на дом, Федор все никак не мог выучить правильные ответы на быковство, о чем он вечно жалел, когда после очередного рандеву потихоньку капал дома на простыню с Губкой Бобом Квадратные Штаны.
Прошло восемь лет, а Федор завис и помрачнел, натолкнувшись в памяти на эпизоды общения с Санькой, и спохватился, только когда Алишер начал уже специально сопеть, что при солидном бакшише можно было счесть за наглость. Извинился, тем не менее, Федор, он же ошалело вывалился из машины и, передумав еще подышать и осмотреться, поторопился в сторону подъезда, около которого, к счастью, не было знакомых, да и незнакомых тоже пока не нашлось.
Федора можно было понять, ведь с самого прибытия в город он находился в плену чуть ли не восторженной ностальгии, от которой отскакивали пластиковыми пульками не самые приятные физические ощущения, а также гости из настоящего, мешавшие безупречно воссоздать в голове атмосферу сказочных нулевых. Однако у города и на этот раз отыскалось орудие, способное менее чем за час пробить накопленную годами эмоциональную броню. У третьего подъезда старого нового дома не было знакомых да и не знакомых Федору людей. Старая лавочка без спинки, две поколотые ступеньки и палисадник сорняков. К оградке палисадника простеньким велосипедным замком прикован потертый, но все еще пугающе черный скутер Саньки Игнатьева. Федор узнал его, потому что он только что его вспоминал. Или, может быть, наоборот.
2.
Федор захлопнул входную дверь и решил больше никогда никуда не выходить. Голова стала ватная – этим материалом он решил наскоро заполнить череп, чтобы хмурые мысли не сочились по всему организму, парализуя конечности и расшатывая пульс. Не помогло. Пришлось сначала присесть и глубоко дышать, параллельно осматривая комнату, в которой за эти годы практически ничего не произошло. Подумать только, он уезжал отсюда, когда вышла тринадцатая фифа. Когда телефоном еще не оплачивали покупки в продуктовом и машины еще не брали на прокат. А в комнате ничего не произошло. Даже в тумбе под телевизором по-прежнему его и дедовы VHS. Вперемешку с дисками, которые вроде бы тоже теперь архаизм. Федор высыпал кассеты и залип. Попробовал соотнести персонажей Черепашек с героями Бригады. Затем наскоро запихал кассеты обратно и пошел на кухню хотя бы заварить себе чай. В холодильнике ждала разумная пустота – он бы точно расстроился, если бы пришлось выскребать оттуда страшные запахи, наподобие тех, что источал их общажный рефрижератор в том самом августе, когда Федор бросил здесь тринадцатую фифу с недоигранной карьерой за Боруссию. Позже можно будет выйти за едой в Магнит, плесенью прилавков просочившийся между колоннами бывшего дома культуры. В интернетах от этого шалели, друзья скидывали одинаковые посты с фотографиями и остротами, а Федор обычно пожимал плечами и нехотя отшучивался, мол, какая культура, такой у нее и дом. Культура без определенного места жительства.
Обдуваясь крепким чаем без сладкого с перерывами на экскурсии по комнатам, Федор шевелил собою весь день, до тех пор, пока не стемнело, но все-таки никуда не двигался. Город обменял скутер у подъезда на сумерки, Федор попытался вздохнуть с облегчением, но получилось наигранно – Санька все равно может материализоваться, где и когда угодно, да и не в нем одном крылась причина одолевшей Федора апатии. Быть может, Санька его даже не узнает. А вот узнает ли сам Федор город, который, как говорится, до слез? Утренняя уверенность подтаяла, выставив напоказ неумолимое скольжение времени. По крайней мере дома все, как всегда, и этого локального счастья хватит на сегодняшний день.
В какой-то момент у Федора раззуделся живот, но он уже давно выучил, что в подобной ситуации можно просто провалиться поспать, причем сон на обессилевший и изголодавшийся организм обычно ловится сочный и интригующий. Такой он и посмотрел, и, когда проснулся, долго еще лежал, с трудом соображая, где у него, в конце концов, грезы, а где реальность, и обязательно ли все должно быть именно так, а не наоборот. Пресловутое время потихоньку потрескивало в направлении к двум, и Федор встал только для того, чтобы раздеться и скинуть все мягкие игрушки с дивана, на котором он спал. Уже лежа под пледом, он пощелкал телевизор, обедневший на неоплаченные пакеты кабельного, и самостоятельно транслировал на экран несколько воспоминаний о том, как примерно в это же время он тайком включал всякие каналы и смотрел всякое такое. Спустя примерно пятнадцать минут Федор запихнул купленный во время часовой остановки в облцентре смартфон под середину подушки, снова укутался в плед, повернулся лицом к стене и, что-то пошептав о сохранности и спасении, отправился искать еще один лакомый симулякр собственного бытия.
3.
Рано или поздно приходится ерзать, а потом еще и просыпаться насовсем. Впрочем, в первое утро после возвращения, Федор даже не проматерился, после того как понял, что с ним произошло. Квартиру обрызгало солнцем, и вместе с прохладной водой из крана полился тупой оптимизм. Это лучше ржавчины, посвистывавшей накануне. Но, пожалуй, менее обоснованно.
Федор планировал вернуться к жизни, но не придумал, с чего начать. Рынок труда в городе практически совпадал с продовольственным, а у тех, кто не желал покупать-продавать или воровать, в последнее время закончились и заводы. Покряхтел и шлепнулся машиностроительный, потерялся во времени тракторный, продолжал распылять рыжую дичь, но при этом перестал впускать и по-человечески выпускать рабочих никелевый комбинат. Федору, казалось бы, нет дела, однако в сферах почище да поизвилистее ситуация обстояла еще хуже, потому что какой уж на этом безрыбье мог рассыпаться перламутр?
Когда он учился в десятом классе, преподаватель языковой школы «Clever», на эмблеме которой, как ни странно, был действительно изображен клевер, попросил Федора заменить его на одном из занятий, которое сам Павел Максимович не смог провести ввиду внезапной болезни. До сей поры неизвестно, был ли это осознанный шаг учителя или его похмельно-спонтанный прикол, но Федор действительно подготовил урок и провел его для оболдуя на три-четыре класса помладше, даже не задумавшись о том, что родители подопытного в начале месяца вложили чуть ли не треть зарплаты в свободный разговорный английский своей единственной надежды на этом далеко уже не белом свете. Федор читал незнакомые слова по наитию, а, споткнувшись об их перевод, выдумывал что-то наиболее логичное и похожее по звучанию, чем грешил и Павел Максимович, предлагавший также иногда самостоятельно поработать со словарем, якобы, для развития каких-то там навыков.
Школа «Clever» все еще существовала, а на ее сайте педагогов пытались наскрести и намести, не предъявляя сверхъестественных требований. Федор на всякий случай бросил галочку в отсек вариантов и переключился на поиск частников, с которых в столицах всегда можно было насобирать побольше, да еще и в удобные часы. Осточертелый пустой чай закончился быстрее, чем он обнаружил первого кандидата, но это вряд ли удивило Федора, помнившего, где ему теперь выживать по собственной воле. Пританцовывая под колонку, которая призывала не грустить, не скучать, а еще не верить и не обещать, он собрался на первую настоящую вылазку в город. В первой столице потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к прогулкам после одиннадцати и вообще к спокойному пребыванию на улице. Теперь, видимо, следовало отвыкать обратно, особенно с его гардеробом имени достатка и недостаточно грубых, маскулинных цветов.
Федор все утро заглядывал наружу и успел оценить обстановку: во дворе было спокойно, однако он решил оставить карточку дома, ограничившись скромными трехзначными купюрами, которые не вызвали бы интереса у наполовину выдуманных им самим персонажей, вприсядку обитавших на крылечке ближайшего продуктового. Того, что с балюстрадами. Наушники Федор тоже почему-то захотел оставить на столе, по-видимому, приготовившись наслаждаться звуками города, в свое время существенно повлиявшего на содержимое его плейлиста. На площадку Федор вывалился небрежно, примеряя статус хозяина этого места, но вскоре ему довелось шарахнуться и узнать о том, что незнакомые соседи сверху завели себе исполинскую псину. Следующие два этажа он спускался, уже съежившись, и на крыльцо выбрался в единственном агрегатном состоянии, приемлемом во вселенной, которую ему предстояло перепознать.
4.
Вика жила в серой девятиэтажке сбоку от Универмага, Платон – около парка Строителей, а Лев Сергеевич с Лизкой – наоборот, практически напротив рынка на Тбилисской, но Федору долгое время было все равно, потому что город для него начинался не там, а у цветного дома на Краматорской, в одну из однушек которой его принесли еще неопознанным объектом и положили произрастать. Федор долго и лениво выползал из младенчества, до конца с этой задачей так и не справился, зато решил, что можно будет попытать счастье и закинуть полвзгляда в квартиру, если вдруг он осмелится позвонить и если вдруг кто откроет. Квартира, в которой все начиналось. Федор так и не поинтересовался у родителей, кому ее продали и уж тем более за сколько – в восемь лет дом, из которого они вместе со всеми вещами съехали к бабушке, просто исчез, а потом появился новый, трехкомнатный и уже до конца. Старый, оказывается, все это время был здесь.
Вика жила ближе всех – в детстве Федор с отцом ходили до универмага минут за пятнадцать, а вот сбоку от него всегда стояла девятиэтажка, которая была узкая и оттого чересчур устремленная вверх, слишком страшная и почему-то вечно безлюдная – без света в окнах и вообще какой-нибудь суеты. Вика жила на восьмом, но Федору еще некоторое время было все равно. Прошел месяц с момента его возвращения, и в ящик продолжали ссыпаться остатки спама из жизни побольше, как вдруг туда затесался первый запрос на занятия за авторством Виктории, искавшей в городе носителя испанского языка и, видимо, обладавшей весьма неординарным чувством юмора. Испанский аналог имени Федора звучит как Теодоро, однако исключительно фатальные показатели актерского мастерства не позволяли ему всерьез задуматься о возможности такого притворства. Федор не ответил на запрос, и корил себя за это, потому что находил в данном поступке больше трусости, нежели здравомыслия. Слава богу, у Виктории был телефон, и она сама позвонила преподавателю, не дожидаясь подвигов от своего чистокровного маэстро.
Когда Федору было восемь лет, его родители предчувствовали приближающееся пополнение, и отыскали большую квартиру на Московской, в которой у Федора случилось все, чего не приключилось на Краматорской. На Московской жилось хорошо, а Краматорская ему все-таки иногда снилась, пускай и не в самых теплых тонах – каждый такой видеоклип доводил до такихардии, а в голове наутро оставалась загадка, вечно отвлекавшая от уроков, а затем еще и от работы. Вселенная Федора громоздилась на цветном доме с улицы Краматорской, а теперь он уже был практически однотонный и то ли надуманно, то ли взаправду зловещий: дверь в подъезд оказалась распахнута, но Федор стоял у порога и прирастал к внешней среде, больше всего опасаясь чересчур глубоко окунуться в фантастически-ностальгический триллер хотя бы одним из органов чувств. Там, внутри, кто-то был. И даже, наверное, в их однушке. Из подъезда тянуло прохладой, и это уж совсем деморализовало Федора, так и не выдержавшего столкновения с истоком первой жизни, и оттого будто пообещавшего самому себе скорее отыскать новую стартовую позицию.
Вика позвонила однажды вечером – Федор десять секунд всматривался в незнакомое сочетание цифр, а потом шумно выдохнул и снял трубку, на другой стороне которой образовался спокойный и низкий женский голос, для начала озвучивший уже известные и никуда еще не забытые данные из анкеты. Естественно, Виктория умолчала о предпочтениях касательно национальности педагога, и Федор подумал, что клиент, может быть, действительно желает выучить язык. Потом Вика сказала, что испанский всегда был ее страстью, а Федор говорил: «Это здорово, это очень, конечно, хорошо». Когда-нибудь в будущем Виктория мечтала обязательно поехать в Испанию и чувствовать себя там комфортно, словно это действительно зависело от языка. Вика обязалась быть добросовестной ученицей и выполнять домашние задания, после чего следовал застенчиво-кокетливый смешок. Еще они договорились встречаться у нее в середине дня, даже двух дней, а в будущем, если все пойдет хорошо, то, возможно, и в середине трех, потому что у Вики диагностировали энтузиазм, который в особых случаях приобретает хронический характер.
Остаток того вечера Федор провел в приподнятом настроении. Он приготовил себе ужин из сосисок и макарон и полил его кетчупом, а еще смотрел телевизор, в котором на этот раз не нашлось ничего путного, поэтому Федор просто жал на кнопки одной рукой, а другой уплетал, а внутри уже стоял на пороге и знакомился с Викторией лично, и объяснял ей спряжение глагола «быть», и повторял старую, но не такую уж и добрую фразу про то, что в настоящем времени у нас этот глагол опускается, зато в прошлом и будущем – вот он, пожалуйста, спокойно себе существует. В общем и целом, все это, конечно, в корне неправильно. Федор был, Федор ел и робко, но все же готовился быть в дальнейшем. А настоящее в этом приземистом городе ощутимо настолько, что когда-нибудь его все равно захочется стереть.
5.
Лев Сергеевич был человеком авторитетным, лысым и коренастым, отчего при знакомстве Федор скукожился и первое занятие провел как из раковины, стараясь пореже встречаться взглядом с новым работодателем. В квартиру ко Льву Сергеевичу Федор попал по наводке Платона, учившегося в одном классе с дочерью Льва Сергеевича Лизкой. В квартиру к Платону и его уважаемым родителям Федор попал, как полагается, через интернет, в котором он однажды обнаружил чуть ли не первую в своей жизни досконально заполненную заявку на сайте для поиска репетиторов. Смышленому и любознательному, но застенчивому и рассеянному мальчику четырнадцати лет требовался специалист по испанскому языку, чтобы следующим летом на отдыхе в Марбелье заводить полезные знакомства и вообще готовиться к переезду в Испанию на ПМЖ, потому что у нас тут делать нечего (черным по белому «у нас тут делать нечего»), а вообще стоит сделать уклон на юридическую сферу, ибо Платон в скором времени будет поступать на Факультад де Деречо университета Гранады. Федор долгое время перечитывал заявку с пятерней на лбу, вальсируя курсором вокруг багровой кнопки «Принять», но, в конце концов, вспомнил, что в этой жизни излишняя робость ему уже ни к чему, и смачно кликнул, практически тут же оказавшись на первом занятии в прилично обставленной трехкомнатной у парка Строителей.
Первое занятие с Платоном прошло куда спокойнее, чем с Лизкой, возможно, потому что родители мальчика сразу же оставили преподавателя и его жертву наедине, в то время как Лев Сергеевич и на первом, и на втором уроке сидел в плетеном кресле за тем же единственным в его квартире столом, за которым происходило аккуратное погружение в испанский, не вызывавший особого восторга у сонной, амебообразной ученицы. Лев Сергеевич сопел, прокашливался, шмыгал, но, надо отдать должное, не вмешивался в занятие, пока по прошествии заявленных полутора часов не оборвал Федора на полуслове и не предложил ему под кофе подвести итоги их первой встречи. Лизка нацепила наушники и ускакала на кровать, а Лев Сергеевич поинтересовался, есть ли вообще прогресс, причем не шутя, и Федору стало неловко, но он все же наплел про хорошую базу и тонкое лингвистическое чутье.
На самом деле, чутьем обладала Виктория, а в придачу к нему шли ирреально голубые глаза и обволакивающий парфюм – Федор старался поменьше смотреть на нее и не дышать, чтобы не забыть ненароком испанский алфавит. Уроки проходил на кухне, небольшой и простой, без намеков на дизайнерские решения и чрезмерную кулинарную активность; остальные комнаты были закрыты, и дверь на кухню Виктория тоже прикрывала сразу же, как только они с Федором оказывались внутри. Кухонный стол был квадратным, а участники педагогического процесса сидели по его смежным сторонам, достаточно близко, чтобы Федор краснел, потом случайно касался ноги Виктории своей ногой и краснел еще больше, пока не становился баклажановым и не лепетал, что очередное занятие к величайшему его разочарованию все ж таки подошло к завершению. Подготовка преподавателя к каждой такой восхитительной пытке делилась на теоретическую и моральную, причем серьезных усилий требовала не только последняя – в отличие от Лизки и Платона Виктория учила язык, делала все домашние задания и требовала знаний, которые Федор на этот час в полном объеме выбрасывал из головы, оставляя только то, что успел приготовить и зафиксировать в блокнот.
Шесть дней в неделю Федор начинал вечер с урока испанского, словно удерживающего его от тотального погружения в город, которому в целом были неведомы зарубежные языки. Федор ходил и видел, что его клиенты – сумасбродные исключения из правила, согласно которому здесь не принято быть непонятым, а чтобы быть понятым, язык надо ограничивать и упрощать. Федор давно перестал находить это явление скверным и, сидя на уцелевших брусках скамейки в парке Строителей, шептал себе, чтобы лучше услышать, что он именно по этому и скучал. «Именно поэтому и вернулся», – с улыбкой вздыхал Федор и шел в магазин за слойкой и йогуртом – побаловать себя за день, прожитый на белом свете не без труда.
6.
В свободное время Федор спал, или гулял, или смотрел видео в интернете. На улицу получалось выскакивать все смелее, хотя от скутера пока бывало чуточку дурно, а еще пару раз вдалеке мерещились лица из прошлой жизни, но Федор сразу же становился иссиня-серым и сливался с атмосферой самоугнетенного города. Впрочем, Федору было прекрасно известно, что в какой-то момент хронотоп застигнет его врасплох, однако день этот хотелось отодвинуть на потом, а пока он планировал самостоятельно осмотреть крестражи, замысловатым маршрутом раскиданные по карте памяти.
Парк имени первого поцелуя, забегаловка для прогулов ОБЖ, поляна, поросшая лебедой, где они все лето резались в футбол, после чего Федор отлеживался в ванне с красными глазами и просморканным, но все еще текуче-шмыгающим носом. Телевышка, с подножия которой видно практически все, магазин «Лаванда», где работала троюродная тетя Лиза, даже гаражи на шестом микрорайоне, куда так просто не доберешься. Контора отца, не в том смысле, что ему принадлежавшая, а как место его труднопостижимой деятельности, где Федор впервые поиграл за компом. Хлебный неподалеку от дома, в котором раньше были вкусные пирожные-картошки, а теперь сильно пахнет чем-то разложившимся, причем как будто бы от продавцов. Мост через речку Елшанку, еще один мост через Елшанку, и третий, кстати, тоже присутствует, но про него Федору нечего было и повспоминать.
В одну из прогулок Федор забрел в магазин за газировкой и встретил на кассе одноклассницу, с которой он практически не общался в школьные годы. Перескочить на другую кассу Федор не решился, зато попытался притвориться беспамятным, но Ася, встретившись взглядом с вечным отличником, сбросила хмурость, широко и розово заулыбалась, а потом начала повизгивать про сто лет, которые они не виделись, про то, что она вот понемногу подрабатывает в свободное время, да еще про то, что Федор явился неожиданно, потому что все были уверены, что он в столицах своих обжился и позабыл про город родной и про друзей закадычных в придачу. Федор зачем-то соврал, что приехал ненадолго на юбилей или, может быть, годовщину, а еще постеснялся-постеснялся да и пробормотал, что, к невероятному сожалению, крайне спешит и надеется еще пересечься, а, возможно, и собраться всей старой, никогда не существовавшей компанией. Затем он занялся спортивной ходьбой, а остановился только спустя несколько неочевидных поворотов, окончательно уверовав в то, что здесь Ася его не догонит.
Федору самому было смешно, но еще и нервно: он не готовился отвечать на вопросы, причем даже собственные, тарабанившие по черепу с самого возникновения идеи жесткой перезагрузки. Раз уж возвращение, то в теплое озеро ностальгии – никаких больше колебаний, никакого течения – Федор декларировал про себя и вслух, что устал, нарочно обходясь без дополнений. С той прогулки Федор тоже пришел измотанным, скорее, от осознания того, что город и не думал принадлежать ему одному, а значит в нем снова появились места, которые Федору придется обходить стороной, если только он не захочет вскрыться, причем неизвестно, в какой из дефиниций.
7.
Повсюду ходили слухи, и так было всегда. Они болтались вразвалку во всю ширину раздольных дорог этого города, так до конца и не вылупившегося из степи. Местным жителям слухи заменяли культурные и увеселительные мероприятия, не предусмотренные бюджетом. Слухи можно было запускать нарочно, чтобы кому-нибудь навредить, а можно было и по случайности: в десятом классе Федор рассказал самым близким друзьям про свою несостоявшуюся потерю, а на следующий день вся школа была засыпана панчами на этот счет. Слухам не полагалось верить вслепую, однако совсем игнорировать их не получалось даже у самых мудрых: в тот же день ОБЖшник приказал всем встать по причине ослиного гогота, а потом ехидно заметил, что у Федора хотя бы на этот раз получилось.
Годы шли, а слухи ходили: обновленный Федор не встревал, а все-таки сталкивался со слухами, усевшимися рядом с ним в трамвае, просочившимися через наушники, пока грузился следующий трек, протянутыми вместо сдачи продавщицей фарша на рынке. Но есть у них и проверенные каналы. После очередного занятия с Платоном Федор вместе с учеником спустился во двор, где того уже ждала Лизка, вроде как болевшая и в связи с этим пропустившая последние два испанских. Федор успел неодобрительно покачать головой, Лизка успела пропищать: «Ой, здрасьте!» – а затем парочка ретировалась, оставив преподавателя в состоянии легкого недоумения и как будто бы стыда, словно это он сам ничего не учил, прогуливал занятия, да еще и ни капли не покраснел, оказавшись лицом к лицу с репетитором. Недоумение же было вызвано самим фактом прогулки Платона с Лизкой, дружбу которых он до этого считал не более чем самым обычным приятельством. Его не смущал ритуал Платона, начинавшего каждый урок с вопроса «¿Cómo está Liza?2», на что Федор улыбался и отвечал: «Está muy bien, no te preocupes3». Тем более Федора не смущало, что Лиза розовела и прятала взгляд, когда он сравнивал ее с Платоном или просто вспоминал о нем в ходе занятия. Возможно, его бы заставил призадуматься настойчивый кашель Льва Сергеевича, да только тот постепенно проникся доверием к педагогу и все реже присаживался к ним за стол, предпочитая лежать на кровати и на солидной громкости смотреть что-нибудь, изобилующее стрельбой и воплями.
После очередного занятия с Платоном Федор вместе с учеником спустился во двор, и прямо со скамейки ему поведали, что с Лизкой Платону гулять было запрещено, а его родители Льва Сергеевича не уважают настолько, насколько могут ненавидеть друг друга представители провинциальной интеллигенции и провинциального предпринимательства. Как это все относилось к детям, непонятно, но шекспировский сюжет есть шекспировский сюжет, поэтому Платон, обуваясь в прихожей, тараторил, что с другом Гришей они идут играть в волейбол, а Федор стоял и удивлялся после совсем недавнего «No me gusta el deporte4».
Федору рассказали, что у Русаковых – это было про родителей Платона – с Гороховым – а это про Льва Сергеевича – давний конфликт, который начался с того, что Русаковы решили тоже заняться бизнесом, а Горохов однажды «тупо отжал» у них помещение вместе с товаром и вместе со всею прибылью, после чего еще и выиграл суд, потому что все делал по закону и с теми, кто правосудие вершит, в отличие от Русаковых, чем-то да поделился. Их детей угораздило оказаться в одном классе и, к ужасу родителей, подружиться, но дружбе этой долго длиться не суждено – Русаковы твердо намерены поскорее смыться, «поджав хвост, да и пусть себе катятся на все четыре стороны на здоровье». Федор не до конца понял, чью сторону занимала в этой распре повествовательница, но, судя по всему, ей вообще хотелось, чтобы мерзкие людишки как можно быстрее переподохли, что, впрочем, лишило бы ее единственной радости в жизни – радости ловли и разведения слухов, которыми в городе и так занимались практически все.
Официальное возвращение Федора в город тоже должно было вырасти из толков, запущенных то ли им самим, то ли кассиршей Асей, то ли какими-нибудь незаметными, но знакомыми персонажами со двора. Федор решил опередить их всех и в один прекрасный день пошел прогуляться в родную школу, предварительно сообщив об этом одноклассникам в вотсап.
8.
Виктория была неотразима. Самое главное, она делала всю домашку. Кроме того, она постоянно улыбалась, а на щеках появлялись ямочки, от которых у Федора вибрировало внизу живота – он уже и не помнил, когда в последний раз испытывал что-то похожее. Вика поила его чаем и угощала шоколадными пирожными, которые делала в свободное время для себя и для мужа – про мужа Федор будто бы знал изначально, а все-таки подрасстроился, когда она (тоже какая-то заскорбевшая) через паузу кивнула на его невинный вопрос: «Sí, estoy casada5».
Федор не хотел ничего плохого, поэтому решил, что ему нет дела, благо в город он возвращался с твердым намерением остаться одиноким пожизненно. Уроки должны были стать непринужденнее, но в животе все также вибрировало, а Вика то ли нарочно, то ли специально сокращала дистанцию, и одним прохладным, но еще не отапливаемым вечером встретила учителя в желтой футболке с короткими рукавами – руки засыпало мурашками, однако Федор и без этого понял, что Вика озябла. На том занятии Федор напутал больше обычного, а уже по дороге домой обеспокоенно соображал, как бы потактичнее сообщить Вике, что в ее записи прокрались некоторые досадные ошибки. Она учила абсолютно все, поэтому оставить без внимания плоды своего безумства Федор не мог, как не мог и совладать с собой, когда их колени, а в какой-то момент и запястья (у него левое, у нее правое) традиционно случайно соприкасались и уже не мгновенно, а лишь через ощутимую паузу размыкались, как раз за секунду до того как сердце Федора выломало бы грудную клетку и заляпало всякой сукровицей аккуратную тетрадь ученицы.
Однажды, пока она читала текст, Федор ничего не слушал и не исправлял, а только думал под белый шум, исходивший из опустевшего разума: стоит ли рискнуть и положить свою ладонь поверх ее ладони, снова слегка прислонившейся мизинцем к его мизинцу. На самом деле, это было не однажды, и Федор обалдевал со своих пискляво-мальчишеских воздыханий, но ему нравились именно эти ощущения, поэтому он практически не собирался переходить сами собой сложившиеся границы. А потом все-таки взял ее за руку. Вика, не прекращая делать упражнение, высвободила ладонь и как-то отодвинулась целиком от Федора – теперь Федор запланировал пожизненно кручиниться, но через пару занятий испанисты снова трогали друг друга руками и ногами, а еще Федор взял привычку практически приклеивать свою ощетинившуюся щеку к гладкой намакияженной щеке ученицы, чтобы лучше рассмотреть, что она там пишет или читает. На это Вика никак не реагировала – преподавателю должно быть виднее.
Рядом с Викой Федора лихорадило, и он не хотел выздоравливать – его притягивало к ней, однако он точно знал, что ничего не будет и раз двадцать-тридцать повторял это себе, пока ехал в лифте после каждого очередного сеанса теплообмена. Рядом с Викой Федора лихорадило, он терял ощущение времени и пространства, говорил «quiero6» вместо «me gusta7», а еще не успел отскочить на приемлемую (в первую очередь, для него самого) дистанцию, когда на кухню внезапно вошел человек, из которого Вика, похоже, и высосала все яркое и жаркое, что слепило и плавило Федора на самых тяжелых уроках в карьере. Вика сказала, что это ее муж, которого зовут Леша, а Леше сказала имя и отчество Федора, после чего мужчины пожали друг другу руки, причем без особенной неприязни. Леша вынул из холодильника бутылку Велкопоповецкого и вернулся туда, где его вообще-то никогда раньше не было. Остаток занятия Федор провалил, и был готов к тому, что Вика в гневе откажется от его услуг, и даже какой-то маленькой не пропитанной флюидами частью своего мозга надеялся на такой исход, но Виктория только улыбалась и договаривалась о следующем уроке, на котором Федор намеревался пройти сравнительную степень прилагательных и наречий, а еще пересесть напротив клиентки и исключить какие бы то ни было телесные контакты.
На следующем уроке у них произошел секс.
9.
Федор пошел в школу в шесть лет, вышел из нее в семнадцать, а теперь пришел сюда в двадцать пять. Любовь к этому заведению у него развивалась по параболе: в первом классе Федор врывался в класс звонким белобрысым головастиком и сходу окружал себя настоящими друзьями, в одиннадцатом – мечтал слечь с температурой и горлом, лишь бы не посещать ненавистный террариум, однако вдали от города вспоминал школу скорее с теплом. Еще с ненавистью, конечно, за то, что она совершенно не подготовила его ко взрослой жизни, высосала всю смелость и наградила коллекцией синдромов, но все-таки по большей части с теплом.
Утром того дня Федор дрожал, как будто в школе ему снова придется отвечать. У Пашки Чадова, с которым они потом курили на парадном крыльце, школа, оказывается, до сих пор вызывала тяжелую тошноту, зато Лерка Смирнова, напротив, чувствовала, как все прямо бешено трясется внутри, всякий раз, когда тусила в этом районе. Кроме Паши и Леры на сходку пришла только Зина Салепова – школьная летучая мышь, которой даже не было в чате, где договаривались о встрече. Зина изменилась сильнее всех – Лера просто стала крупнее и практически перестала перебарщивать с макияжем, а Чадов вообще остался самим собой и очки носил, кажется, те же самые, что в пятом классе, когда он присоединился к их дружному классу. Кассирша Ася не смогла вырваться на сходку, но тут Чадов нисколько не удивился: за все эти годы он не пропустил ни одной встречи выпускников, зато Ася пропустила все, удалилась изо всех диалогов, и странно, что сразу не удалилась из нового. Что-то с мужем у нее там такое. Непонятное.
Вообще Чадов еще на крыльце успел рассказать Федору столько, что тот подумывал не ходить в школу, а сначала пойти выскоблить куда-нибудь всю эту информацию, но Лера подоспела вовремя и, закатив глаза на Чадова, утолкала Федора в фойе, где их как раз и ждала утопившая голову в колоссальных оранжевых наушниках, а туловище – в ядовито-зеленом балахоне бывшая готка Зинаида Салепова. Зина скинула с себя наушники, в которых еще не потух Джей Бальвин, залучилась и кинулась ломать шеи своим одноклассникам – Федор оторопел, и у него как-то бешено все затряслось внутри, то ли от самих внезапных объятий, то ли от латинской музыки, из которой он чуть не выдумал знак, то ли от обезбашивающего фруктового запаха, заставившего его дольше и ближе положенного прижаться к ее волосам. Когда к Федору хотя бы частично вернулись сознание и слух, они все уже шли по лестнице на третий этаж, где и тогда, и всегда располагался выпавший им в классные кабинет географии.
Встреча с классной руководительницей могла получиться душевной, но Федор не подготовился и толком не смог рассказать, как у него обстоят дела и чем он сейчас занимается. Ответ вышел хуже, чем на тройку. Пару минут прозапинавшись ни о чем, Федор с тупой улыбкой передал эстафету Лере и Паше, быстро отыскавшим темы для беседы, потому что их общий с географичкой мир прочно держался на трех разновеликих и при этом буквально сросшихся друг с другом китах: они обсуждали судьбы бывших одноклассников, судьбу школы, в которой нынче учатся совсем другие дети, и, естественно, судьбу города и страны. По второму и третьему пункту Федор вставлял безответные комментарии, но по большей части пыжился и потирал лоб, успевая при этом раз двадцать за минуту встретиться взглядом с молчаливой и предельно беззаботной Зиной, у которой классная по завершении диспута решила ради приличия тоже поинтересоваться о благополучии. «Я просто счастлива», – ответила Зина, после чего на кабинет обрушилась тишина, бултыхаясь в которой, каждый обдумывал целесообразность такого признания. Еще ведь и сказала так просто. Не меняясь в лице, не выдумывая себе высокий, противоестественный голос, которым принято заливать про «у нас все здорово». Как будто взаправду, отчего всем стало неуютно. Такие каминг-ауты здесь были не приняты, поэтому географичке пришлось включить тот самый голос и объявить, что она была рада увидеться, и что надо видеться почаще, и что у нее, к сожалению, скоро совещание, а так она была готова болтать с ними хоть до самого утра.
Совещания вроде как не было, по крайней мере, Василиса Андреевна о нем ничего не слышала. К учительнице русского и литературы Федор пошел один, в то время как остальная троица отправилась к директору, с которым у Федора на момент выпуска уже совсем разложились хорошие отношения. А вот Василиса Андреевна для Федора была главным человеком в школе: от нее он вышел стобалльником, что сыграло свою роль при поступлении, и фанатом всего связанного с языком, что покрошило его будущее в не слишком толковое, зато яркое и сладкое конфетти. Василиса Андреевна была единственным школьным преподавателем, методы которого Федор применял на практике – оба обожали доводить учеников до стыда за незнание, хотя настолько лютого взгляда и грозно звенящего голоса, как у Василисы Андреевны, Федор так и не выработал, видимо, в силу слабого характера. Василиса Андреевна была человеком, неумолимо нацеленным на результат, но Федор прекрасно понимал, что в условиях образовательного процесса иначе было нельзя, зато сейчас, спустя время, они смогут поделиться чем-нибудь живым и сокровенным. Сказать по правде, в школьные годы Федор был тайно влюблен в русичку, и теперь даже мог бы в шутку упомянуть этот неожиданный и приятный для обоих факт.
Василиса Андреевна проверяла сочинения десятиклассников и, не вставая, поприветствовала Федора, нелепо раздухарившегося по входе в самый любимый и гнетущий школьный кабинет. Василиса Андреевна не прерывала работу, говорила немного, своих вопросов практически не задавала, а Федору отвечала скупо и по существу. Тому, что Федор закопался в языках и сам преподает, она не удивилась и не посочувствовала, зато полюбопытствовала, как учат писать сочинения в столицах, на что Федор замямлил и завздыхал, быстро согнав последние проблески интереса к собственной персоне. Получилось, что Федор шел сюда на беседу, а получил очередной урок, за что, собственно, всегда и любил Василису Андреевну.
Ребята ждали Федора в фойе, но уже не в полном составе – загадочно дерзкая Зина Салепова, которую Федор, спускаясь по лестнице и пожевывая нижнюю губу, планировал позвать на какао, поехала домой, а, может быть, кстати, и не домой, вот только разницы в этом не было вовсе, потому что встретил ее такой большой, загорелый и подкачанный муж на желтом Мини Купере. Зато Федору не пришлось переносить занятие с Лизкой, жившей, оказывается, в том же направлении, что и Паша Чадов. Федору повезло, что Паша первым рассказал о своем маршруте до дома, так что в завершение тусовки Федор соврал одноклассникам, пожал и приобнял, дождался, пока они совсем скроются из виду, а затем в одиночку поплелся на трамвайную остановку.
10.
Жизнь Федора слоилась. Перфект столиц оказался зажат между двумя плюсквамперфектами старого города, а вокруг нанесли тонкую скорлупу свежих, пока не осмысленных впечатлений.
«Antes, – показывал он за спину большим пальцем, – vivía en San Petersburgo y un poco en Moscú, pero ahora vivo aquí8». После вопроса «¿Por qué э-э… Ну… Почему вы вернулись?» он постоянно пожимал плечами, приговаривая «No sé9», а Платону и Лизке почему-то еще со вздохом сообщал: «Соскучился, наверное».
Первой целью было вырваться, второй – причалить, третьей, кажется, прочно обосноваться на родной почве, что виделось до приятного выполнимым. Из 35 часов и 36 минут поезда по направлению к корням Федор потратил на размышления минут десять, а остальное время проспал втупую, без снов, впервые за эти годы сбросив с себя все маски и к ним приделанные обязательства. Глупое будущее засасывало серый вагон, а Федор просто не возражал.
«Стыдно не быть слабым, стыдно оставаться слабым», – с важным видом декламировал Федор, когда Лизка не признавалась в отсутствии малейшего понятия о том, куда нужно вставлять один вспомогательный глагол, а куда – другой. Себя он только исподтишка спрашивал, стыдно ли быть жуком, потерявшим последние крылья и копошащимся в собственных воспоминаниях, но второй внутренний голос в эти мгновения пресекал безобразие и обещал, что впереди еще будет не Эверест, но все-таки какая-нибудь гора Народная. Тогда Федор думал о народе и начинал дергаться, а когда истерика заканчивалась, откладывал мысль и обещал вернуться к ней, как только город абсолютно впитает его потрепанный, успевший стать инородным микроорганизм. Нельзя быть инородным и народным за один присест.
Издалека местные казались стадом, и с этим было сложно что-то поделать, да и не очень хотелось. Чаще Федор, наоборот, представлял себя единственным или в крайнем случае последним носителем интеллекта, героически сбежавшим из-под прозрачного колпака, теперь уже плотно подогнанного к размашистой блинной сковороде. Пренебрежительное отношение к городу помогало Федору выселить из нового дома увязавшихся за ним демонов, но вот он сам, смущенный и отрешенный, завалился назад в отчизну и пытается сочинить правдоподобный монолог о переосмыслении и привязанности. Вдобавок ко всему он хотел не только заново или даже впервые породниться с аборигенами, но и научить дикарей каким-нибудь невиданным фокусам, а возможно, и спасти их от неминуемой гибели. Город трепыхался в агональных судорогах, однако Федор был уверен, что здесь еще можно жить, стоит только осмелиться на перемены. Этим проверенным рецептом он гордился и потихоньку хорохорился в своих четырех стенах, а однажды, преисполненный мудрости и храбрости, даже пнул слегка опостылевший санькин скутер, пробуробив самому себе: «Да это я тут самый крутой и просветленный».
Но все-таки первое время Федор планировал провести в свое удовольствие, и после вечерних прогулок он устраивал одиночные оргии, позволяя себе все то, что ему никто не запрещал и в предыдущей жизни. Отыскав во втором ряду видеокассет запретную киноленту, он запустил ее к праздничному ужину, состоявшему из необъятного кремового торта с розочками и шоколадным драже и литровой бутылки пива, которое, в отличие от Федора, было нефильтрованным. Так он отметил три месяца с момента самого дерзкого поступка в своей жизни. К этому времени у него была работа, секс, истоптанный, но еще не наскучивший город и облачные надежды, которыми иногда тянуло с кем-нибудь поделиться. Напиваться в одиночку Федор считал приятной, но все же дурной практикой, поэтому следующую пирушку он планировал закатить уже с корешами. Федор не помнил, как их заводить, и побаивался встречаться со старыми, которые в здешней среде повзрослели гораздо раньше и глубже, чем он в своем парадизе. Впрочем, самопальный дедлайн по ассимиляции Федор еще не прозевал. Свою слоеную жизнь он закинул в духовку и практически приготовился запекать.
11.
Единственным человеком, которому Федор рассказал про Вику, был Лев Сергеевич. После занятия, посвященного способам выражения ближайшего будущего, Федор планировал собрать рюкзак и отправиться восвояси, но тут Лев Сергеевич, от какой-то скуки прислушавшийся к заключительному фрагменту урока, воспрял и с плохо скрываемым балагурством просипел: «¡Voy a fumar un сигарета!10 Составите мне компанию? Побеседуем». От таких предложений таких персонажей Федор отказываться не умел, и они отправились на балкон, общий для всех жителей седьмого этажа.
На балконе Федору даже понравилось, и он твердо решил в следующий раз забрести сюда после работы и насладиться шикарным видом на муравейный Тбилисский рынок, перекресток проспекта Ленина и Гомельской, стелу с названием района, вписанным в шестеренку небесного цвета, и просто на людей, плывущих по асфальту со скоростью допотопных ледозаливочных машин. Спешить в городе было не принято, потому что некуда, и Лев Сергеевич тоже не торопился зажигать зажатую между губами сигарету, а сначала наморщил лоб и просверлил какую-то точку на противоположной стороне улицы, пока Федор, уже успевший сохранить в голове панорамный снимок, переминался, ожидая тяжелого, извилистого разговора. Спустя пару тысяч часов Лев Сергеевич встрепенулся и, кажется, удивился, осознав, что курит не в одиночестве, однако долгое замешательство он себе позволить не мог, поэтому, хлопнув Федора по плечу, начал с традиционного вопроса, на который учитель так и не подготовил приемлемый для самого себя ответ.
– Ну чего там Лизка? Прогресс какой-нибудь есть?
Если и был, то минимальный. Упражнения Лизка выполняла скорее наобум, слова учила прямо на занятиях, аудио слушала вполуха и не понимала до тех пор, пока Федор не переводил на гоблинский испанский. О себе рассказывать не любила – за ежеурочным вопросом о времяпрепровождении следовал ежеурочный ответ c глаголами dormir и comer11. Интеллектуальные игры Лизку тоже не увлекали: Федор чувствовал себя плохим шутом и со временем практически отказался от интерактива на занятиях, предпочитая заваливать ученицу однообразными грамматическими упражнениями, благодаря которым она не усваивала, но хотя бы зазубривала правила построения предложений.
– Да, безусловно, Лиза старается… – как болванчик, ритмично кивал преподаватель. – Сегодня вот конструкцию разбирали, все получилось вроде… Надо учить, конечно, без этого никак, – выдохнул Федор, обрадовавшись, что смог донести до Льва Сергеевича мысль о необходимости кропотливой домашней работы и при этом не лопнул от страшного напряжения. Лев Сергеевич тоже выдохнул, соорудив по пути пару дымных колец.
– Это понятно все. Заниматься надо. Только время где брать?
Федор еще раз огляделся и увидел, что времени в городе неиссякаемые источники. Время отсюда можно было экспортировать в столицы вагонами и танкерами, лишь бы только оно побыстрее утекло, и город приблизился к настоящему.
– С утра работа: иногда в пять утра подрываемся и гоним на вызов, – продолжал Лев Сергеевич. – Вечером хоть подохнуть, а еще покачаться сходить надо, за продуктами заехать да приготовить что-нибудь, чтобы не сдохнуть тут с голоду.
Федор встретился с ним взглядом и быстро выкинул его в сторону, но Лев Сергеевич уже успел схватить немой вопрос, прищурился, затянулся и поведал:
– Мамка наша на Кубе сидит. С доном Педро.
Рассказ на этом закончился. Теперь Лев Сергеевич сам отвернулся и пробуравил второе отверстие на тротуаре, после чего спросил Федора, есть ли у него жена или, может быть, подруга, заставив того выполнить очередное дыхательное упражнение и на ходу разобраться в ситуации, которую он до этого предпочитал оставлять на пороге викиной квартиры.
Вика к тому моменту сдвинула время занятий, и перед Федором открылись все комнаты ее квартиры. В обеих комнатах они пробовали учить язык, но получалось с каждым разом все хуже: начинали урок со спряжения неправильных глаголов, а потом доходили до querer12 и внезапно оказывались без ничего прямо друг у друга в объятиях. Вика царапала его и впивалась, кричала и расшатывала мебель – преподаватель старался быть осторожнее в силу понятных обстоятельств. При этом викиного мужа Федор боялся совсем немного: он был уверен, что женщина, организовавшая измену, все предусмотрела, поэтому ни разу не задавал ей лишних вопросов, а просто вставал с кровати или с пола по истечении полутора часов, спокойно застегивался и желал ей buenas noches13. Но так повторялось уже недели три-четыре-пять, и Федора капельку подмывало прояснить происходящее – он хотел совершенно сдружиться с собственной совестью и, наверное, помочь Вике, раз уж жизнь ее с мужем была слишком горькой и безрадостной.
Лев Сергеевич сказал, что если девушка хорошая, то почему бы с ней и не этого того, даром что она ученица или, как теперь называл ее сам Федор, клиентка. Федор охотно согласился и покинул философа с улыбкой на лице, которая, правда, оказалась легко смывающейся. Про мужа Вики Федор почему-то не упомянул, так что совет Льва Сергеевича можно было утилизировать сразу по выходе из подъезда.
12.
Был день, когда Федор отменил занятия с Платоном, чтобы сходить сразу в два клуба. Дискуссионный располагался на Станиславского, а ночной – около кинотеатра «Мир», на пересечении проспекта Ленина и Нефтяников. До отъезда из города Федор успел посетить только первый, а во второй не согласился бы пойти, даже если бы его туда позвала любимая девчонка из класса. В клубе «Небо» тусили отморозки вроде Саньки Егорова, или одноклассника Федора Таймаса, носившего в школу пистолет и напрочь пропахшего насваем, а потом переехавшего в какую-то спецшколу, где все это считалось нормой. По понедельникам в классе только и говорили, что про «Небо»: из уст в уста курсировали классические горячие истории, в которых регулярно происходила перемена имен, но не событий. Федор легонечко завидовал героям похождений, однако страх вкупе с интеллектуальным превосходством позволили ему практически безболезненно пережить отсутствие танцев, секса и алкоголя, особой любовью к которым он в итоге так и не воспылал.
Вместо «Неба» Федор тогда ходил в «Демосфена», куда с ним повадились Паша Чадов и еще один их товарищ Женя Крылов. Клуб «Демосфен» располагался в здании некоего совета, седые и усатые члены которого собирались каждую пятницу, дабы обсудить реализованное и запланированное, а также отметить окончание недели – главный праздник практически каждого горожанина. По субботам и вторникам сюда разрешили приходить взыскующим студентам, которым в обмен на возможность встречаться под крылом совета полагалось очищать помещение от бутылок и одноразовых стаканчиков, а также устанавливать виндоусы членам совета и пару раз в месяц присутствовать на организованных ими публичных мероприятиях. Первое время энтузиасты варились в собственном соку, а потом задумали обойти близлежащие школы и пригласить таких же воодушевленных старшеклассников к участию в дискуссиях «на самые разные темы». Федор сам уже не помнил, в честь какого события он забрел однажды на заседание клуба, но ему сразу же понравилось, что здесь, в отличие от школы, никто не прессовал за кочковато-извилистые высказывания, а умные термины и фамилии можно было называть с большой вероятностью быть понятым. Что понравилось Чадову и Крылову, Федор точно не знал, но с ними на заседаниях было даже как-то уютнее: кроме этой троицы, школьников в клубе больше не обнаружилось.
Выпрыгнуть из очередного окна в прошлое Федор решил, после того как насмотрелся фотографий со старинных заседаний – ради любопытства отыскав в сети страницу клуба, он все еще с удивлением обнаружил, что организация до сих пор функционирует, причем по исконному адресу, правда, теперь дискуссии проходили по понедельникам и четвергам. Заскочить в «Небо» Федор тоже задумал заранее и, скорее всего, по дурости: ему показалось смешным устроить контрастно-клубный вечер, который позволит городу за несколько часов раскрыться во всей полноте.
Здание на Станиславского было невероятным с архитектурной точки зрения. Чтобы попасть в кабинет первого этажа, где проходили встречи клуба «Демосфен», нужно было сначала отыскать нужную дверцу на оборотной стороне творения, подняться на второй этаж, пройти по трем коридорам и только потом снова очутиться на первом, в фойе парадного подъезда, закрытого для посетителей из неясных соображений, бытовавших в голове местного завхоза. Одной из традиций клуба было всеми фибрами души ненавидеть маршрут до места встречи, однако теперь Федору даже понравилось идти по салатовым галереям и восхищаться тому, какой живучестью обладают местные трещины на стенах, ржавые пятна на потолке и всякие микроароматы, всплывавшие ровно в тех же местах, где восемь лет назад Федор воротил от них нос и задерживал дыхание. К третьему коридору Федор уже не верил, а твердо знал, что в кабинете собралась старая компания из 5-6 человек, в число которых входили и организаторы клуба Вова с Кешей, и его уважаемые одноклассники, и еще парочка странных ребят, притащивших свои ненормативные интересы в единственное место, где их можно было огласить.
На деле в кабинете 116 оказалось около пятнадцати человек, из которых Федору был знаком только Антон – молчаливый длинноволосый паренек, пожавший ему руку с такой индифферентной физиономией, словно в последний раз они виделись не восемь лет назад, а на прошлой неделе. Некоторое изумление Антон выказал только после того, как Федор спросил у него про Вову и Кешу, которые, оказывается, давным-давно уехали в столицу и передали пост верховного руководителя Андрюхе Шепурнову. Андрюху Федор не знал, и это тоже озадачило Антона, не столько припомнившего, сколько призабывшего в этот момент своего собеседника. «Ну… Он здесь сто лет уже вообще-то», – бросил Антон в завершение диалога и поспешил присоединиться к компании ребят, столпившихся около архаичной меловой доски. Федор оглядел комнату и сперва не заметил следов смены власти: мутный плафон все так же окрашивал атмосферу в желтый, все так же в советско-румынской стенке пылился необъятный Ленин с серыми корешками, все так же деформировало отражение чуть треснутое заляпанное зеркало во весь рост.
Изменился формат, о чем Федор догадался спустя двадцать минут после заявленного начала встречи. Полемисты не присаживались за стол, а Шепурнов, который, судя по всему, уже сто лет был здесь, никоим образом не обозначал своего главенства и не призывал собравшихся угомониться и ознакомиться с темой вечера. Федор вспомнил словосочетание «open space» и попробовал присоединиться к одной из компаний, рассредоточенных по кабинету, но в ее углу очень быстро стало душно, и ему пришлось перейти во второй, третий, а потом и четвертый кружок. С Федором настойчиво не встречались взглядом – его избегали Антон, единственная местная девушка, коротковолосая брюнетка Стеша, и самый говорливый клубист, в котором Федор надумал признать нового председателя Шепурнова. Шепурнов рассказывал о преимуществах солнечной энергии и был весь преисполнен природоохранного пафоса – Федор вспоминал бывших начальников «Демосфена» и восторгался тому, с каким цинизмом Вова и Кеша подходили к обсуждению любых вопросов, поднятых в этих стенах. Шепурнов говорил красиво, и это отталкивало Федора больше всего. Он и сам не любил болтать, и в людях ценил неумение адекватно выразить мысли, не совместимые по своей мощности с ресурсами человеческого языка. В оригинальном клубе грамотеи не засиживались и сбегали, обхватив свои прекрасные головы, зато в смысловое пространство выпархивали идеи, которые ни в сказке, ни пером. В нынешнем клубе стоял восторженный зудеж, а Федор боялся разобраться, завидно ли ему, что ребята не торопятся идти на контакт, или они действительно обсуждают уже не ту ерунду, что раньше.
В какой-то момент Федор расслышал, как пристроившаяся на диванчике троица завела разговор о природе языка – загоревшийся, он присел чуть сбоку, как бы невзначай, и решил дождаться подходящего повода включиться в процесс. Концепт беседы оказался непростым, потому что спустя пару минут самый активный из ребят открыл на телефоне секундомер и предложил каждому за минуту объяснить, язык ли в нас формирует сознание или же как раз наоборот. Маленький и щуплый паренек говорил, что сознание формирует язык, потому что язык, как и ничто на этом свете, не мог бы возникнуть из ничего. Длинноволосый и весь в черном отвечал, будто он выучил три языка, и только они по-настоящему сформировали его сознание. Хранитель времени вздыхал и говорил, что каждый по-своему прав, а истине положено располагаться где-нибудь посередине. На том и планировали разойтись, но Федор решился и закряхтел – на него обратили внимание и после нелепой по своей форме и содержанию просьбы позволили высказаться на тему беседы. Минута пошла, и четвертую ее часть Федор пыхтел, собираясь с мыслями, а потом выдал, что, с другой-то ведь стороны, язык не столько и порождает, сколько убивает сознание, запихивает его в рамки, ограничивает течение идей, хотя… Если подумать, то знание нескольких языков действительно дает возможность вырваться из темницы одного, но подлинную свободу сознания можно обрести, только отказавшись от языков совсем, либо же, выдумав какой-то общий язык…
Таймер запищал. Его владелец хмыкнул и, не дожидаясь федорова поклона, сказал, что в этих фантазиях что-то есть, но жизнь без языка – утопия, а повсеместное взаимопонимание – утопия похлеще первой. Потом парни синхронно подскочили и растворились в клубах невесть откуда померещившегося дыма, а сам Федор, откинувшись на спинку дивана, решил, что философии и дискуссий с него на этот вечер достаточно. Ушел он незаметно, но обратный путь по вонючим коридорам прошагал нарочито громко, за что получил дозу уничижения от завхоза, притаившегося на финише его забега. Федор вздрогнул, приостановился и беззвучно пошевелил губами, после чего швырнулся ко двери и с облегчением вывалился в помрачневшую и посвежевшую окружающую среду.
13.
Между «Небом» и «Демосфеном» было 2,8 км, и до отъезда Федор никогда бы не додумался преодолеть это расстояние пешком. Когда его семья переехала с Краматорской на Московскую, самым разумным решением виделось перевести Федора в новую школу, потому что пять остановок на трамвае – это просто немыслимое количество для одной из тех экзотических культур, где набор числительных состоял из лексем «один», «два», «три» и «много». Однако то ли из-за учителей, то ли из-за нежелания родителей выдергивать мальчика из обжитого болота Федор остался в своей первой и единственной школе, куда его каждое утро отвозили на машине и класса до восьмого на ней же забирали обратно. Когда Федор в этой же самой школе впервые познакомился с понятиями «метр» и «километр», он в этой же самой машине спросил у отца, откуда докуда в городе можно было насчитать километр. Отец прищурился, произвел вычисления и объяснил, что километр – это примерно как от площади Шевченко до Комсомольской. Получается, что от Шевченко до «Демосфена» и от «Неба» до Комсы тоже было где-то по столько же.
Для постстоличного Федора такая прогулка была обычным делом. При этом он прекрасно понимал, отчего горожане так недолюбливали пешие туры по родной земле: смотреть по сторонам было невесело, а в некоторых районах и небезопасно. На всем пути Федора сопровождали надоедливая мошкара, невеселые запахи и карагачи, в некоторых местах к ним присоединялись беспризорные дети и расшатанные взрослые, на площадях и около супермаркетов с колонок слушала матерную долбежку визгливая молодежь. Около парка Машиностроителей кому-то разбили голову – столпившиеся у лавочки мужики орали, а на асфальте блестели осколки то ли пивной бутылки, то ли черепной коробки пострадавшего. Проходившая мимо женщина завопила, что вызовет полицию, если они немедленно не прекратят безобразие, в это же мгновение откуда-то раскатисто залаяла собака, и Федор поспешил закупорить слуховые каналы наушниками и продолжил путь с песней, отметив вскоре, что к нему вернулась старая привычка поминутно оглядываться, дабы не пропустить нападение с тыла. Под Кавинского городские пейзажи заиграли новыми красками, но себя Федор так и не уговорил притвориться неуязвимым нео-нуарным боевиком, который войдет в клуб и научит распетушившийся молодняк уму разуму.
Так и не произошло: у «Неба», как и на всех слабо освещенных отрезках пути, Федор скинул наушники и обострил чувство тревоги, неожиданно выловив из глубин сознания самые колкие воспоминания, связанные с уличными боями юности, которые в основной массе успешно не состоялись по причине его малодушия. Однако на входе в клуб курили и вполне себе добродушно смеялись не сильно бритые пацаны, выряженные в спортивное, но не тусклое, с фасада мигала неоном свежая сиреневая вывеска без намеков на агрессию и боль, а на парковке выстроились не только тонированные девятки, но и всякие цветные короллы да оптимы, одарившие Федора надеждой, что жизнь в городе все-таки поднастроилась.
Грустнее стало уже внутри, когда Федор впервые за сутки попробовал на вкус течение времени. Создалось ощущение, что машины у клуба принадлежали обитателям близлежащих домов, а в самом «Небе» преимущественно собрались их дети, тайком повылазившие из окон, после того как якобы доделали домашку и отправились спать. Впрочем, по клубным меркам время еще было детское, поэтому Федор решил пристроиться за барной стойкой и подождать, пока в городе не объявится мафия. Ожидание было окрашено во все цвета блейзера, который Федор никогда не употреблял на тусовках пришкольного формата. Поесть по пути в «Небо» он не сообразил и теперь довольствовался фисташками, половину из которых было просто невозможно размуровать. Федору предложили кальян, но он решил, что выпивать и дымить в одиночку будет глупо, да к тому же почувствовал, как напиток из обошедшего стороной прошлого планомерно заволакивал подтаявший рассудок. Больше всего нервировал местный звукач, которому не сообщили о том, что запуск готовых плейлистов из кусочков трендовой жвачки максимально плохо соответствует стандартам небесного диджеинга. Некоторое время Федор стеснялся, но потом все-таки вернул в голову наушники и продолжил пить и вертеть ею, еще сильнее отрываясь от действительности.
Панорама мало-помалу смазывалась, и мозг фиксировал лишь отдельные кадры: девчонки отправились на танцпол, пацаны отправились поговорить, все посетители понемногу мутировали, и ночь уже перекрыла пути к отступлению на землю. Внутри Федора смешались цвета, и то же самое происходило снаружи. Аудитория клуба не становилась старше, но становилась взрослее, и некоторые сцены побуждали Федора отвернуться, однако сделать это было все труднее, потому что каждое смещение черепа относительно туловища вызывало тошноту и сопутствующую панику. Федор часто и глубоко дышал – здравый смысл готовился его покинуть, но Федор отчаянно цеплялся, пытаясь забраться на недосягаемую для дешевого алкоголя высоту пространных рассуждений о бесконечно вечном и прочих гранях подобия.
От провала в липкий кошмар его спас очередной нечеткий снимок с гоу-про, на котором тощий и вытянутый паренек прижимал к стене темноволосую девчонку с большими карими глазами, приплюснутым носом и другими чертами лица, до отрезвления знакомыми единственному в городе преподавателю испанского языка. Федор видел парочку лишь мгновение, а потом не без труда преодолел еще одну мертвую петлю и начал сбрасывать скорость, генерируя все более связные и несмелые суждения. Но сначала наступил пик, когда он понял, что это были Лизка и Платон, и задумал вскочить да разогнать по домам малолетних развратников, а вместе с ними и всех остальных совершенно лишних посетителей ночного клуба. Может быть, Федор так бы и сделал, обнаружь он ребят на том же месте по восстановлении координации, но их след исчез, зато появились голоса, некоторые из которых утверждали, будто он не должен вмешиваться в личную жизнь кого бы то ни было. Другие твердили, что он только опозорит их и, главное, самого себя, прославившись скандалом в сомнительном для преподавателя заведении, третьи шептали: «Ты навернешься с этого стула скорее, чем сможешь куда-то рвануть и кого-то разнять. Да и связать двух слов ты не сумеешь ни на русском, ни на испанском». Четвертым голосом был Ламар, пытавшийся втолковать Федору, чтобы он был смиренным и не вставал. Сам Федор боялся, что ученики скрылись в кабинке, но тут же радовался, что его, судя по всему, никто не заметил, а значит, в «Небе» Федора, возможно, так никогда и не произошло.
Было принято решение просто сползти со стула без потерь, но при этом не слишком медленно, а потом пробраться к выходу, где сосредоточены свежий воздух и такси. Управиться получилось в меру ловко и шустро – ребята не обнаружили тело, которое выпало наружу засветло, а Федор не привлек излишнее внимание гостей и сотрудников, хотя и преодолел некоторую часть пути на четвереньках. Федор добрался до дома, но никогда больше не вспоминал о том, как именно он это сделал, предпочитая рассматривать весь тур по клубам как сюрреалистичный, отталкивающий сон, вырваться из которого удалось только ценой смартфона и синяка сбоку от левого глаза. Водитель такси был зол, но Федор ни за что на свете не хотел догадаться, за что конкретно.
14.
У Федора, видимо, произошли отношения с Викой. Неизвестно какие и неизвестно зачем. В маленьком бирюзовом блокноте с оранжевой надписью «To live is to dream14», где учитель набрасывал план каждого урока, день, в который у них случился первый секс, был обведен сердечком, и, когда с него прошло ровно два месяца, Федор решил провести с Викой занятие в пиццерии.
Пиццерия «Румба» располагалась в соседнем с викиным домом, и для Федора это была еще одна святыня, имевшая непосредственное отношение к прекрасному доуниверситетскому далеко. Вообще, одно время Федора прилично тошнило от этой пиццерии, потому что в городе она тогда была примерно единственной – напротив драмтеатра существовало итальянское кафе «Рио», но в нем пиццу делали, практически как в школьной столовой, зато не по шесть, а по двести рублей за кусок. В «Румбе» готовили прилично, и каждый уважающий себя одноклассник Федора задумывал хотя бы один раз за одиннадцать лет (а некоторые и ежегодно) справить свой день рождения в данном заведении. Сюда можно прибавить свидания, на которые Федор бронировал столик с диванчиком, а также некоторые семейные вечера, и вот он уже мог без меню заказать себе пиццу под настроение, тем более что практически всегда выбирал одну и ту же барбекю. Цвет настроения – барбекю, пошутил про себя Федор, когда впервые заглянул сюда по приезде и обнаружил, что, несмотря на обновленный ассортимент, та самая позиция из раздела с пиццами никуда не исчезла. Федор даже согласился с собственным мнением о не изменившемся вкусе и добавил, что в мегаполисах так готовить просто не могут.
Вику от «Румбы» должно было воротить в два раза сильнее, чем шестнадцатилетнего Федора, но сейчас ему захотелось аккуратно приклеить друг к другу свои разноформатные миры, и он надеялся, что Вика поймет, для чего он потащил ее сюда из уютной постели ее уютной квартиры. Федор знал, что Вика редко выходит из дома, а если и выходит, то как раз поесть пиццы с мужем или посмотреть с мужем какую-нибудь комедию в кинотеатре напротив Универмага. Каждый уголок своей двухкомнатной обители Вика попыталась раскрасить в те цвета, которых ей не доставало по жизни: к стенам обеих комнат были приколоты мандалы, ловцы снов, открытки, вырезанные откуда-то изображения любопытных архитектурных сооружений и прочая милая чепуха. Еще Вика коллекционировала игрушечных и сувенирных собак, потому что родилась в год собаки. Федора иногда передергивало от обилия псов – как-то в процессе изучения испанского он насчитал только в одной комнате тридцать восемь штук, причем некоторые из них были не милыми плюшевыми Шариками, а вполне реалистичными гипсовыми или какими-нибудь еще бультерьерами и доберманами. Но если отбросить в сторону собак, квартира была образцом домашнего очага, а Леше, наверное, и собаки не доставляли особого дискомфорта. Они ему, наверное, даже нравились больше всех остальных девчачьих украшений.