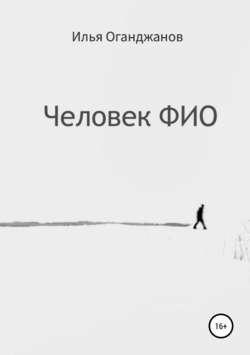Читать книгу Человек ФИО - Илья Оганджанов - Страница 1
ОглавлениеСодержание
Здесь, на Земле
(вместо предисловия)
ЛЕГКО И БЕЗЗАБОТНО
Разговор с сыном
Наш отец
Уроки житейской мудрости
Беспроигрышная лотерея
Легко и беззаботно
О жизни и смерти, и ещё от любви
Это несерьёзно
Дамба
Теория взрыва
ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
От третьего лица
Импровизация
Утренник
Встреча
Премьера
Спор
Вечер пятницы
Сегодня, завтра, никогда
Последний урок
Параллельные миры
ПРОШЛЫЙ ВЕК
И неслышно текла река
Пути Господни
Годовые кольца
Нелётная погода
Опустевшая планета
Прошлый век
РАССКАЗЫ ДЛИНОЙ В ОДНУ ВЫКУРЕННУЮ СИГАРЕТУ
Голоса
Трое
Шесть швов
Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены
Бой с тенью
Загадка
Крыса
Мир, Труд, Май!
Кто знает…
Пока журчит ручей
Игра в жмурки
Как я стал самим собой
Опять весна
Пасха
На озере
Отъезд
Как дела?
Сосед
Тадж-Махал
Медведиха
Живое сердце
Куда глаза глядят
На берегу
В темноте
Самое главное
Снегири
Сапоги
Подоконник
Здесь, на Земле
(вместо предисловия)
Странная штука жизнь. Никогда не угадаешь, что в ней окажется главным, подлинным, что и почему, каким чудом удержится, сохранится в памяти, а что бесследно сотрётся, забудется навсегда, словно и не бывало.
…По пути к моему детскому саду стоял старинный двухэтажный деревянный дом, будто устало присевший у тротуара. Занавешенные тюлем окна с резными наличниками, на подоконниках – цветочные горшки. Там жили какие-то люди и, наверняка, мечтали поскорее перебраться в комфортабельное жильё со всеми удобствами. Но сам дом и его обитатели мало меня интересовали. Моё воображение занимала похожая на курятник дощатая пристройка на втором этаже. Туда вела шаткая деревянная лестница с невысокими перилами. Под покосившейся шиферной крышей этой пристройки криво висела вывеска с кудряво выведенными масляной краской разноцветными буквами: «ПЛИССЕ, ГОФРЕ». Что скрывалось за этими неизвестными мне словами? Имена двух вельможных сеньоров, запутанными обстоятельствами занесённых в наш городок? А может, это два брата, два несчастных сироты, бежавших от коварных опекунов и поселившихся в этом жалком жилище? Или два авантюриста, два искателя приключений, два бесстрашных дуэлянта и сердцееда? В этот курятник с тускло светящимся окошком не раз поднимались женщины, придерживая края длинных юбок, и в их взглядах из-под русых, каштановых, рыжих чёлок сквозила непонятная мне безысходная тоска… Бог знает чего только не насочинял я, пока мне наконец не открылся текстильно-трикотажный смысл этих слов! Всех фантазий и не упомнить. Но почему и сегодня, стоит лишь прошептать «плиссе, гофре», так сжимается сердце? А старый дом с ветхой пристройкой давно разрушили. На его месте возвышается теперь панельная шестнадцатиэтажка. И бывшие его обитатели, должно быть, очень рады, что переехали.
…Когда я пойду в первый класс, дедушка обещал подарить мне свою готовальню – плоскую коробочку, обтянутую потёртой коричневой кожей, с хитроумными выдвижными застёжками по бокам. Дедушка показал мне её и убрал в ящик письменного стола со словами: «Всему своё время». Я, конечно, в тот же день добрался до готовальни и, порядком повозившись с застёжками, открыл её. На чёрном переливчатом бархате, холодно поблёскивая, лежали инструменты. Мне был знаком только длинноногий циркуль с жуткой острой иглой, я видел его на картинке в какой-то книжке, он рисовал невыносимо правильные круги. Назначение и название остальных было неизвестно. Я осторожно брал их в руки и разглядывал, пытаясь представить, для чего бы они могли служить. И после с не меньшей осторожностью помещал обратно, в специальные выемки, повторявшие форму каждого инструмента. От дедушки я слышал, что здесь хранится некий рейсфедер. В молодости дедушка чертил им что-то крайне важное, от чего зависели жизни многих людей. Я старался угадать, какая же из этих мудрёных штуковин носит пышное имя «рейсфедер». Это, наверно, наиглавнейший инструмент, и с его помощью можно проникнуть в неведомые глубины мироздания и спасти сотни тысяч жизней. Я часами просиживал над открытой готовальней. Мне казалось, что рейсфедер и остальные её обитатели, обладавшие, по моему убеждению, магической силой, откроют мне двери в волшебный мир науки, где разрешаются последние, роковые вопросы. Дедушка, несомненно, знал о моих секретных изысканиях, но вида не подавал. Надеялся, что я стану хорошим инженером и принесу немало пользы людям. Увы, первым предметом, который я бесславно завалил на сессии, было черчение. Вскоре я бросил институт.
…У отца был чёрный кожаный дипломат с блестящими хромированными защёлками и кодовым замком. Подарок старого институтского товарища. Товарищ был за границей и купил себе новый, а этот, местами поцарапанный, с обмотанной синей изолентой ручкой, отдал отцу. Отец носил его с какой-то угрюмой гордостью. Правда, внутри не было никаких ценных документов: несколько газет, купленных в киоске Союзпечати, сделанные мамой бутерброды, пара непишущих ручек и запасная пачка сигарет. Я втайне мечтал о таком дипломате и с замиранием сердца крутил колёсики кодового замка. Отец потом ужасно ругал меня, потому что постоянно забывал номер кода. В первых классах школы у меня был ранец. Страшно тяжёлый и неудобный. Он за всё цеплялся и тянул меня книзу. Потом – спортивная сумка через плечо, у неё периодически отрывался ремень, и приходилось ходить в «Ремонт обуви» пришивать. А когда отца не стало, и прошло время после похорон и поминок, мама мне сказала: «У тебя сумка совсем порвалась. Возьми его дипломат, чего он будет пылиться. Вещь хорошая, почти новая. И покупать ничего не надо». Дипломат долго ещё хранил какой-то особый запах – кожи, газет, табака. Сейчас всё необходимое я ношу в карманах. Это не очень удобно, и набитые карманы некрасиво оттопыриваются. Но ничего, я привык.
…Зимний вечер. Сумрачная провинциальная улочка, слабо освещённая горбатым фонарём. Ряд одноэтажных деревянных домишек. И тишина. И в тишине – хрусткий скрип моих шагов. Я куда-то иду, кажется, к своей машине. В изукрашенных морозом окнах горит свет. Они плотно занавешены, и сколько я ни заглядываю в них из праздного любопытства – увидеть ничего не удаётся. Но вот одно незашторенное. Просторная светлая комната. Покрытый клетчатым пледом диван у стены. На стене – красный узорчатый ковёр и картина: зелёный лесок, пшеничное поле, убегающая вдаль дорога. Телевизор на тумбочке. В углу – стол с кружевной салфеткой, и к нему приставлены два стула. Рядом застеклённый сервант с фарфоровым чайным сервизом. Девушка вытирает на серванте пыль. Она в ситцевом платьице с открытыми рукавами, босая, волосы стянуты на затылке резинкой, одна прядь выбилась и вьётся колечками. Она легко и быстро ступает по комнате. Ставит на середину стул, чтобы протереть плафоны на яркой люстре в пять рожков. Приподнимается на цыпочках, и платье слегка задирается выше колена, и мне видны её крепкие голые икры, похожие на перевёрнутые кегли. Закончив с люстрой, она подходит к окну и задёргивает шторы, не заметив меня в густеющей темноте. Я не успеваю толком разглядеть её лицо, что-то простое и миловидное. За шторами ещё секунду виден её смутный силуэт. Я представил, что это моя девушка и что она ждёт меня домой с работы, на плите готовится ужин, и после ужина мы будем пить чай из фарфоровых чашек, а потом сидеть на диване обнявшись и смотреть телевизор. Я ещё постоял немного и побрёл к машине, уже вполне трезво размышляя, что бы я делал в этом городишке, останься я с этой девушкой? Наверняка, она бы мне скоро наскучила и я безжалостно бросил бы её, постыдно бежав. Сколько лет миновало с тех пор? И что, собственно, осталось в памяти? Какой-то городок, в который меня непонятно как занесло, неприметная улочка, дом, окно, чужая комната, незнакомая девушка. Вот, пожалуй, и всё. Но почему-то этот мимолётный случай неизгладимо живёт в душе как воспоминание о навеки утраченном несбыточном счастье…
Одна моя старинная знакомая укоряет меня, что я вечно витаю в облаках и пора бы мне спуститься с небес на землю. Странно: но ведь всё, о чём я говорю, случилось со мной именно здесь, на земле.
ЛЕГКО И БЕЗЗАБОТНО
Разговор с сыном
О твоём появлении я узнал от Веры. Она сказала, что у нас будешь ты. Сказала: у нас будет ребёнок. То есть, не совсем так. Она сказала, что беременна. Да-да, так и сказала: «Я залетела».
Я читал, что с детьми надо начинать говорить с самого начала, пока они в утробе, так врач один писал. И я, как узнал о тебе, сразу стал с тобой разговаривать. Неизвестно было, кто родится – мальчик или девочка, но я почему-то решил, что это будешь ты. Когда Вера приходила, я клал ей голову на живот, воображая, как ты лежишь там, по-собачьи свернувшись клубком, и разговаривал с тобой. Обо всём. С тобой можно было говорить обо всём.
Даже о пустяках. Например, о том, что пятки на подошвах моих ботинок всегда стёрты. Мне маленькому, когда я шёл за руку с мамой, одна женщина сделала замечание: «Что это ты, мальчик, шаркаешь как старик какой-нибудь, так на тебя никаких башмаков не напасёшься. А вы, мамаша, – это она к маме обратилась, – тоже, куда смотрите, вам же потом покупать». Мама наклонилась ко мне с виноватым видом: «Ты уж постарайся больше не шаркать». И я старался изо всех сил и высоко задирал ноги. Было страшно неудобно. У подъезда мама повернулась ко мне и грустно сказала: «Ладно, сынок, иди как идётся».
Сначала я не очень представлял, о чём говорить. К тому же у тебя не было имени. Без Веры я не решался тебя назвать, всё-таки мать должна принимать в этом участие, а она и слышать ни о чём таком не желала: «Ты бы лучше подумал, что нам делать». Но оказалось, можно и без имени. Без него ты был мне как-то ближе, был не отделившейся от меня частью. И я говорил с тобой как с собой. А сам с собой я разговаривал с детства. Может, конечно, и не совсем с собой, а с тем другим, с которым говоришь, когда уже невмоготу. Меня ещё на пятидневке дразнили ворчуном, за то что сяду в уголку и бурчу себе под нос. Честно сказать, пятидневку я не любил. Первым развлечением там было отобрать у товарища игрушку – скопом или поодиночке, если кто посильней, – чтобы тут же бросить. Игрушки как мёртвые валялись на полу. Нянечки отшвыривали их, проходя по комнате и злобно гремя крышками эмалированных горшков: «Скоко можно гавно ваше выносить, гадят и гадят». Тех, кто не дотерпел до горшка или того хуже не утерпел во сне, они больно били и гадко стыдили. Я терпел, чтобы не было больно и стыдно. А куда деваться: родители, бабушки и дедушки – все работали.
Один мой дедушка был лётчиком, и у него было много разных орденов и медалей. В День Победы они звонко блестели на его стареньком парадном пиджаке. Дедушка, когда бывал в духе, – а это случалось всегда, когда он пропускал рюмочку, – напевал: «Люблю я женщин рыжих, нахальных и бесстыжих», и тогда бабушка начинала убирать со стола, приговаривая: «Ну будет, Ваня, хватит, отлетался». Он, и точно, отлетался – работал на аэродроме, в диспетчерской. Что-что а приговаривать бабушка умела. Она была сибирячка, из самой таёжной глухомани, и знала без счёта всяких приговоров да побасенок. Начнёт – не остановишь. И деда очень ловко заговаривала. С этим дедушкой хорошо было ходить в магазин. Ему всё без очереди давали. В магазинах висели объявления: «Ветераны войны и труда, Герои Советского Союза и кавалеры Ордена Славы обслуживаются вне очереди». К Герою его два раза представляли, но так и не дали. Наверно из-за тех бесстыжих, которых он любил.
Другой дедушка женщин не любил, он любил бабушку. Он был очень добрый и не очень счастливый. У них в революцию всё отобрали, отец его сгинул в гражданскую, мать сильно болела, и поэтому он, маленький, должен был работать на заводе, чтобы им обоим прокормиться. Он работал и учился, и снова работал, и доработался до большого заводского начальника. И тут встретил бабушку, в эвакуации, на почте. Она письма от кого-то ждала. Да так и не дождалась… Этот дедушка был очень добрый и ни на кого не сердился, тем более на бабушку, пусть она и сильно на него кричала. Лишь раз, когда я увидел, что он крошки со стола в горсть собирает – и в рот, и сказал ему: «Дед, ты зачем крошки ешь, хлеба вон сколько», – он нахмурился: «Ты, – говорит, – голода не видел, слава Богу. Вот и помалкивай».
С пятидневки меня забрали, потому что деда с завода отправили на пенсию, и он мог со мной сидеть. Но тебе пятидневка не грозит – я ведь пока не работаю, ищу, куда бы устроиться. Вера говорит, что пора определиться: «Год, как институт бросил. Инженер, видите ли, не его призвание. А какое оно, твоё призвание, инфантил несчастный?!» Брал бы пример со старшего брата – какой-никакой, а бизнесмен. Сама-то она удачно устроилась – в банк. А я действительно не знаю, кем хочу быть. Но ты – другое дело, ты должен решить, кем станешь в жизни. Говорят, это важно. В общем, на пятидневку мы ни ногой.
Тем более ходить тебе много куда придётся. Например, в музыкальную школу. Все приличные дети должны учиться на чём-нибудь играть, лучше всего на скрипке. Так считает моя мама. Сама она, правда, играет на фортепьяно. Она долго училась, с самых косичек, но заиграла руку. Это когда перезанимаешься, и рука немеет. И это никак не вылечить. Поэтому мама после музучилища пошла не в консерваторию, как мечтала, а в музыкальную школу – преподавать. И я ходил в эту музыкалку, на скрипку, и, возвращаясь домой, ныл: «У всех братики, сестрички, а у меня скрипка». Старший брат был не в счёт. Он был сильно старше, жил своей жизнью. А тогда и вовсе ушёл в армию на три года, потому что попросился на флот. И чтобы я сильно не расстраивался, мне купили собаку и перевели на гитару.
Тебе, боюсь, тоже не избежать поучиться на скрипке, потому что с моей мамой лучше не спорить. А собаку я тебе обещаю. Без собаки человеку нельзя. Но ты должен быть готов увидеть самое страшное. Это когда твой пёс будет тихо лежать на своем коврике, смотреть на тебя умными преданными глазами и скулить. Смотреть и скулить. И не вильнёт хвостом, когда ты позовёшь его гулять. И тогда надо будет отнести его в ветлечебницу, чтобы там ему сделали последний укол. У собак есть такой. И если ты к тому времени станешь достаточно взрослым, отнести его должен будешь именно ты. И когда ты положишь его на холодный металлический стол и врач спокойно наполнит шприц бесцветной жидкостью, похожей на совсем не страшную водичку, твой пёс уже не будет скулить, он всё поймёт. И тогда ты на прощанье заглянешь ему в глаза, и о том, что ты в них увидишь, ты никому не сможешь рассказать. И с этим тебе потом придётся жить.
Отец мой в детстве на скрипке не играл и вообще ни на чём не играл. «Что мне эта музыка со всеми вашими тонкими материями! Я человек научный, у меня вся материя в толстой кишке. Да и слуха мне Бог не дал». Но как выпьет, тут держись – затянет одному ему известную песню и будет тянуть её, пока не кончатся водка и силы. Слов не разобрать: «у-у-у-у…» да «у-у-у…». «Перестань, пожалуйста, – не выдерживала мама, – голова раскалывается от твоих завываний». «Голова у неё раскалывается!.. Мы всю эту вашу мигрень в семнадцатом году повылечили». И опять «у-у-у… у-у…». Отец научил меня плавать и сжимать кулак не по-девчачьи, а по-мужски – чтобы большой палец сверху. И ещё учил ничего не бояться. Но я научился только сжимать кулак.
Про Вериных родителей мне почти нечего рассказать. Я и видел их раз, мельком. Вера тогда целую неделю не отвечала на звонки, и я без приглашения к ней заявился. Они сидели на кухне, в халате, трусах и майке, толстыми ломтями нарезая варёную колбасу, и всего-то сказали: «Здрас-с-сьте». Мы тогда с Верой поругались, как и позавчера. И теперь я хожу по безмолвным улицам, шаркаю ботинками и слушаю, как дождь глухо барабанит по моему такому одинокому в этот поздний час зонту.
А дальше и не знаю, о чём говорить… Вечером позвонила Вера и сказала, что тебя больше нет. То есть не совсем так. Она сказала, что сама всё решила. Да-да, так и сказала: «Я сделала аборт».
Наш отец
– Протопоповский переулок – бывший Безбожный. Легко запомнить. От метро прямо и направо. Пешком минут пять. До первой арки. Заблудиться невозможно. Шампанское и торт необязательны. В нашем распоряжении бар и полный холодильник – родители в шесть отбывают в Дом офицеров на торжественное мероприятие по случаю…
Это была её идея отметить День защитника Отечества1. «Ну и что, что не служил. Всё равно. Ты ведь мужчина. И если война – тебя призовут, не волнуйся, на очки не посмотрят».
Мать мне тоже всегда говорила: «Какой из тебя воин… Смех да и только. Весь в отца».
Двадцать третьего февраля, в День Советской Армии и Военно-Морского флота, наш отец, вернувшись с работы, снимал пиджак, рубашку и надевал старенькую застиранную тельняшку – хотя в армии был на сборах в авторемонтных войсках и море видел всего-то несколько раз – в отпуске, – открыто, не таясь от матери, брал из серванта сколько надо на пузырь и, что-то подвывая и насвистывая, в пальто нараспашку, тащился через весь город, по ухабистым улочкам, вдоль залитого огнями шоссе на Москву, к стоящему на отшибе, у самых огородов, отделению милиции.
По дороге он то и дело останавливался и прикладывался к бутылке: у ворот похожего на крематорий завода, возле неотличимых друг от друга, как близнецы, детсада и поликлиники, перед клубом с тремя дорическим колоннами, исписанными ругательствами и признаниями в любви. (В клубе в этот день давали праздничный концерт. Приезжал народный ансамбль песни и пляски «с области», и хор задушевно пел «Из-за острова на стрежень», а статные плясуны в клёшах и матросках лихо, с присвистами откаблучивали «Эх, яблочко», стреляя глазами в наших зардевшихся девок.)
В парке культуры и отдыха под убелёнными снегом столетними липами, чудом уцелевшими от барской усадьбы, отец справлял нужду и снова прикладывался – у гипсовых горнистов, у памятника Ленину в снежной ермолке и у беседок, где в тёплое время пили, любили, плакали и гадили.
Через весь город тащился он к безрадостному двухэтажному зданию отделения милиции требовать высшей справедливости.
Его не били и не забирали в вытрезвитель. Милиционеры, при параде по случаю праздничка, с шутками и прибаутками сажали его, обмякшего, в тарахтящий тряский «козлик» и доставляли на квартиру.
– Хозяйка, принимай своего морского волка. Всю дорогу брехал, что прадед его – георгиевский кавалер, старшина хер знает какой статьи и на Тихом океане в девятибальный шторм под парусами ходил.
– Да как же так, Коля! Опять ты за своё?! – искренне удивлялась мать, всплёскивая полными белыми руками, на мгновенье оголявшимися в рукавах её махрового халата. Отец в ответ бормотал, что он ещё всем задаст и выведет всех на чистую воду. Мать вздыхала, плотнее запахивая халат, и просила отнести отца на их промятую, слишком узкую для двоих кровать.
– Счастливого плавания! Но чтобы это в последний раз, – весело напутствовали отца нарядные милиционеры и, потоптавшись у порога, точно голодные телки перед пустой кормушкой, шли отмечать и праздновать.
Брат, когда вернулся из армии, тоже отмечал и праздновал. С утра до вечера. Сначала дома, потом с друзьями, потом сам, неизвестно где и с кем.
Его часто видели у пивного ларька рядом с заводом. После смены здесь останавливались рабочие. Брат просовывал голову в низкое окошко, придавленное изнутри внушительной грудью крикливой, строгой, всегда наливавшей в долг Валюши, щедро угощал, выставляя одну за одной пузатые гранёные кружки с быстро оседавшей пеной и, разойдясь, обзывал размякших рабочих сухопутными крысами. Не со зла, конечно, а потому что отслужил три года на флоте. В результате случались инциденты. И отцу приходилось вступаться, за что он потом сам нещадно бил брата – лютее, чем раньше, до армии, за любые маломальские провинности. Мать плакала, выщипывая узловатыми цепкими пальцами катышки из уголка своей старой вязаной кофты, просила остановиться, одуматься.
Брат не остановился и не одумался. После очередного инцидента его увезли в больницу с переломами и сотрясением. За ним ухаживала одна медсестра. Женщина неприметная, одинокая, годами старше брата. Она овдовела несколько лет назад, но по-прежнему носила траур. Чёрное ей очень шло и слегка молодило. Возраст выдавали разве что гусиные лапки в уголках подведённых стрелками глаз и две глубокие морщины у губ.
Выйдя из больницы, брат переехал к ней, перестал околачиваться у пивного ларька, но пить не бросил. Из жалости и соображений экономии она таскала ему в склянках из-под микстур и настоек медицинский спирт и подсовывала читать разные захватанные брошюры полуэзотерического-полуэротического содержания.
Под Новый год брат заявился со своей медсестрой в гости к родителям. Знакомиться и всё такое прочее как у людей положено, чин-чинарём – при галстуке, с шампанским и тортом. Они жались у дверей. На неестественно длинных, круто изогнутых угольных ресницах медсестры искрились подтаявшие снежинки. Одутловатая физиономия брата расплывалась в беспомощной улыбке.
Отец с порога обложил их матюками и взашей спустил с лестницы. «Чтоб духу вашего блудливого не было в моём доме!» Потрясая увесистым кулаком, на котором в сетях сизых узловатых жил синела выцветшая, в юности сделанная наколка – лучистое солнце над двугорбой волной, он строго-настрого запретил с ними общаться. Мать всхлипывала, судорожно теребя уголок кофты, а утром тайком отправилась на квартиру медсестры, пока та была на дежурстве. Пошёл с ней и я.
Брат лежал на незастеленной кровати, на смятых бесстыдных простынях, насуплено слушая уговоры матери, больше похожие на причитания. Закашлялся, так что в груди у него что-то заклокотало. Сел. Всунул босые отёчные ступни в розовые женские тапочки. Прошаркал по комнате из угла в угол. Закурил, по флотской привычке пряча в горсти огонёк спички. Тупо покосился на серый прямоугольник неба в незашторенном окне. И снова улёгся, с папиросой в зубах, щурясь от змеящегося дыма, в нетерпении, когда же мать закончит и, опершись на колени, с тяжёлым вздохом встанет со стула, оправит шерстяную давно потерявшую цвет юбку, ткнётся сухими горячими губами в его щетинистую щёку, неловко сунет ему в кулак смятую трёшницу, пятёрку или десятку, и мы в конце-то концов уберёмся восвояси.
Мать родила брата на седьмой месяц после свадьбы. Вроде как недоношенного. Отец ничего не спрашивал, и назвал его, как и собирался, в честь прадеда – Афанасием. Но сильно хотел ещё детей. И они с матерью старались, как могли. Долго, с лишком десять лет. И когда получилось и появился я, мать очень радовалась, что наконец угодила отцу и он оставит брата в покое…
Отца нашли наутро двадцать четвёртого в парке отдыха. Он мирно сидел на снегу, привалясь к постаменту горниста. В распахнутом пальто и тельняшке, без шапки, с запрокинутой головой, запорошённой снегом, широко расставив худые длинные ноги, резко проступившие под заиндевелыми брюками. Веки прикрыты, будто он дремал у телевизора за своим любимым «Клубом кинопутешествеников». От затылка по свежебелёному постаменту тянулись две замёрзшие багровые струйки, сливаясь на расчищенной асфальтовой дорожке в мрачную заледенелую лужицу. В её мутном зеркале краем отражалось пустынное зимнее небо и недоумённые лица милиционеров, не понимающих, куда же теперь везти отца.
Уроки житейской мудрости
Он сидел на лестничной площадке третьего этажа на корточках и курил. В тапках на босу ногу, в пузырящихся синих трениках и застиранной белой майке с растянутыми лямками. Редеющие стриженные бобриком волосы с проседью, зло вырезанные морщины в уголках жёстких, словно поджатых, губ, перебитый орлиный нос, глубокий кривой шрам над правым веком, будто он постоянно хитро щурился или подмигивал кому-то. На плече – татуировка: крест на могильном холмике. Худой, жилистый, весь как на шарнирах, он, наверное, мог сидеть на корточках часами. Острые коленки доставали ему почти до впалых небритых щёк, и он был похож на кузнечика перед прыжком. Мне он казался едва ли не стариком, хотя было ему под сорок.
Заходя в подъезд, я точно знал, сидит он там или нет: едкий дым от его папирос чувствовался уже при входе, а глухой кашель угрожающим эхом сотрясал гулкие пролёты нашей пятиэтажки.
Я всегда вежливо здоровался с ним и нарочно приостанавливался на предпоследней ступеньке, ожидая, что он заведёт со мной разговор.
Он разгонял узкой ладонью плотный сизый дым, прятал в горсти папиросу и строгим голосом спрашивал:
– Как успехи, студент?
Мне нравилось, что он называет меня студентом, но я упорно отвечал, что никакой я не студент, а учусь в школе, в четвёртом А.
– Не беда, подрастёшь, поступишь в институт и станешь студентом. Главное – учись прилежно.
Он глубоко затягивался, так что почти уснувший огонёк его папиросы ало вспыхивал, быстро добегая до края ловко переломленной гильзы, и уголком рта выпускал дым куда-то себе под мышку. Откашливался, хмурился и, глядя на стену с облупленной синей краской, исписанную ругательствами и признаниями в любви, ни к кому не обращаясь, сурово изрекал какую-нибудь сентенцию:
– Друг не тот, кто с тобой водки вмажет, а тот, кто от ментов отмажет, – и отрешённо о чём-то задумывался.
Но мгновение спустя, будто очнувшись, бросал потухшую папиросу в стоявшую в углу пол-литровую полную окурков грязную стеклянную банку из-под маринованных огурцов и сипло устало говорил:
– Ладно, студент, ступай, мамка, небось, заждалась. Мать – святое дело.
Учуяв от меня запах дыма, мама ругалась: «Табачищем-то как несёт, опять этот уголовник в подъезде смолит. И когда это прекратится? В милицию что ли на него заявить? Будь с ним, пожалуйста, осторожен».
В доме его многие так звали: «этот уголовник». Тётя Зина, судача вечерами на лавочке со своими товарками, рассказывала, что первый раз он сел по малолетке за хулиганство, а второй – уже за что-то серьёзное, то ли покалечил кого-то в драке, то ли убил, вроде из-за девчонки, и сел надолго. Мать его не дождалась, умерла, бедная, с горя, хорошая была женщина, светлая ей память.
Мне не верилось, что он мог кого-то покалечить, тем более убить. Он выглядел таким щуплым, безобидным, похожим скорее на странствующего философа с картинки в учебнике истории Древнего мира, чем на уголовника. Сравнить хотя бы с нашим соседом с четвёртого этажа дядей Толей, двухметровым бугаём, который по выходным ходил в качалку и мог одной левой десять раз отжать двухпудовую гирю.
Как-то я возвращался после футбола. Мы играли с ребятами из соседней школы, и я повздорили с одним конопатым хмырём, который подленько ставил сзади подножки. В общем, домой я шёл в сильно запачканной форме, с оторванным рукавом и фонарём под глазом.
– Что, подрался? – был первый вопрос, донёсшийся до меня из клубов табачного дыма.
Я кивнул.
– И кто кого?
По моему обречённому молчанию он всё понял.
– Никому ничего не спускай. А то будут ноги об тебя вытирать. Не можешь драться – зубами рви, – и он обнажил два ряда неровных гнилых зубов, с хрустом сжал костистый кулак, и в глазах его блеснуло что-то ледяное и жуткое.
Где-то перед ноябрьскими праздниками у него поселилась продавщица из нашего универмага. Молодая, с мягкими ленивыми движеньями, пухлое лицо её лоснилось от густого слоя косметики, будто в испарине. Они теперь вместе дымили на лестнице. Она громко развязно болтала без умолку, держа на отлёте в толстых коротких пальцах тонкую ментоловую сигарету. Лекарственный аромат ментола примешивался к удушливому крепкому запаху папирос. И в дыму красный лак на её острых ногтях зловеще переливался.
Мы сухо здоровались, не заводя разговоров. Я прекрасно понимал, что никаких серьёзных разговоров при женщине быть не может. Это он объяснил мне ещё до её появления. Она стояла, прислонясь круглым полным плечом к стене, а он повеселевшими глазами по-собачьи преданно смотрел на неё снизу вверх, кажется, пропуская мимо ушей всю её болтовню.
Иногда, видимо, чтобы произвести на неё впечатление, он лихо чиркал о стену спичкой, прикуривал от вспыхнувшего огонька и принимался надо мной подшучивать:
– Эй, студент, не пей абсент.
Она одобрительно хихикала, и в горле у неё будто дребезжало битое стекло. Но я не обижался. Я догадывался: ему с такой, наверняка, было непросто.
Утром она выходила курить в полупрозрачной комбинации, и на её помятом ненакрашенном лице тускло мерцали водянистые мутные глаза. Он сидел помрачневший, утомлённый, с синими мешками под глазами, бессмысленно глядя на шашечки кафельного пола. Она стояла, небрежно привалясь к стене, скрестив свои белые гладкие, как у мраморной античной богини, ноги в розовых тапочках с помпонами, и сквозь комбинацию, словно сквозь дым, просвечивали груди, похожие на спелые груши, с двумя тёмными кружками размером с трёхкопеечную монету, налитые бёдра и округлый живот, к низу угольно черневший курчавым треугольником… Её бесстыдное тело необъяснимо волновало и притягивало. И я изо всех сил старался на неё не смотреть.
«Срам да и только. Глядеть тошно», – застав её на лестнице в таком виде, возмущалась на кухне мама. «Ни капли совести, кругом же дети», – и с опасливым волнением косилась на меня.
Он всё чаще выходил курить один. И сидел мрачный как туча. Но я был этому даже рад, потому что без посторонних он снова мог со мной свободно разговаривать.
– Всё зло от баб. Запомни, два раза повторять не стану: не давай бабе над собой верховодить. Не то – конец мужику. Все они, известно, дуры и б… – и тут он прибавлял слово, которое мне произносить не разрешал, потому что «мал ещё». – Но, как ни крути, никуда от них не деться. Если б не это дело, в гробу бы я их видал.
А накануне вечером я слышал, как его продавщица кричала на него прямо на лестнице:
– Хорошо устроился, ничего не скажешь. Я продукты таскаю. Так он и не думает работать!
Она и правда чуть ли не каждый день носила с работы полные сумки. А он всё курил с утра до вечера и, похоже, в самом деле нигде не работал. Но ведь он был философ. А на каком предприятии должны трудиться философы?
Постепенно наши перипатетические беседы потекли по-прежнему. Особенно ему нравилось, когда я возвращался из музыкальной школы со скрипкой. Тут он пускал в ход всё своё красноречие. Называл меня будущим Паганини и всячески поощрял мои «пиликанья».
– Музыка, брат, – тонкая штука, – мечтательно начинал он. – Вроде ничего нет, не ухватишь, а душу согревает лучше водки. И в жизни пригодится. Я в детстве тоже играл… на баяне. Мать из-под палки заставляла. А на зоне сто раз ей спасибо сказал.
Незадолго до Нового года привычная жизнь в подъезде изменилась. «Вы только посмотрите, у этого уголовника ещё и приятель отыскался, мало им показалось, они решили настоящий бедлам здесь устроить», – всплёскивая руками, бессильно жаловалась на кухне мама.
Откуда взялся этот приятель, никто точно не знал, даже тётя Зина. Какой-то скользкий напыщенный тип, похожий на мелкого фарцовщика. У него было такое выражение лица, будто он только что сытно отобедал и отрыгнул. Они шумно отмечали на троих новогодние праздники. Две недели подряд люто ревели надтреснутыми голосами динамики магнитофона и весь подъезд потрясали дикие визги продавщицы и пьяный мужской гогот. И в стеклянной банке среди папирос и тонких ментоловых появились окурки с длинным рыжим фильтром. В присутствии своего новоявленного приятеля мой учитель жизни сникал, становился вялым и глупо хлопал глазами, слушая, как на все лады распинается его вошедший в раж фанфаронистый гость. И лишь иногда, словно смахнув пьяный морок, чиркал о стену спичкой, небрежно задувал вспыхнувший огонёк и торжествующе смотрел на свою продавщицу. Но та кисло кривила напомаженные губы, в недоумении вскидывала ниточки выщипанных бровей и недовольно хмыкала.
«Ентот приятель устроил его спедитором, – рассказывала потом тётя Зина. – Он неделями с командировок не вылазил. А ворочась, вечно был подшофе и кой-то бешеный, стал на людей кидаться».
Однажды досталось и мне.
– Чё вылупился, – зашипел он на меня, когда я привычно приостановился на предпоследней ступеньке перед площадкой третьего этажа. – Може, хошь затянуться?
Я отрицательно замотал головой.
– Прально, – сказал он, смягчившись и чуть откинувшись на корточках, точно в кресле, – лучше не начинать.
Пока он пропадал в командировках, его приятель навещал продавщицу, и они, никого не стесняясь, курили на лестничной площадке. Бывало и по утрам. Он – в расстёгнутой до пупа рубашке, с обнажённой волосатой грудью, она – в комбинации.
Закончилось всё весной, на восьмое марта. Помню, ранним утром я побежал маме за цветами. Мать ведь, я это усвоил, – святое дело. На площади перед рынком, открыв доверху забитые цветами багажники своих «копеек», торговали барыги. Я купил несколько веток ядовито жёлтых мимоз, осыпающихся и пачкающих пыльцой рукава куртки, мама их, правда, терпеть не могла, но на тюльпаны мне не хватило сэкономленных на завтраках денег. Ещё выскакивая из дома, я заметил во дворе экспедиторский «рафик». Значит, вернулся ночью, подумал я. Оно и понятно, Женский день.
…На третьи сутки, когда в подъезде появился запах, вызвали милицию и взломали дверь. Продавщица и его приятель лежали на кровати. У обоих было перерезано горло – от уха до уха. Его так и не нашли. Позже где-то в ста километрах обнаружили «рафик» – рухнул в реку с моста. Тела нигде не обнаружили. «Словно в воду канул», – приговаривала тётя Зина, в бог знает какой раз с увлечением пересказывая эту историю, обраставшую в её версии всё новыми подробностями. По её словам, он не сразу скрылся, долго ещё сидел на площадке и курил. Тогда-то я и видел его последний раз, взбегая по лестнице с мимозами для мамы. Он ничего мне не сказал, напряжённо уставясь в стену, словно впервые видя написанные на ней ругательства и признания в любви.
Беспроигрышная лотерея
I
Солнце ещё не взошло, и в воздухе разлит серый призрачный свет. Спросонья не сразу поймёшь – вечерние или предрассветные сумерки. В бывшем красном уголке, где днём отдыхают слесаря и механики, стоит тяжёлый спёртый запах – смесь табачного дыма, перегара и мужского пота. На низких жёстких топчанах ворочаются и сопят Рома и Жорка. Передо мной на старом советском конторском столе с тремя выдвижными ящиками и тумбой – словно туманное пятно: раскрытая на чистой странице кожаная тетрадь в клеточку. Стол покрыт исцарапанным оргстеклом. Под стеклом лежат счастливые автобусные билеты, клочки бумаги, исписанные корявым нетвёрдым почерком управляющего автосервисом – имена и телефоны клиентов, и где-то раздобытый Жоркой календарь с полуголой блондинкой: гипнотически-порочный взгляд, призывно полуоткрытые губы и страстно прижатый к упругой загорелой груди серебристый стартёр. На угол стола сдвинуты три недопитые пивные бутылки, полная окурков пепельница, ловко сработанная из крышки карбюратора, и общепитовская тарелка с прямоугольником ржаного хлеба, напоминающим грязную губку, бледно-розовыми обветренными по краям полумесяцами докторской колбасы и ломтиками Российского сыра в мелкую дырочку, будто пробитыми компостером. Засиделись вчера позже обычного, я и не заметил, как задремал за столом, подперев кулаком щёку.
Спасибо Роме, не то пришлось бы ночевать на улице…
Когда Жорку с треском выгнали из общаги «за систематическое злостное нарушение внутреннего распорядка», мы не нашли ничего лучшего, как заявиться сюда. Я, правда, поехал больше за компанию. Накануне опять повздорил с матерью и в сердцах так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка.
Добирались долго. Сначала на метро, в самый час пик. Проскочили турникет по одному жетону. Втиснулись в переполненный душный вагон и протолкались в середину. Спрессованная бесформенная людская масса покорно тряслась в такт движению поезда. Не знаю, как Жорка, а я чувствовал себя чужим среди этих погружённых в тягостное молчание людей. Было неловко за свою праздность и глупые мечтания о какой-то иной жизни.
От Текстильщиков ехали на автобусе, на заднем тряском сиденье, обтянутом засаленным, протёртым до дыр, вонючим дерматином. И, глядя в запылённое окно с высохшими дождевыми разводами, не верилось, что эти Коммунистические проезды и аллеи 25 Октября, застроенные бесконечными хрущёвками, приведут нас к беспечальному светлому будущему.
Мы вышли на конечной и потащились по узкой, плотно утоптанной тропинке – вдоль глухого бетонного забора бывшей промзоны. Тропинка была густо усеяна окурками, точно стреляными гильзами, пивными пробками, похожими на короны поверженных лилипутских царьков, и смятыми пакетами от чипсов. Пакеты мертвенно шуршали на освежающем вечернем ветру.
У запертых железных ворот нас облаяла стая бездомных дворняг. Их остервенелые, хриплые голоса звучали дико, первобытно. Собаки скалились, но напасть не решались. Возможно, их отпугивала высокая, худая, словно крепкая жердь, фигура Жорки.
Мы забарабанили кулаками в ворота, и металлический грохот заставил собак отступить. Щёлкнул засов, заскрипели петли, и к нам вышел тучный брюхатый вахтёр. Рябая одутловатая ряха лоснилась, как намасленный блин, и по распухшему малиновому носу и оплывшим щекам кирпичного цвета разбегались иссиня-лиловые змейки лопнувших кровеносных сосудов. Зычным окриком он шуганул собак.
Жорка путано, сбивчиво объяснял, куда нам надо попасть. Выслушав, вахтёр неохотно попятился, освобождая проход, и вяло махнул в неопределённом направлении, просипев низким утробным голосом: «Туда».
Разбитая асфальтовая дорога с торчащим посредине куском арматуры вела к настежь распахнутым воротам пустого ангара. Рядом стоял погрузочный кран. Его увесистый крюк на длинном тросе угрожающе застыл в вышине над покорёженной узкоколейкой. Поодаль громоздилась кроваво-бурая груда металлолома. За ней шли какие-то цеха, безмолвные, с шеренгами замерших станков, затянутых паутиной и серым сукном пыли.
Несколько цехов было переоборудовано под пошивочные мастерские, склады, шиномонтаж и автосервис.
К этому автосервису Рома прибился с первого курса. Поставлял богатеньких клиентов, пригонял на разборку дешёвые машины, мог достать любую деталь и вообще что угодно. А завалив сессию, обосновался тут капитально. Шмотки кое-какие перевёз. Домой лишний раз ходить было рискованно – могли нагрянуть с повесткой из военкомата. Управляющий не возражал: «Ночуй, заодно и посторожишь», – и делал вид, будто не замечает появления во дворе сомнительных иномарок. Рома перебивал на них номера и продавал в регионы. Ему постоянно нужны были деньги – на лекарства и на сиделку для парализованной матери. Он принялся играть – то ли в покер, то ли в двадцать одно – с какими-то авторитетными людьми. И поначалу всё шло как по маслу, пока он не спустил крупную сумму и не влез в долги.
Отдавать было нечем, а не отдать нельзя. К нему раз наведались двое крепких, коротко стриженных парней в тренировочных костюмах. Они пощёлкивали деревянными чётками и смачно чавкали жвачкой: «Сроку тебе – неделя. Потом пеняй на себя… Наш тебе совет: не телись, отправляй мать в богадельню и продавай хату».
О Роминой беде в сервисе прослышали быстро: да ты-то сам как поступил бы всё равно жалко парня может бошки им поотрывать как бы тебе чего не оторвали тимуровец хренов это ж отпетые отморозки легко вам рассуждать холостым балаболам а когда жена дети. Сговорились скинуться, кто сколько может. Присоединились и мы.
– Не повезло Ромычу, – протянул Жорка, вынимая из кармана потёртых ливайсов свёрнутые трубочкой купюры. И сочувственно улыбнулся своей белозубой обезоруживающей улыбкой: – Судьба-злодейка.
Чтобы Рома из гордости не отказался, Василь Петрович, электрик, по-отечески опекавший его, затеял дурацкий турнир: «Кто попадёт ножиком с десяти шагов десять раз кряду вон в тот тополь у ворот – получит солидную прибавку к жалованью», – гремел под сводами мастерской старческий прокуренный голос, будто консервная банка, привязанная к хвосту обезумевшего облезлого кота. Этих денег, конечно, не могло хватить, но хоть что-то… А ножи Рома бросал отменно, это все знали.
Хищно осклабясь, он тщательно выцеливал, замахивался, плавно отводя за ухо согнутую в локте рыхлую руку, и метал складной ножик. Лезвие втыкалось глубоко, с мягким стуком, оставляя на палевой коре тёмные узкие сочащиеся ранки, и рукоятка, в которой виднелись спиралька штопора и горбик открывалки, дрожала, неприятно дребезжа. Я всякий раз невольно съёживался.
– Где так наловчился?
– Да нашлись учителя… И потом мужик должен всё уметь в жизни, вдруг пригодится. Это везунчику Жорке можно ни о чём не беспокоиться. Предки упакованы. По загранкам мотаются. С детства тряслись над ним, пылинки сдували. В институт запихнули, квартиру обещали купить и место тёплое подыщут. Только диплом получи. А он, вишь ты, самоутверждается. Работу нашёл! Но и тут шоколадно устроился: час по мастерской с кофеем поваландается, лясы со слесарями поточит и пойдёт хозяина своего облапошивать. И нос ещё воротит, когда я у толстосума какого-нибудь новую детальку махну на бэушную. Чистоплюй хренов! Тут крутишься день и ночь как белка в колесе…
И с остервенением бросал нож. И его тень, будто вычерченная углем на залитой июньским солнцем земле, вздрагивала, как от порыва ветра.
Работал Жорка возле вещевого рынка в спорткомплексе ЦСКА. Продавал жареные сосиски. По две штуки порция, на картонной тарелке. Плюс кусок отсыревшего ржаного хлеба, красная лужица кетчупа и пластмассовая вилка в придачу.
Заявлялся к двенадцати – продавцы и покупатели как раз успевали проголодаться. Доставал из старенького отцовского дипломата купленные по дороге два кило сосисок: «Ровно двадцать две штуки, всего-то одиннадцать порций, никто и не заметит, а от Мамеда не убудет», – и воровато подсовывал их в холодильник, к хозяйским. Затем не торопясь надевал замызганный халат с высоко закатанными рукавами, включал гриль и с детским любопытством наблюдал, как вращаются и, нагреваясь, скворчат замасленные стальные цилиндры жаровни. И наконец, открывал окно палатки.
Особого барыша уловка с сосисками не приносила. Да и деньги у Жорки водились – родители давали на карманные расходы. Просто спортивный интерес.
Этого Мамеда, хозяина сосисочной, я видел пару раз. Я тогда только подвизался продавать лотерейные билеты на цеэсковском рынке. Бубнил в громкоговоритель заученную на инструктаже фразу: «Американская беспроигрышная лотерея, не проходите мимо, и удача вам улыбнётся». И как-то в обед заглянул к Жорке – перекусить.
На раскалённой асфальтовой площадке, прямо перед парковкой, у высоких стоячих столиков жались челноки. Опершись локтями о круглые липкие столешницы, они сосредоточенно обмакивали горячие сосиски в кетчуп, торопливо шумно жевали и жадными глотками тянули из горла тёплое пиво. И на их красных от загара, крепких шеях страшно двигались каменные кадыки.
Жорка выдал мне двойную порцию.
– На-ка, подкрепись, продавец счастья. Фирма угощает!
Я едва успел пристроиться со своей тарелкой между упитанным нечёсаным бородачом в тельняшке, напоминавшим заблудившегося в городе походника, и лысоватым очкариком, этаким вундеркиндом-неудачником, в наглухо, до подбородка, застёгнутой клетчатой рубашке без рукавов, – как на стоянку въехал белоснежный «мерседес» с тонированными стёклами.
Из машины вышел коренастый рослый джигит. Нос свёрнут, уши расплющены в лепёшку, как у борцов-вольников. Он смерил взглядом челноков и услужливо открыл заднюю дверь. Оттуда высунулись короткие толстые ноги в лакированных остроносых ботинках, следом выкатился студенистый живот, с прилипшей к нему гавайской рубашкой, и заколыхался между полами малинового двубортного пиджака. В довершение появилась загорелая лысина и весело заблестела на солнце.
С Жоркой они говорили недолго. Мамед размашисто жестикулировал, поигрывая массивным браслетом на запястье, похлопывал Жорку по спине пухлой пятернёй с перстнем-печаткой на безымянном пальце, раскатисто смеялся, разевая рот и обнажая два ряда крупных золотых коронок. Жорка понимающе кивал, призрительно скривив тонкие губы.
Их свёл Рома. Одно время Мамед тоже промышлял «левыми тачками», но быстро «поднялся» и ушёл в «легальный бизнес». Рома всё собирался обратиться к нему, попросить в долг. Но Мамед просто так не одалживал. Он был человек жёстких правил. Ты мне – я тебе. Око за око. Зуб за зуб. Услуга за услугу. А какую услугу оказать Мамеду – Рома пока придумать не мог.
Второй раз Жорка сам привёл Мамеда ко мне.
Я стоял у входа на рынок, возле продавцов пива и газировки. Самое выгодное место, особенно в выходные и на праздники. Народ, выкатя зенки, валит за покупками и, нагруженный, заморенный, плетётся обратно. И достаточно кому-нибудь клюнуть на мои завывания по ненавистному охранникам громкоговорителю: «Американская беспроигрышная лотерея, беспроигрышная лотерея», раскошелиться и начать судорожно стирать монеткой или ногтем покрытое защитным слоем игровое поле, как тут же соберётся группа любопытных, и среди них непременно отыщутся желающие «рискнуть на фарт». Тем более удовольствие недорогое: доллар за билет.
Мамед всем видом давал понять, что он здесь по делу, не то что эти «мэшочники». Говорил с акцентом, путая падежи, растягивая, почти распевая гласные, и старательно артикулировал исковерканные слова. За его спиной, скрестив на груди руки, застыл телохранитель с расплющенными ушами, уставив куда-то поверх голов свой печальный орлиный взор.
– В казино рулэтка играл, блэкджек играл, однорукий бандит тоже, спортлото ищё было… Бэспроигрышный латарея – нэ играл. Как так бэспроигрышный? Обамануть миня рэшил?! Сматри-и, пажалеэшь… Мамеда нэ проведёшь. Кито миня на мизинец обамануть хатели – давно зэмла лэжат. Мой чэсть дароже дэнэг! Ничто ни жалею, читобы обаманщик найти и башку атрэзать. Вот видишь: пилэмя-я-ник мой. У ниго в багажник бита есть, безбольная, – такой спорт армениканский. Он ею ка-ак ударяет – все сиразу правду сознаются говорить. Понял? Ну чито, и типэр будешь сказать, твой латарея бэспроигрышный?!
– Конечно, беспроигрышная. Это же американская штуковина, а у них всё по-честному. Сами попробуйте: каждый четвёртый билет выигрышный.
Система была простая. Лента лотерейных билетов – сто штук, разделённых перфорацией, чтобы удобней отрывать. Из каждых четырёх – один выигрышный. Так что, если брать четыре подряд, что-нибудь да выгорит. Выигрышных билетов двадцать пять: пятнадцать по доллару, пять по два, три пятидолларовых и по одному – десять и двадцать долларов. Итого: семьдесят долларов призового фонда. Ещё десять – распространителю, то есть мне, и остальные двадцать – прибыль владельца. И никакого обмана. «Граждане сами оплачивают и свой проигрыш, и свой выигрыш», – нравоучительно замечал, выдавая мне новую порцию билетов, «старший офис-менеджер Альберт», как было написано на пластиковой табличке, приколотой к кармашку его отглаженной голубой рубашки, туго стянутой на вороте серебристым, переливчатым, словно чешуйчатым галстуком.
Обычно десять и двадцать долларов выпадали где-то в начале или в самом конце. Янки, похоже, не отличались особой изобретательностью. При определённой доле внимания несложно уследить, сколько и каких выпало выигрышных билетов. Для выпускника математической школы и первокурсника Бауманки, пусть и завалившего сессию, – задачка элементарная. И если в ленте последние шестнадцать билетов, а десяти– и двадцатидолларовые не попадались, – можно без малейшего риска вскрывать остаток самому, у американцев ведь всё по-честному.
Жорка знал об этой моей хитрости и попросил дать выиграть Мамеду:
– Хочу задобрить его, чтобы взял меня в серьёзное дело.
Мои убытки Жорка обещался возместить. Деньги мне были нужны. Я копил на французские духи, Большой театр, ресторан и такси…
Она жила на станции метро Аэропорт, в писательском доме. Аэропортовская девочка, как называли живших в этом районе дочек советских поэтов, писателей, редакторов толстых журналов и прочих литературных деятелей.
Окна её комнаты на первом этаже выходили в уютный дворик с тенистыми клёнами и каштанами, изогнутыми лавочками и маленькой детской площадкой. Там в песочнице всегда валялись какое-нибудь забытое ведёрко, совок или формочка. И от их вида почему-то становилось тоскливо и неприютно.
У метро я покупал букет бордовых роз в жутко шуршащей прозрачной обёртке. С колотящимся сердцем пробирался дворами к её дому. Просовывал букет в открытую форточку и ждал – не отдёрнется ли занавеска…
Шансы мои, по уверениям Жорки, были нулевые.
– Сам посуди, кто ты и где она. Ну погуляла она с тобой разок для разнообразия, сходила в народ. А дальше – извини. Кадр ты бесперспективный.
– И она это прекрасно понимает. Пади, не провинциальная дура, – пуская колечки дыма, припечатывал Рома.
Но что я мог с собой поделать? Я стоял перед её окном в бессильной надежде, что сейчас откроется занавеска и выглянет она – мило припухшая ото сна, в чёрном шёлковом халатике с вышитыми золотыми драконами, наспех наброшенном на острые плечи, его полы разошлись и чуть топорщатся на груди. Она укоризненно покачает головой. Откинет со лба растрепавшиеся соломенные волосы и с нарочитым недовольством вытянет из форточки букет. И рукава халатика приспустятся, обнажив её худые гибкие руки. Она уткнётся носом в раскрытые бутоны. Глубоко вздохнёт. Изумлённо поднимет ресницы, словно только что проснулась. Привстанет на цыпочках и, по-птичьи вытянув шею, с жаром прошепчет в форточку:
– Какой же вы несносный! Но за цветы спасибо…
И задёрнет занавеску.
Лотерейная контора располагалась в полуподвальном помещении ЖЭКа. Просторная комната без окон залита голубоватым светом люминесцентных ламп. Шелестят бумаги, дребезжат настырные телефоны, открываются и закрываются бесчисленные картонные коробки. За выстроенными в два ряда старыми списанными школьными партам сидят немногословные коллеги Альберта. К ним то и дело подходят ссутулившиеся посетители, что-то принося и что-то получая взамен. Наверное, тоже лотерейные билеты, или что-нибудь в этом роде.
Выверенными мелкими движениями, как у часовщика или маникюрши, Альберт раскладывает по пачкам зелёные банкноты: один, пять, десять, двадцать долларов. Перетягивает резинкой стопку выигрышных билетов (их непременно надо было забрать после выплаты на месте призовых, чтобы потом обменять у Альберта на доллары). Голова низко склонилась над партой, и в тёмных прилизанных волосах, от макушки до покатого лба, белеет ровная дорожка пробора.
Я даю ему сто долларов залога и беру ленту билетов. Он в очередной раз занудно инструктирует меня: что должен говорить и как должен вести себя профессиональный лотерейщик, который хочет чего-то добиться в своём деле. Выдаёт сиплый громкоговоритель и бесцветным ледяным голосом отчеканивает:
– И пожалуйста, не забудьте, как на прошлой неделе, сохранить выигрышные билеты. А то останетесь без денег. Здесь не благотворительный фонд. У нас строжайшая отчётность.
II
Спать не хотелось. Я закрыл бесполезную тетрадь и убрал её в нижний ящик стола. Сквозь зарешёченное окно пробилась янтарная солнечная полоска. Она проползла по выцветшему потёртому бархату поникшего Трудового Красного Знамени и потянулась к засиженной мухами Доске почёта. С чёрно-белых фотографий, отретушированных до кукольного глянца окаменело таращились ударники и передовики производства. Кто-то подрисовал им разноцветными фломастерами рожки, усы, козлиные бородки и ослиные уши, и от этого они выглядели потерянными и беззащитными, будто разряженные детдомовцы в шутовских масках на праздничном утреннике.
Осторожно ступая по вспученному линолеуму, прибитому к полу мелкими загнутыми гвоздочками, я вышел из комнаты в полутёмный ремонтный зал с пустующими подъёмниками, эстакадой и штабелями лысых шин. Пахнуло машинным маслом, сварочной гарью и резиной.
Я наспех умылся над грязной раковиной. Обжигающая ледяная вода с шипением, перекрученной струйкой вырывалась из медного краника с разболтанным пластмассовым вентилем и раскатистым звоном оглашала безжизненный зал. Бодрый, будто и не было бессонной ночи, путанных жарких споров и бесплодного бдения над чистым листом бумаги, я шагнул во двор.
От яркого света больно глазам. Я прикладываю ладонь козырьком ко лбу и, почти задыхаясь от какого-то необъяснимого переполняющего меня восторга, глотаю сладко ранящую утреннюю свежесть.
У ворот автосервиса высится пирамидальный тополь. Его верхушка раскачивается в головокружительном небе, серебристые с изнанки листья подрагивают, словно мерцая, и робко перешёптываются на ветру. Как он попал сюда из своих южных широт? Как прижился на этом усеянном болтами и гайками дворе? Среди раскуроченных кузовов, погнутых проржавелых дисков, дырявых канистр, пробитых покрышек и грязных тряпок, которыми слесаря обтирают почерневшие, промасленные, будто неживые руки?.. Кажется, это какая-то ошибка. И сейчас всё исчезнет. Повеет влажным солёным ветром, и вдалеке откроется и грозно задышит море. И, круто забирая выше и выше, будет виться и петлять узкая улочка, залитая палящим солнцем. И мы с родителями идём по ней в поисках комнаты. В горячем воздухе разлит приторный аромат акаций и бугенвилей. Из окон тянет запахом жареной рыбы, тушёного лука, помидоров, баклажанов и варёной кукурузы. К морю спускаются отдыхающее – парами и компаниями, загорелые, в шортах, купальниках, шлёпанцах, с надувными матрасами и перекинутыми через плечо цветастыми полотенцами. Пригибаясь под тяжестью двух чемоданов, отец упрямо тянет нас вверх, от дома к дому с табличками «СДАЁТСЯ» на заборе. Мама послушно семенит за ним, оборачиваясь ко мне с немой мольбой в глазах. И я изо всех сил стараюсь не отставать, еле волоча растёртые до крови ноги в сандалиях, купленных в «Детском мире» на вырост…
В стволе тополя торчит нож. Я выдёргиваю его, отхожу на десять шагов, прицеливаюсь и бросаю. Но, как всегда, мимо.
День выдался удачный. Изрядно подгулявший сибиряк купил сразу сорок билетов – «Москва же – сорок сороков», – сунул их в карман не по сезону жаркой кожаной куртки и, пошатываясь, исчез в толпе. Следом скучающая мадам неопределённого возраста, на шпильках устрашающей высоты, в каплевидных зеркальных солнцезащитных очках и в платье с чересчур откровенным вырезом, короткими толстыми пальчиками отрывала по билетику «на женское счастье» и перламутровым ноготком стирала игровое поле, и так дошла бы до конца ленты, если бы не смурной бомж, с настойчивой галантностью облапивший её за расплывшуюся талию. Потом была компания нерешительных прыщавых юнцов с крашеной блондинкой в джинсовой варёной мини-юбке, после первого проигрыша они закурили, купили пива и, насупленные, уселись в сторонке на корточки; девица тоже присела, высоко заголив матовые гладкие ляжки, и, отхлебнув из горла, стала взасос целоваться с кудлатым парнем, нагло кося на меня мутным глазом. Застенчивый азиат, выиграв свой же доллар, крепко зажал его в смуглом, обезьяньем кулачке, и в зрачках его вспыхнул дикий безумный огонёк. Тётка, в криво надвинутой на лоб соломенной шляпе с обвислыми полями, выпаливала: «Э-эх, сынок, где наша не пропадала, давай-ка ещё билетик!». Какой-то правдолюбец, отойдя на безопасное расстояние, кричал, что это одно надувательство и он будет жаловаться, и сердито подтягивал лоснящиеся на коленках мешковатые штаны. Приплясывая и барабаня, ходили кругами блаженные кришнаиты, спелёнатые в летучие хламиды до пят, и елейными голосами уговаривали купить Бхагавадгиту. Охранники привычно грозились разбить о мою голову громкоговоритель…
К полудню билеты закончились. Я пожалел, что взял всего одну ленту, и поехал за новой партией. По пути заглянул к Жорке. Палатка была закрыта. Наверно, проспал. Я торопился и решил, что бог с ним с обедом, к вечеру зайду за Жоркой, тогда и поем.
Но и вечером в палатке никого не оказалось. Жара спала, и умиротворяюще веяло прохладой. Я устало прикрыл веки и подставил лицо слабому ласковому ветру, с довольством сунув руки в карманы, оттопыренные от выигрышных билетов и смятых долларов.
За спиной послышался царапающий шорох метлы. Дворничиха обычно принималась за уборку до закрытия рынка, тогда ей кое-что перепадало из брошенных бракованных вещей.
– Привет, тёть Клав. Не видела, Жорка был сегодня?
– Был да весь вышел…
– Ушёл что ли уже?
– За им Мамед приезжал. И этот евоный амбал нашего Жорика с разбитой мордой из палатки за шкирок выволок и в ихний месредес зашквырнул.
Ленинградский проспект стоял в пробке. Машины ревели и сигналили, почти не двигаясь с места, зажатые в могучих тисках сталинских многоэтажек. «Услуга за услугу, услуга за услугу», – повторял я, точно мантру. Об этих Жоркиных неучтённых одиннадцати порциях знали только мы трое…
Над крышами домов разливался багровый закат. Небо тихо гасло, и громады кучевых облаков покрывались лилово-фиолетовыми трупными пятнами. Я невольно ускорил шаг. Надо было ещё придумать, где переночевать.
Легко и беззаботно
– Понимаешь, я хотел бы снять комнату, чтобы жить отдельно… В общем, мне нужны деньги.
– Деньги всем нужны. И стоило штаны на лекциях просиживать? Умные люди давно делом заняты, а ты над книжками чахнешь. Ну будет, не хмурься, давай ко мне ночным продавцом, работа не пыльная, ночь через ночь – хватит и на комнату и на погулять.
У брата с друзьями было несколько торговых палаток, или попросту – ларьков, в начале девяностых эти коробочки росли по Москве как грибы. Палатка брата стояла в центре, на Новослободской. Место людное, прибыльное. Особенно ночью.
– Пить будешь? – Саня, мой напарник, знал, что не буду, но всё равно предлагал. Водка у него была своя – он приторговывал втайне от брата. Первое время косился на меня, присматривался, а когда понял, что не сдам, успокоился и предложил выпить. Он работал днём, а ночью спал в палатке на сдвинутых стульях или уходил к своей любовнице. «Баба она мягкая, ласковая, только несчастная. Муж у неё абрек какой-то, шляется по кабакам, дома не ночует, вот она и затосковала». Оставшись один, я представлял тоскующее на смятых простынях запретное тело несчастной Саниной любовницы, ловил на себе призывный взгляд её масляных глаз, дрожа склонялся к изголовью кровати и куда-то уплывал, тонул в сладком дурмане, краем уха прислушиваясь: не щёлкнет ли замок, не хлопнет ли дверь – это муж, муж… нет-нет, ничего страшного, успокойся, просто очередной покупатель барабанит в окошко. Саня возвращался усталый, с тусклым злым блеском в глазах. Пристраивался боком на стульях, выкуривал сигарету, адски мерцавшую в сумраке палатки, и засыпал. Когда он однажды не вернулся, никто его не искал – он был детдомовский. На гвозде осталась висеть его ветровка. Она так и висела, пока палатку не снесли, чтобы на её месте построить торговый центр. Брат тогда открыл магазин, быстро прогорел, развёлся и устроился к приятелю в ресторан администратором.
Но всё это было потом. А пока я поправляю ценники на полках с сигаретами, пивом, колой, жвачкой, чипсами, сникерсами, с палёной водкой и голландским спиртом Royal, и Саня посапывая спит, обняв сам себя, поджав ноги и втянув голову в плечи, словно свернувшийся клубком большой бездомный щенок.
Из палатки виднелась площадь и семенившие по ней люди. Издалека в сумерках они казались совсем маленькими, но вдруг начинали расти, и всё росли и росли, пока в окошко не просовывалась рука с шелестящими гайдаровскими тыщами. А потом снова уменьшались, уменьшались и наконец совсем исчезали. В дождливые ночи покупателей почти не было, разве что случайный прохожий забредал за сигаретами. В непроглядном небе горели электрические астры фонарей, и под ними фальшивой позолотой блестели лужи.
Сначала я думал записывать всё, что происходит, самое интересное. Это ведь и была подлинная жизнь, которую надо знать писателю. Но ничего интересного не происходило. Каждую ночь одно и то же – пиво, водка, чипсы, сигареты… Я часами просиживал над раскрытой тетрадкой. Белый лист бумаги лежал передо мной пустой заснеженной площадью, зимой в чуткой ночной тишине я научился по скрипу определять, кто идёт – мужчина или женщина и сколько шагов им осталось до палатки: самый отдалённый скрип слышался за десять шагов – если шёл мужчина, и за тринадцать – если женщина. Потом лист превращался в накрахмаленную простыню, в экран кинопроектора, ещё бог знает во что, но так и оставался чистым листом бумаги, на котором лежала моя вихрастая тень.
Около девяти вечера приезжал брат с друзьями и девочками. Они притоптывали и подёргивались под магнитолу, ревевшую из открытой машины, пили из пластиковых стаканчиков водку, хрустко закусывая чипсами, стреляли пробками от «Советского шампанского» и поливали им девочек. Девочки истошно визжали и свысока, с высоты своих дешёвеньких шпилек взирали на прохожих.
– Чего разорались, кошёлки, – по-хозяйски покрикивал Макс и хлопал их по тугим задницам, обтянутым мини-юбками. Девочки взвизгивали и строили глазки чернявому Максу, примерно вравшему своей вечно чем-то обеспокоенной матери, что они с друзьями идут в кино, в театр, на концерт, и поэтому он будет поздно, и чтобы она его не ждала. Макс самозабвенно любил женщин и мог с утра до вечера, картинно жестикулируя, разглагольствовать о прелестях блондинок и брюнеток, полненьких и худышек, молоденьких и зрелых. Он говорил, что знает о них обо всех кое-что такое, секрет один. «Вот они и вешаются на меня как кошки. Будешь правильно себя вести – расскажу». Но так и не рассказал. Когда у него обнаружили СПИД, он удавился в туалете на ручке двери.
– Засадит мне сегодня кто-нибудь, или тут не осталось ни одного грёбаного мужика?! – кричала на всю площадь пьяная Алка. Меня это не касалось, я был на работе. А друзья брата ухмылялись и отводили глаза. Один Лёва смотрел на неё открыто, с брезгливым презрением. Он уже несколько недель так на всё смотрел, потому что получил визу и собирался валить в Штаты на пмж.
– Сучье отродье, маменькины сынки, чёртовы импотенты, грязные пидо…
Не выдержав, Юра-десантура грубо толкнул её за палатку. Все сделали вид, что ничего не заметили, и продолжали пить за Лёву, его американское будущее и непременную общую встречу у статуи Свободы.
Алка вышла, пошатываясь, ластясь к широкоплечему Юре. Присмиревшая, растрёпанная, с фингалом и размазанной по губам помадой, будто она капризно скривила рот. Юра вообще был решительный и кулаки пускал в ход по первому требованию. Когда сносили палатку, он схлестнулся с рабочими. Их было четверо, кряжистые мрачные мужики. Они долго, методично, с оттягом били его ногами, пока он не затих.
Погудев у палатки, вся компания ехала веселиться в ресторан или в гостиницу, где снимали номер и продолжали поливать девочек кружевным липким шампанским. Заявлялись под утро. Хмельные, помятые. Поёживаясь от предрассветного холода, выпивали водки на посошок, делили ночную выручку, отсчитав мне, что причитается, и отправлялись по домам спать.
Они жили легко и беззаботно, и казалось, так будет всегда.
О жизни и смерти, и ещё – о любви
Всё на свете – только воспоминание о тебе. И залитая солнцем яблоня за моим окном, и бабочка-капустница над ней, и небо в прорехах цветущей кроны. И сердце робко стучится в эту безответную гулкую синь, замирая от счастья и страха, что сейчас где-то там, за облаками, похожими на изваяние битвы богов и титанов, откроется дверь и ты скажешь мне: «Здравствуй, почему так долго?»
Я хожу по комнате, смотрю в окно. Иногда мне кажется, я смотрю на мир твоими глазами – на яблоню, бабочку, небо – и слышу твой высокий взволнованный голос: «Сердце никуда не стучится, оно бьётся, бьётся как рыба об лёд и вдруг соскальзывает в полынью, замирая от счастья и страха – на миг, на мгновение, навсегда».
Я хожу по комнате и слышу твой голос: «Какая разница, о чём писать? Главное – найти такие особенные слова, прозрачные, как весенний воздух на рассвете. И тогда не придётся ничего сочинять, и можно написать простую историю о жизни и смерти, и ещё – о любви».
За окном звенят тонкие комариные струны, шмель гудит на басах, стрекочут кузнечики, а мне чудится, будто это потрескивают в печи дрова и завывает труба в деревенском доме моей двоюродной тёти, у которой я гостил на зимних каникулах.
И родные, и знакомые звали мою тётю девичьим именем Анечка. Она поздно вышла замуж и вскоре овдовела. Жила одиноко в деревне, куда переехала из Москвы после смерти мужа. «Это был человек удивительный», – так неизменно начинались её разговоры о муже, главной добродетелью которого был мягкий и добрый нрав. На все вопросы «почему ты уехала?» она отвечала: «Так надо. Видно, судьба такая».
Была у неё одна страсть – невероятные истории, которых она знала столь же невероятное количество. Перед сном я, затаив дыхание, слушал её рассказы. Она со значением предваряла их словами одного своего старинного и, по-моему, небезразличного ей знакомого: «Всё, что я могу сделать в жизни, – «рассказывать истории». Говорю я правду или нет – неважно».
Я хожу по комнате и вспоминаю, как в детстве, выйдя на крыльцо скрипучим зимним утром, не решался спуститься во двор – всё вокруг представлялось таким хрупким: кусты и деревья в морозном хрустале, заснеженное поле за скособоченным ревматичным забором, дымок над трубой соседского дома, изменчивой тропкой, убегающий ввысь… Возможно, таким же утром умерла тётя Анечка, пролежав несколько дней больная в стылом доме, не в силах подняться и затопить печь.
Как и моя тётя, ты любила невероятные истории. И чуть ли не на первом свидании объявила мне:
– Пожалуйста, никаких признаний, никаких «навеки» и «до гроба» – любовь должна быть такой не на словах, а на деле.
– Тебе, наверное, хочется, чтобы вся жизнь состояла из одних первых встреч?
– Может быть, всего из одной встречи…
Приморский городок просыпался рано. Шёпот прибоя тонул в кашле просту-
женных моторов, громыхании бидонов и праздном лепете тополей. Он вста-
вал вместе со всеми и шёл на пляж. Его отправили к бабушке на каникулы —
загорать, купаться и набираться сил. Остывший за ночь песок щекотал босые
ступни. Море большим сильным зверем шевелилось и урчало у ног. Он не бо-
ялся его, он прекрасно плавал и каждый день заплывал всё дальше. Сквозь
толщу воды виднелись заросшие водорослями камни, на глубине мелькали
рыбы, скользили медузы, но постепенно дно погружалось во тьму, становясь
всё непроницаемей и притягательней.
Как-то раз он заплыл так далеко, что дома и деревья на берегу сделались ма-
ленькими-маленькими, совсем игрушечными. И было непонятно, как жить в
этом крошечном мире. Волны, такие ласковые у берега, жадно чавкали и гру-
бо толкали его, точно злобные старшеклассники, солнечные лучи искрились
на воде и пускали в глаза предательские слепящие стрелы, страх скользил по
животу мерзкой медузой. И когда у него не осталось сил бороться с огромной
водой и тело налилось свинцом от усталости, что-то ткнулось ему в бок. Это
был дельфин. Дельфин отвёз его на берег и, вынырнув из воды, защёлкал и
пронзительно закричал на прощанье.
С тех пор по утрам дельфин приплывал к берегу. Завидев чёрный плавник, он
радостно бросался в воду. Дельфин уносил его к самому горизонту, и дома и
деревья исчезали из виду.
Но все каникулы когда-нибудь заканчиваются. И он уехал, потому что все
мальчики должны учиться в школе, должны учиться уезжать и не должны
плакать. А дельфин по-прежнему приплывал к берегу, выныривал из воды,
щёлкал и пронзительно кричал. Возможно, это был тот дельфин, что сбежал
от жестоких дрессировщиков из дельфинария, перепрыгнув ограду? Увы, это-
го никто не узнает… Однажды утром дельфина нашли мёртвым на песке. Го-
ворят, выбросился на берег, от тоски.
Бывало, я рассказывал тебе не тётины истории, слышанные в детстве, а придуманные мной, но они оставляли тебя равнодушной: «Да, всякое случается, ничего удивительного».
Такой-то город, лето такого-то года. Группа иностранных туристов. Щёлкают
фотоаппаратами, словно отстреливаясь от невидимого врага. Вот одна пара
снимается на фоне того, на фоне сего, в кадр случайно попадает прохожий —
мужчина средних лет среднего роста среднего достатка. «Кто это, кто это?»
– спрашивают потом родные-друзья-знакомые, перебирая фотографии. «Так,
прохожий». Но если приглядеться, в нём можно узнать того мальчика, кото-
рого спас дельфин. Мальчик вырос, стал мужчиной, прожил незаметную
жизнь и о том случае на море вспоминал редко, как о чём-то произошедшим с
другим человеком. Снимок пережил всех, кто был на нем запечатлён, и внуки
той пары иностранных туристов, рассматривая фотографии давно почивших
бабушки и дедушки, указывали на неизвестного мужчину и недоумевали:
«Кто это, кто это?» И некому было ответить: «Так, прохожий».
В школе у нас была преподавательница математики, слепая от рождения. Она проходила по коридору медленной тяжёлой походкой, крепко зажав под мышкой книги Брайля, на уроке быстро водила бескровными пальцами по их большим картонным страницам с выколотыми таинственными знаками и, устремив к потолку слепые белки, словно шаман, диктовала теоремы, а один из нас крошащимся мелом записывал за ней на доске формулы, похожие на скелеты людей и животных. Она узнавала нас по голосам, шагам, по дыханию: «Не вертитесь, Петров, не болтайте, оставьте косички Кузнецовой в покое». Словно видела всех насквозь. В классе поговаривали: стоит ей прикоснуться к человеку – и она узнает все его потаённые мысли.
– Учитесь видеть невидимое, молодые люди, – обращалась она к нам, драчунам и грубиянам, прогульщикам и лентяям, задавакам и сплетницам, будущим горьким пьяницам и кандидатам всевозможных наук, примерным мужьям и матерям семейств. И скелеты людей и животных на доске превращались в наскальные рисунки и оживали.
Я прикрываю веки в надежде увидеть невидимое, в бессильной надежде оживить наше прошлое, обнять тебя, сказать тебе, как прекрасна жизнь, как невыносима, как невыносимо прекрасна, нашептать тебе на ухо весенний дурманящий бред, неотличимый от лепета юной листвы, но говорю только о яблоне в моём окне, о бабочке, которая порхает над цветами, словно зовёт их улететь, и ещё о небе и облаках, похожих теперь на царственные сугробы.
Подул ветер, качнулась ветка яблони, и в воздухе закружились опавшие лепестки; стоит протянуть руку – и один из них ляжет на ладонь. Я сморю на свою протянутую руку и вспоминаю раздавленную колесом машины лягушку: она лежала на дороге, засохшая, с поднятой кверху лапкой, то ли прося о чём-то, то ли приветствуя меня из своего далека; вспоминаю слепо протянутую неизвестно к кому руку разбитой инсультом моей учительницы математики; вспоминаю виденные в пещерах Киево-Печорской Лавры мощи Ильи Муромца и его маленькую, высохшую, почти детскую ручку, сложенную в виде благославляющего двуперстия, – но вот снова качнулась ветка, и я не успеваю уловить связи, несомненной и необъяснимой связи между «тогда» и «сейчас».
Это случилось зимой. Я проводил вечера за письменным столом или за книгой. «Живёшь, как заслуженный пенсионер», – ехидничала ты. Ты стала поздно возвращаться. Я представлял, как человек средних лет среднего роста среднего достатка открывает тебе дверь машины дверь подъезда вы поднимаетесь на лифте или по лестнице шутите или молчите в предвкушении того что должно случиться что всегда случалось случается будет случаться он открывает квартиру пропускает тебя вперёд я не решаюсь пойти за вами и застыв на пороге напряжённо прислушиваюсь к тому что происходит за дверью ну чего я в конце концов боюсь что такого вы можете делать наверное слушаете музыку говорите о литературе возможно он рассказывает тебе о своей жизни он наверняка очень интересный человек и с ним происходили разные необычные вещи а не то разве стала бы ты с ним встречаться ходить в ресторан танцевать смотреть на него затуманенным взором отвечать согласием на приглашение зайти выпить чашечку чего-нибудь…
Я ни о чём тебя не спрашивал, а ты ничего не говорила. Возвращаясь поздно вечером или под утро, ты сразу шла в ванную, и лишь порой что-то похожее на жалость мерцало в твоих чужих потухших глазах, обращённых ко мне.
Моё одиночество скрашивал твой кот Ося. Он партизанил за шкафом или под столом, и стоило пройти мимо – впивался когтями в ногу, словно мстя мне за малодушие. Мы недолюбливали друг друга. Он был законченный разбойник, хищник, мускулистый хитрый негодяй. Ловил мышей и забавлялся с ними: подкидывал, позволял отползти, снова цеплял когтями и ещё долго проделывал всякие фокусы с уже не подававшей признаков жизни мышкой, точно пытаясь оживить её для новых мучений. Он подкладывал дохлых мышей к нам в постель как доказательство своей удали и довольно урчал: мол, а тебе так слабо.
На Рождество Ося заболел. Он потерял аппетит, жалобно мяукал и, прекратив партизанскую войну, тёрся о мою ногу. Мы отвезли его в ветлечебницу. Диагноз был неутешительным. Обратно ехали в насупленных декабрьских сумерках. Ты сидела, вжавшись в кресло, держа на коленях свернувшегося клубком кота. Дорога шла через лесопарк, вдоль неприступных стен сосновой рощи. Дворники отчаянно сметали снег, залеплявший ветровое стекло. Сосны стояли, вытянувшись в струнку, в бессрочном почётном карауле. Я напряжённо представлял, как машина резко уйдёт с дороги, нырнёт в сугроб, пуская фонтаны снежной пыли, и с тупым грохотом врежется в выхваченный фарами идеально ровный рыжий ствол. Ты сидела, неотрывно следя за дорогой, и твоё лицо, отражённое в ветровом стекле, уносилось в снежную муть. Машина вдруг вильнула, я едва успел выправить руль, – и мы увязли в сугробе.
– Я знаю, что ты хотел сделать… Но струсил, опять струсил.
В тот же вечер я собрал вещи и ушёл.
А через несколько дней мне позвонила твоя подруга… Ты ехала по той же дороге с человеком средних лет среднего роста среднего достатка невинно попросила можно мне за руль ты давно мечтала научиться водить но у тебя не хватало терпения посещать курсы учить правила сдавать экзамены вы ехали вдоль неприступных стен застывшей в почётном карауле сосновой рощи он смеялся над твоими неловкими движениями давал советы курил ты молча вглядывалась в взвихренную снежную муть потом словно шутя надавила на педаль газа и снежинки с остервенением забились в ветровое стекло.
Это несерьёзно
Я сижу под большим обеденным столом, сжимая подаренный дедом новенький пластмассовый револьвер. Рукоятка согрелась и словно приросла к ладони. Зажмурив левый глаз, целюсь в дырявый войлочный тапок деда. Из дырки торчит искорёженный заскорузлый ноготь скрюченного большого пальца. Дед обморозил ноги на войне, и ногти у него очень страшные, до отвращения. Палец пошевеливается – и я в испуге жму на курок. Курок щёлкает, точно комнатный выключатель, и я с яростью шлёпаю губами: «пых-пых-пых…». И успокаиваюсь, только когда палец замирает, точно мёртвый.
По праздникам стол выставлялся на середину комнаты, и бабушка покрывала его просторной накрахмаленной белой скатертью. Плотные жёсткие края её низко свешивались, и я сидел там, как в домике.
Мне бы и сейчас хотелось так же спрятаться куда-нибудь от всего и ото всех. Но как это будет выглядеть и что подумают люди?..
Гости давно разошлись, остались дед и его боевой товарищ – бывший штурман их бомбардировщика.
Этот штурман приехал ночным поездом из Ленинграда. Высокий, худощавый, «с манерами»: вручив бабушке букет красных гвоздик, шампанское «Новый Свет» и коробку конфет «Ассорти», церемонно наклонился и поцеловал ей руку. Он прихрамывал, говорил громко, с густой хрипотцой, и чуть ли не после каждой фразы к месту и не к месту вставлял: «Это несерьёзно», – и широко улыбался, обнажая прокуренные лошадиные зубы.
– Такая у него присказка. Что поделаешь, человек южный, с Крыма. Южане они все малахольные. Девчатам присказка его больно нравилась. В эскадрильи его так и звали: «старший лейтенант Этонесерьёзно».
– А он что с тех пор так и не женился?! – хлопоча на кухне, будто бы между делом любопытствовала бабушка. – Жалко, видный был парень. Дура Любка, что не дождалась. И чего он в ней нашёл? Ни рожи, ни кожи. Один гонор. Тоже мне, богема! Вот такие стервы вами мужиками и крутят.
Утром, после парада Победы по телевизору, мы с дедом собирались в Парк культуры и отдыха имени Горького. Я поднялся спозаранку. Надо было торопиться, а то пропустим самое интересное. В прошлом году мне там купили флажок и петушка на палочке.
– Какие планы, штурман? Поедешь с нами?
– Нет уж, уволь, командир. Это несерьёзно. Я же не клоун – цацками трясти.
Дед нахмурился, но ничего не ответил. Застегнул на все пуговицы выглаженную бабушкой с вечера белую рубашку, кряхтя, надел свой сильно полинявший парадный пиджак, сплошь увешанный орденами и медалями, и, позвякивая, как набитая копилка, твёрдым косолапым шагом вышел из комнаты.
День был солнечный, тёплый. Кругом полно народа, и все нарядные, приветливые, в особенности девочки – в бантах, с цветами и воздушными шариками. Будто вдруг, в одночасье, наступило нежданное лето. Но за пыльным окном электрички праздничного было мало. Бесконечно унылые голые леса, раскисшие поля, бетонные заборы фабрик и промзон.
Всю дорогу я следил, кто как смотрит на дедов наградной иконостас. В электричке разглядывали с уважением – у деда на груди поблёскивало несколько редких орденов: Александра Невского, Суворова. Были и Ленина, Красного Знамени и разные другие, и ещё – начищенные медали: за взятие всяких наших и иностранных городов. Люди многозначительно кивали, почтительно хмыкали, поздравляли, желали здоровья, один даже предлагал отметить это дело: «Давай, отец, за победу, по соточке боевых, я угощаю». А в метро, ближе к центру, мы как-то затерялись, в тесной толпе, среди таких же орденоносных ветеранов.
На площади у входа в парк кипело гулянье. Из репродукторов неслись военные песни, вальсы, марши. Ветераны при параде прохаживались поодиночке или с внуками. Застенчивая комсомолка вручила деду гвоздику. Дед, потупясь, поблагодарил и неловко чмокнул её в кокетливо подставленную пунцовую щёку.
Среди штатских выделялись выправкой офицерские мундиры. Мелькали застиранные гимнастёрки с красными и жёлтыми нашивками за ранения, орденами Славы и медалями за отвагу, как будто из фильма про войну.
Старичок, в тельняшке, чёрном бушлате и заломленной на затылок бескозырке, приникнув небритой седой щекой к аккордеону, затягивал «Варяга». Он сидел на раскладном рыбацком стульчике, отбивая такт правой ногой. Пустая штанина левой была аккуратно подвёрнута.
Над головами, на длинных палках, проплывали фанерные таблички с выведенными красной краской номерами частей и названиями фронтов – это однополчане искали своих. Повстречавшиеся боевые товарищи крепко обнимались, хлопали друг друга по спинам и утирали ладонями глаза. Дед тоже чего-то выглядывал. Но вскоре потянул меня ко входу.
Вход был точь-в-точь, как римская триумфальная арка из «Всемирной истории». Тома приобретались бабушкой по талончикам за макулатуру – «может, внукам пригодится». Перед воротами белели лотки на колёсиках: газировка, мороженое, сладкая вата. Дед, обычно по-крестьянски прижимистый, на этот раз купил мне и шипучей розовой, и эскимо, купил бы и ваты, если б мне хватило рук всё удержать. И мы пошли к летней сцене на концерт песни и пляски, а потом – к полевой кухне.
К вечеру меня разморило, и я начал задрёмывать в своём домике под столом. В ушах что-то гудело, ныло, звенело, будто у меня начался жар, и сквозь этот шум до меня едва доносились рассохшиеся старческие голоса и обрывки разговора.
– Ты в Германии после войны был?
– Зачем это?
– А я был. И видел, как там люди живут. Ты мне скажи на милость: кто войну-то выиграл? Это несерьёзно. Они себе жируют, а Митюха наш, ты же знаешь, сколько он юнкерсов да мессеров пожёг, Митюха в бараке так и помер. Последние годы к пивной таскался – подвиги свои расписывал и у пацанов на чекушку клянчил.
– Вот ты к чему. Верно говоришь. Видать, мало мы их утюжили…
Что-то звякнуло, булькнуло. Дед крякнул и стукнул стопкой по столу.
– Мало-не мало – кто сосчитает?
– Тут и считать нечего! У нас бухгалтерия простая: как аукнется, так и откликнется.
– И немку ту, с фермы, тоже не считать?!
– Ты к чему это клонишь?.. Самый совестливый?! Так отсиделся бы в сортире.
– Да я просто, к слову. Она тогда, не поверишь, Любку мне напомнила. Глаза такие же мутные, жуткие.
– Напомнила она ему.... Нечего больше об этом! Сама напросилась…
Бабушка заглянула из кухни – что-то подать или унести. Включила телевизор. Показывали программу «Время», отрывки парада. Чеканя шаг, по Красной площади проходили бравые десантники, пограничники, морские пехотинцы, проезжали танки, бронетранспортёры, катюши, и дикторша поставленным голосом говорила о беспримерном подвиге советского солдата.
– Мне один молодой связист рассказывал. Они через горную речку переправлялись. По брёвнышку над пропастью. А у него патологическая боязнь высоты. Ничего, два пальца в рот – и перебрался. Гимнастёрку потом насилу отжал, так взмок. Тоже подвиг. А то, что мы с тобой в тот раз, когда под зенитки попали, все как решето на базу вернулись и без единой царапины, так какой тут подвиг, это несерьёзно, просто судьба.
– Я тогда аж к креслу прирос. Мне механик зубы ножом расцепил – и спирту, чтоб из кабины вытащить.
– Прямо случай для стенгазеты. Меня тут тоже в школу недавно приглашали, на встречу с пионерами. Так, для патриотизму. Сам понимаешь. Я и согласился. Отцепил от пиджака планочки свои орденские. Награды понавесил. Детки сидят за партами, ручки сложили, ждут, когда старый дядька байки про войну станет травить. А мне и сказать им нечего. Летать летал, по картам, по приборам. Цели по квадратам бомбили, какие прикажут. Иной раз и промахивали, сам знаешь. И что? Может, про то как ты на одном движке, с простреленным лёгким, до полосы нас дотянул? Или как тогда на брюхо сели в снегу и два дня по лесам плутали, к своим пробирались, так что промёрзли до костей? Или что мы за четыре года в воздухе проболтались, наверно, больше, чем на земле? Это несерьёзно. Я толком и немцев-то не видел.
Не помню, как я заснул, как меня вытащили из-под стола и перенесли в кровать. И ещё многого не помню, что случилось с тех пор. Да если б и помнил, вряд ли стал бы рассказывать. Разве то, что дед мой покоится в Штатах, на каком-то забытом Богом кладбище, похожем на захудалое ранчо, а девяностолетняя, выжившая из ума бабка оканчивает дни в американском доме престарелых, ни слова не понимая по-английски: «Пусть лучше сами русский учат, союзнички». Они уехали вскоре после развала СССР, вслед за дочерью, моей тёткой, пожить как люди на старости лет.
Наутро штурмана уже не было. Я не запомнил ни его фамилии, ни имени-отчества, ни звания… лишь грустную рассеянную улыбку: «Это несерьёзно».
Дамба
Славный сегодня выдался день. Славный.
Под утро снился мне сон. Будто плывёт по озеру лодка. Заунывно поскрипывают уключины. На вёслах – два старца. Седовласые, с согбенными спинами, как на иконе видел, – Зосима и Савватий, основатели Соловецкого монастыря. На воде – опавшие листья. Но будто не листья это, а старые фотографии из местного музея. Пожухлые, пожелтевшие – фас, профиль. Листья-лица покачиваются на волнах, цепляются за вёсла.
Я ещё во сне подумал: может, кто-то из них, пожелтевших, пожухлых, томился в этом бараке, перестроенном под жилой дом? Может, прямо тут, на моём месте, лежал на нарах, смотрел на то же сентябрьское солнце, что по утрам устало освещает комнату, и представлял, как там, в неведомом далёком богзнаетгде, каждому будет сиять его солнце? Шептал: мама, мамочка, или Господи, помилуй. Или матерился. Или каменно молчал, уткнувшись взглядом в одну точку. Или, стиснув зубы, стонал от голода, холода, боли, усталости, унижения – мало ли от чего может стонать лагерник в разыгравшемся воображении благополучного человека.
Со мной, слава богу, ничего подобного случиться не может. Это я тоже во сне подумал. Я, человек из разряда щелкопёрствующих, подвид бумагомарателей, отряд безвестных обитателей газетных и журнальных полос, решил развеяться и уехал на Соловки.
Но почему именно на Соловки? – спросит зануда-читатель, житель однокомнатной квартиры, обладатель грошовой пенсии, запертой в рассохшемся серванте, один из тех горемык, что присылают свои сиротские письма в редакцию. Чтобы узнать ответ, ему придётся оживить увядшие мечты воскресить в памяти имя лицо голос той единственной и неповторимой ради которой с которой о которой навсегда никогда и отложив газету закрыв журнал захлопнув книгу затушив сигарету сбросив груз прожитых лет выбежать на улицу сесть в автобустроллейбустрамвай сойти на станции отыскать дом подъезд взбежать по лестнице на этаж остановиться у дверей квартиры с замирающим сердцем нажать кнопку звонка и переступив порог выйти в открытый космос и в безвоздушном пространстве в неведомом далёком богзнаетгде услышать: «На Соловках как-то по-особому дышится, я там многое поняла».
И я уехал, чтобы многое понять, забыть, запомнить навсегда.
Пора было просыпаться. Снова пережить чудо и ужас рождения. Умыться, выйти на крыльцо, сказать «доброе утро» хозяину дома-барака Володе. И он, чиня снасти на ступеньках, словно о самом сокровенном, спросит: «Как спалось?» И тут же, не дожидаясь ответа, опережая, предупреждая его, передавая мне его на вечное хранение: «На рыбалку поедем? Я такие места знаю!». И начнёт – про места, про рыбу, а закончит тем, как приехал сюда по работе и встретил её, оставил в Архангельске жену, детей, друзей… И пока он будет перечислять, что оставил, я пробую представить ту, ради которой он – машину, квартиру…
– Вот она сейчас на материк уехала рожать. А врач сказал, рожать нельзя, что-то у неё не так. Сам понимаешь, устройство у них там заковыристое. Так она упёрлась – умру, но рожу, а ты, говорит, сиди здесь и жди и приезжать не смей.
Всё, что мне удаётся представить, – это живот, огромный, как валун в кладке монастырской стены. Его можно потрогать, приложить к нему ухо, и голос чревовещателя-экскурсовода поведает историю о любви двух заключённых. О тайных свиданиях, на которые они приносили друг другу свои спрятанные за обедом хлебные пайки. О том, как лагерное начальство узнало об их встречах, и её сослали на Заяцкий остров, где раньше жили паломницы, а после был лагерный бордель, его же перевели на Секирную гору, откуда мало кто возвращался.
Несколько дней назад я отправился на Секирную. Казалось, конца-края не будет дороге, бежавшей вдоль плотных стен елового леса с распахнутыми окнами лугов и озёр. Я жевал травинку, о чём-то размышлял. Всегда о чём-нибудь размышляешь, когда долго идёшь и дороге не видно конца. Мысли появляются сами собой и исчезают: дорожная пыль, придорожная трава, сломанная ветка, камень, коряга – всё говорит с тобой, заглядывает в глаза, спешит породниться, и самый чахлый кустик знает ответы на все вопросы, и сам он и есть ответ. И хочется навсегда запомнить этот куст и чтобы он помнил тебя.
Горы всё нет и нет. И стоило тащиться? Наверняка, гора как гора. Даром что у её подножия ангелы высекли жену рыбака, непременно желавшую здесь поселиться с подкаблучником мужем: «Изыдите из места сего, где вам недостойно быть, устроится тут жилище иноческому чину и соберётся множество монахов во Имя Божие». А когда собрались во множестве вертухаи и гогоча сбрасывали с каменистого обрыва привязанных к брёвнам зэков, ни один ангел не вступился. И то понятно: одно дело жена, другое – вертухаи, с ними шутки плохи. Теперь собирается турист, щёлкает фотоаппаратом – целсь, пли – и понимающе кивает в тон экскурсоводу, рассказывающему заученные истории о том, что было когда-то плотью и кровью, а стало землёй и глиной.
Дороги не видно конца. Не повернуть ли обратно? И будто в ответ – навстречу монах. Мы поравнялись. Его молодое лицо, заросшее бородой, что лесное озеро осокой, было окутано тучей комаров, которых он отгонял одними ресницами.
– Далеко ли до Секирной?
– Неблизко, полпути будет.
И заметив моё разочарование, твёрдо добавил:
– Раз Господь сподобил – надо идти.
Поставь его голого «на комары», он вот так же смиренно, одними ресницами… «надо терпеть, раз Господь сподобил». И от этого «сподобил» повеяло сыростью осенней чащи, казематным холодом погреба. Сподобил ли меня на что-нибудь Господь? Или я по собственной воле, по воле случая, по воле волн и ветра слушаю чужие истории, забывая и вспоминая свою – до мельчайших, мучительных подробностей?
Мы познакомились на выставке. Я записывал в блокнот имя художника, название картины, год, холст, масло. Она стояла рядом. И в её внимательных влажных, словно полных слезами, глазах можно было прочесть, что она не понимает, зачем люди ходят на выставках с блокнотами и записывают в них имя художника, название картины, год, холст, масло.
– Это по работе, – поспешил я оправдаться. – Для заметки, чтоб умнели детки.
После мне не раз приходилось перед ней оправдываться, так хочется просить прощения у сломанной ветки, сорванного листа, примятого цветка.
Мы бродили по городу, сидели в кафе, ходили на выставки, в кино – театра она не любила: «Всё там чересчур и понарошку». Вечерами у неё дома за большим старорежимным столом пили чай с разговорами о её больнице, о детях, которым она помогала появиться на свет, с разговорами о разговорах, с бабушкиным вареньем, маминым пирогом и папиным строгим взглядом. И всё шло к тому, к чему всё обычно идёт, и в то же время ни к чему не шло. Между нами словно стояло что-то непреодолимое, какие-то тени, грустные и весёлые: одни, преклоняя колено, клялись в вечной любви, и от их слов веяло сыростью осенней чащи, другие подмигивали проходящим девушкам, шутили и каламбурили: «соловецкий – осоловевший». Спроси меня тогда: ну чё ты всё шутишь, шутила с Нижнего Тагила? Я и не нашёлся бы, что ответить. Может, чтобы не разрыдаться?
Сколько бы так тянулось – не знаю. Но однажды, вдруг, внезапно, в одночасье: я уезжаю в Америку, предложили работу в клинике, я давно подала документы, собиралась сказать, но не хотела расстраивать, а сегодня получила ответ…
Перед её отъездом мы пошли в Третьяковку – попрощаться с картинами, как она говорила. Она долго бродила по залам древнерусского искусства.
– Смотришь на икону – и будто кто-то зовёт тебя, кто-то далёкий зовёт тебя из своего далека.
– Это ни к нему ли ты летишь в Америку?
– Нет, скорее от него.
Холодок у меня под ложечкой. Её тёплые губы на моей щеке.
– Ты вернёшься?
– Не знаю.
Забыть, запомнить, навсегда, никогда. Какие огромные слова, точно валуны в кладке монастыря, и какие маленькие жизни испуганными детьми прячутся за ними!
На валуне у восточной башни сидит осоловевший от пива турист в майке «Реал Мадрид». Солнце играет на болотном стекле бутылки. Я читал: на этом месте были расстреляны и зарыты двадцать или двести, точно не помню, белых офицеров. Был вечер, было утро или была ночь. Жарко, холодно, промозгло. Поскрипывал снег, клонилась мокрая от росы трава, листва ворожила сухими губами. Они молчали, говорили вполголоса, шептали молитвы, проклятия, имена любимых. Поёживались от стылого ветра, кутались в истёртые шинели, шли нараспашку. Щурились от солнца, смотрели на звёзды, на вертухаев, в дула винтовок. Бойцы ОГПУ в гимнастёрках на все пуговицы подталкивали их прикладами, давали пинка, прикрикивали: «пшёл-пшёл». Двадцать или двести под одним валуном, на котором сидит турист-футболист, осоловевший от жары, пива, экскурсий, женатой, холостой, трудовой, праздной жизни. Двадцать или двести, не помню. Солнечный луч играет на стекле бутылки. Соловецкий – осоловевший.
Славный сегодня выдался день. Дорога после вчерашнего ливня просохла, и по небу подгоняемые тёплым ветром плыли редкие худые облака, не нагулявшие дождя. Я шёл на Муксалму – остров, который соединяется с Большим Соловецким километровой морской дамбой, возведённой монахами и пышно названной «Каменный мост». На строительство ушло столько-то валунов, было задействовано столько-то человек. Вы можете заказать автобус, услуги экскурсовода стоят столько-то. На дамбе открывается такая панорама, такой вид, открывается такое, что вы не пожалеете. Вы ни о чём не пожалеете!
Я шёл, подмечая всякие мелочи, из которых не сделать ни статьи, ни заметки, ни рецензии, разве что подобрать сухую ветку и написать о них на дорожном песке.
Вот белка, приметив меня, молнией пронеслась по стволу, нырнула в еловую темь. Должно быть, так же при окрике охранника сердце отставшего от колонны зэка судорожными скачками рвалось в густой ельник, в бездонные озёра синего неба, сиявшие в лесных прогалинах, в кромешный мрак небытия.
Ветер пробежал по верхушкам деревьев – и листья заговорили разом на всех языках. В тревожном шелесте – жалоба, ропот, молитва.
Солнце пробилось сквозь ветви. Протянуло соломинку. За неё ли хватались те, кого ставили «на комары», «к стенке», или она только мучительно щекотала уставшее биться сердце?
Дорога была пустынна. Мы говорим «пустынна», подразумевая отсутствие человека. Как будто деревья, их богатырские тени, белки, скачущие по деревьям, и тени белок, слитые с тенями деревьев, не в счёт. И всё-таки дорога была пустынна, пока из-за поворота не появилась парочка туристов – он и она. Шли не спеша. Он то и дело брал её за руку или под руку, а она всякий раз высвобождалась под предлогом достать что-нибудь из кармана, указать на то или это, поправить волосы, густые каштановые волны, в которых, наверно, многим хотелось утонуть, блаженно погружаясь в далёкое неведомое богзнаетгде. Хотелось утонуть и мне, но в других каштановых волосах…
Тени, очерченные солнечным лучом, скользят по песку, сливаясь с тенями деревьев. Его тёмный спортивный костюм, её белая курточка и джинсы. Он что-то говорит, берёт её под руку – и так они напоминают накренившийся парусник. Эй, кто там стоит у штурвала в фейерверке брызг и ведёт корабль в открытое море, навстречу всем ветрам, неведомым землям, навстречу крушению всех надежд?
Белая курточка, спортивный костюм – я узнал их, мы встречались в кафе, тоже перестроенном из барака.
Не было мест, и они подсели ко мне за столик.
– Помнишь, я тебе рассказывал о начальнике лагеря?
– Прости, милый, что ты сказал?
– Я говорю, помнишь, я рассказывал о начальнике лагеря, который потом сам здесь сидел?
– Помню, и что? Ешь суп, а то остынет.
– Так вот я узнал, что на острове живёт его сын. Интересно, не кажется ли ему остров тюрьмой? Этакая наследственная мания.
– У тебя ко всем людям исключительно профессиональный интерес?
– Ко всем включая тебя, мой единственный и неповторимый пациент.
– А есть у него семья, дети? Как вы полагаете, – обратилась она ко мне, – рассказал он детям, кем был их дедушка?
В тот раз я отшутился.
А теперь – свернул в лес, к озеру.
На мелководье у берега стояла рыба, словно карауля меня, мои вспоминая, мельчайшие, мучительные подробности… Летний вечер. Притихшая детская площадка. Мы сидим на качелях. У меня в горсти подрагивает огонёк сигареты. Ты рассказываешь о своей первой любви. Ничего особенного: студент и студентка, встречи в осеннем парке, старушечье ворчанье листвы, огненная дрожь от случайного прикосновения. Первые цветы, первый поцелуй, первые торопливые свидания пока родителей нет дома, нетерпеливые жадные объятия, первая задержка, полный стыда и отчаянья визит к гинекологу, навсегда, никогда – так, ничего особенного, просто сквозь ограду парка заплаканной девочкой смотрит судьба.
Была и у меня первая любовь. Она ведь есть у каждого, как родина. Нам было пять годков, как говорила её бабушка, у которой моя, утверждавшая, что нам пять лет, снимала в большом деревенском доме комнату на лето. Мы бегали наперегонки, играли в прятки и салочки, ели упавшие в траву маленькие зелёные яблоки, от которых щипало язык, топили в варенье злющих лупоглазых ос, искали яйца в птичьих гнёздах, собирали в спичечные коробки жуков, вслушиваясь в шорохи, доносившиеся из их камер-одиночек, и подолгу сидели на старом отполированном до блеска бревне перед расцветшим кустом жасмина.
Я не помню её имени, лица, голоса – только волосы, густые каштановые волны, в которых хотелось утонуть. «Дети не ходите одни на речку, не влезайте в воду, а то утонете». И до сих пор мне хочется утонуть в этих каштановых волосах.
По туго натянутому стеблю травы ползёт жучок. Мы следим за ним, и так радостно на душе. Осторожно беру его двумя пальцами. Он смешно перебирает в воздухе лапками, всё торопится по своим жучиным делам.
– Какой славненький! Давай посадим его в коробок.
И вдруг – зачем, почему? – нажал посильнее, и что-то липкое испачкало пальцы, лапки скрючились, застыли, и слёзы потекли из-под каштановой чёлки, щекотавшей мне щёку. Я бросил мёртвого жука в траву – бабушка, моя или её, звала пить чай.
В конце августа мы с бабушкой уехали, а они с бабушкой остались. И были потом другие, только другие потом и были…
Рыба плеснула под сердцем, ушла на глубину.
Лес медленно расступался, открывая бугристое недоброе море, по которому, извиваясь левиафаном, тянулась каменная гряда.
До революции на Муксалме была монастырская ферма, лучшая на всём Беломорье, затем лагерный сельхоз, во время войны – аэродром и тренировочная база соловецких юнг, сегодня на поросших бурьяном берегах пасутся редкие туристы, – так могла бы начинаться статья об этом острове. Начинаться или заканчиваться. Статья или заметка. Орёл или решка. Чёт или нечет. Любит-не любит. Белая курточка – спортивный костюм.
Они шли мне навстречу. Мы раскланялись. Она держала в руках полиэтиленовый пакетик с шоколадными конфетами.
– Угощайтесь.
Я покосился на спортивный костюм – он нарочито смотрел в сторону.
– Нет-нет, спасибо.
Она пожала плечом.
– А мы гуляем…
– Здесь вы не найдёте ничего интересного. Я говорил тебе, Наташа, что мы зря сюда идём.
Я погулял по острову, поросшему высокой травой, измученной собственной бесполезной силой. Повсюду торчали разрушенные временем загоны для скота и бараки. Над ними проплывали облака в своих белых курточках. Ничего интересного. Но я погулял. Недолго, а погулял. Ведь идти к цели – одно, а, дойдя, погулять – совсем другое. И неважно, что за цель. Идти и гулять – совсем не одно и то же. И не понимать этого может только отпетый болван.
Обратно я шёл быстро, очень быстро. На утоптанном песке дамбы виднелись свежие следы от кроссовок – большие и поменьше. Они то сближались друг с другом, то отдалялись. Что-то блеснуло на дороге – конфета, шоколадная конфета. Она выронила её. Случайно или нарочно? Волны бились о дамбу, стучались в сердце, шумели в крови…
Конфету я съел, а фантик сунул в карман. Он и сейчас там лежит, шурша по-осеннему, когда я по привычке проверяю на месте ли сигареты, хотя давно бросил курить.
Теория взрыва
Его отчество я узнал на похоронах.
Могильщики, пыхтя и отдуваясь, опустили гроб в прямоугольную яму. Обитый кумачом, окантованный чёрными складчатыми рюшами, он угрожающе покачивался на перетёртых верёвках и, накреняясь, скрежетал бортами о неровные осыпающиеся стенки. В напряжённой тишине раздавались одинокие захлёбывающиеся женские рыдания.
– Родные и близкие, бросьте по три горсти земли, – нарушил тягостное молчание один из могильщиков, высокий сутулый здоровяк с опухшей мордой. Он, видно, был у них за старшего.
Комья рыжей сырой глины глухо застучали о крышку гроба. Могильщики, энергично орудуя лопатами, закидали яму, насыпали невысокий холм, положили на него венки с траурными лентами – «от любящего сына», «от любящей жены» – и воткнули железную табличку с позолоченными буквами, на ней-то я и прочёл его отчество: Осипов Евгений Ильич. А при жизни всё дядя Женя да дядя Женя…
Старший могильщик вырос за спиной Игоря и гнусаво забасил:
– Могилку, слава те Господи, справили ладную. Место сухое, и берёзка рядом. Так что отцу лежать будет покойно, вольготно.
Игорь, поддерживая мать, мелко беззвучно вздрагивающую всем своим жалким обмякшим телом, повернул голову и посмотрел на него полными слёз непонимающими глазами.
– Ну это, в общем, надо бы, как положено, помянуть…
К ним быстро подошла жена Игоря, острые каблуки её замшевых сапог проваливались в мягкую землю, будто она прихрамывала или пританцовывала. Она протянула старшему деньги:
– Достаточно?
– Спасибо, хозяйка. Светлая память.
Игорь был моим близким другом. Так же как и я, очутился в математической школе совершенно случайно, по фантазии родителей, что их чадо должно прочно стоять на ногах, а точные науки – это всегда надёжный кусок хлеба. Он прилично рисовал и мечтал стать художником. Дядя Женя, скрепя сердце, терпел его увлечение, но выбора «подобного жизненного пути» не одобрял: «Художества ваши – это всё миражи, иллюзорность, неразумная трата бесценного времени. Мужчина обязан заниматься реальным делом – преобразовывать мир». Мы давно не виделись. Я поступил в Москве в Бауманский, потом бросил, уехал… Игорь разыскал меня через моего брата.
С кладбища возвращались по центральной аллее. Тётю Олю, маму Игоря, вели под руки две какие-то родственницы в серых пальто и чёрных платках, похожие на учёных ворон. Под ногами хрипло шуршали опавшие листья. Полуденное солнце широкими полосами пробивалось сквозь облетающие кроны вековых лип, и по земле тянулись их бесконечно длинные раскидистые скорбные тени. В стылом воздухе пахло осенней прелью. Влево от аллеи убегала неприметная тропинка, где-то там, в конце её, была могила моего отца.
У выхода нас дожидался старенький тряский автобус. Он ворчливо тарахтел и угрожающе ревел и дымил на поворотах. В салоне пахло бензином и табаком, пожилой плотный водитель курил одну за одной. В морге водитель суетливо помогал с выносом и навязчивой скороговоркой давал практические советы – кому, за что и сколько, заученно твердя, что сам недавно жену схоронил.
Обратно ехали, несмело переговариваясь, сначала полушёпотом, затем всё громче, почти в полный голос. На задней площадке, где недавно стоял гроб, валялось несколько стрельчатых лепестков белой хризантемы. Туда старались не смотреть.
Дома у Игоря почти ничего не изменилось. Советская мебель, выцветшие пожелтевшие обои в ромбик, стеллажи с книгами. Только зеркала были занавешены чёрным тюлем и пахло лекарствами. Родственницы сделали тёте Оле успокоительный укол и уложили на диван в бывшей комнате Игоря, он несколько лет назад переехал к жене, в просторную квартиру в новом микрорайоне.
Поминальный стол был накрыт. Празднично белела накрахмаленная скатерть и лучисто искрились хрустальные бокалы. Я сел рядом с Игорем и его женой. Напротив – двое товарищей дяди Жени. Один лысеющий, с морщинистым испитым лицом и живым хитроватым взглядом, и второй, с густой седой шевелюрой и неряшливой бородой. Родственницы, оказавшиеся сёстрами тёти Оли, суетились по хозяйству.
Принесли кутью и блины. Выпили за упокой. Зазвенели тарелки, вилки, ножи. Все проголодались и ели с аппетитом.
1
День защитника Отечества – отмечается 23 февраля. Праздник был установлен в СССР в 1922 г. как День Красной армии и Флота. С 1949 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». Затем трижды переименовывался. Последний раз – в 2006 г.