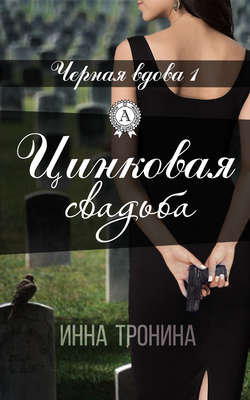Читать книгу Цинковая свадьба - Инна Тронина - Страница 1
Оглавление«Цинковая» свадьба празднуется спустя 6,5 лет после бракосочетания. Дарят друг другу цинковую утварь.
«Медная» свадьба – через семь лет. Супруги обмениваются медными монетами как залогом долгого счастья.
Я бросаю на еловые лапы медный пятак, которым уже не расплачиваются, и монетка теряется среди белых бутонов и черных лент. Бросаю и жду, когда ты кинешь мне такую же монетку. Жду, ибо ты должен это сделать. Сегодня, четвертого апреля девяносто четвертого года, в понедельник, день нашей «медной» свадьбы. Полгода назад, в такой тяжелый день, мы так и не успели справить «цинковую», хоть я и припасла ведро – звонкое, липкое, блестящее. Ты купил новенький, но давно уже вышедший из моды тазик для стирки. Устаревший, как и пятачок, он провалился вниз, в царство теней, в бесконечность.
Друзья тебя не забывают, как я вижу. Каждый день нахожу здесь венки, букеты, корзины с белыми гвоздиками и хризантемами. Гвоздики ты почему-то любил больше остальных цветов, любил почти всю жизнь. И только в последний день, когда мы с тобой и детьми убегали из дома, еще на что-то надеясь, забыв о своих цинковых подарках, оставшихся в кладовке, ты сказал мне страшные слова. Я натягивала на сына ползунки, но все равно вздрогнула и оторопела.
– Дарья, если со мной что-то сейчас случится, носи на кладбище только красные розы. Тогда я буду знать, что ты не забыла меня…
Я даже не имела времени на то, чтобы возмутиться из-за этих жестоких слов, потому что рядом топталась дочка, зараженная паникой, витающим в воздухе запахом дыма и погребальной хвои. Шестилетняя малышка плакала, хватала меня за полы плаща. Я же, изнемогая от тяжкой, совсем не осенней жары, плечом откинула волосы со лба и попыталась усмехнуться.
– Мне всегда казалось, что ты веришь в нашу любовь и без алых роз. Что-то тебя в последнее время на красное потянуло. Коммунистом решил стать, миллионер?
Ты взял на руки нашего сына и пожал плечами:
– Может быть. Не понимаю, что со мной… Нет, я уже сошел с ума… Я действительно стал другим. Не могу больше жить, как прежде. Я не с ними, Дарья, не с этими уродами. Я хочу уйти, понимаешь?
– Понимаю. Только кто же тебе даст уйти, Андрей?
Я задыхалась, почему-то отчаянно спешила, ради детей старалась успеть.
– Ты только не говори о кладбище. Погоди, вдруг пронесет?..
– Но в любом случае красный – цвет любви!
Ты произнес эту фразу не просто утвердительно, а настырно, как будто сомневался и хотел себя убедить. Я, засовывая дочкины руки в рукава ангорской кофточки яичного цвета, торопливо взглянула на вас с сыном. Ты держал младенца на руках, а он чесал колечком свои восемь зубиков. Ты торопил меня взглядом и мыслями, не говоря больше ни слова.
Я очень страдала тогда, потому что при всем желании не могла двигаться быстрее. Казалось, что даже мозг истекает едким потом. Глаза щипало, и мысли умирали, не успев родиться. Я хотела спросить, есть ли у тебя веские причины для беспокойства, или ты руководствуешься одними предположениями. Но язык не слушался меня, губы склеились. Я отвернулась, собирая в дорогу дочку, а ты держал на руках сына… Лучше бы не держал! Лучше бы и сам не ступал за порог, за бронированную дверь нашей квартиры в Кунцево; те замки не открыл бы киллер, их не поколебал бы даже выстрел из помпового ружья. В нашей квартире я не была ровно полгода. Нет сил видеть те стены, окна, вещи, вспоминать тебя и сына. Будь мы за дверью, наверное, спаслись бы, позвонили твоим охранникам. А так ты, безжалостно разделив между нами наших детей, взял свою долю и ушел с ней…
Теперь наш сынок, которому сейчас было бы один год четыре месяца и двадцать дней, лежит рядом с тобой под остро пахнущей хвоей, под венками и букетами, под плитой из зелено-синеватого лабрадора, на которой золотом выбиты ваши имена. Потом я поставлю вам памятник; такого не будет ни у кого во всем мире. Потерпи немного, Андрей, ведь года еще не прошло. Только не думай, что я тебя забыла. Пожалуйста, не думай так!
Если бы ты знал, как хочется мне сейчас разбросать эту гору венков и ветвей, руками разрыть землю, потому что я мучительно, до слез, хочу видеть сына. Мне так жалко, так не хватает его! Он единственный по-настоящему ни в чем не виноват. Ему не довелось прожить даже года, Андрей, а тебе все-таки было уже почти тридцать два. Ты свою судьбу выбрал сам, а наш мальчик навсегда останется трогательной и невинной жертвой отвратительных разборок взрослых крутых мужиков. Андрей, мне кажется, что сын не пошел бы с тобой тогда, потому что еще не жил. Не видел, как осень сменяется зимой, не катался на санках, не кидал снежки, не грыз сосульки, не пускал по мутным весенним ручьям бумажные кораблики. Он не видел ни неба, ни солнца, ни звезд. А ты все-таки прожил свои неполные тридцать два года. Ты намного богаче и счастливее его, Андрей…
Я заливаюсь горькими слезами. Щеки, шея, воротник мокрые, и пальцы в горячей соленой влаге. Мои губы, перекосившись, дрожат, и в зеркале я вижу страшную гримасу безумия. Закрываясь руками от самой себя, я против воли шепчу слова песни группы «Квартал». Эту песню я пою каждый вечер нашему сыну, как колыбельную: «Падать не надо, не надо…Плакать… не надо… не надо…»
Ты песню не знаешь, я ее услышала уже после нашего расставания. «Птичка, кыш… Киска, брысь… Научись ходить, мой малыш…» или как-то иначе. По ночам мне чудится, что звездная колыбель нашего мальчика качается высоко-высоко, между Землей и небом. И ему там хорошо, спокойно, тепло. «Раз шажок, два шажок, жёлтый лист упал на песок… День пройдёт, год пройдёт, жёлтый лист к ногам упадёт…»
Мы хотели показать ребенку весь мир, а не успели ни разу окунуть его в Черное море, в Москву-реку. Он лишь два раза побарахтался в закрытом элитном бассейне. Я помню, как ты, забавляясь и подшучивая, надевал на головку мальчика надувную малиновую шапочку. Надо отогнать это сладкое и страшное видение, иначе я умру, не выдержав адской душевной боли.
Свернувшись ночью в дрожащий клубок страдающей плоти, я воображаю, как наш сын мчится по лесной тропинке на велосипеде. Поначалу он падает, царапает локти и коленки о выступающие из земли корни. Я мажу ссадины йодом, дую на них и успокаиваю: «Ничего, заживет, а в жизни без шишек не обойдешься…» Я сейчас согласилась бы на все. Пусть у нас с сыном не сложились бы отношения, пусть он вырос бы хулиганом и пьяницей, привел омерзительную невестку, но все-таки жил бы, рос.
Ты знаешь, я до сих пор покупаю мальчишеские вещички – трусики, маечки, бейсболки. Выпросила у своей соседки по палате рогатку, грязные бутылочные стеклышки, мотки проволоки, стреляные гильзы, какие-то винтики, гайки, спичечные коробки и мятые пачки из-под американских сигарет. У нее два сына, и она с удовольствием отдала мне все то, что в разное время обнаружила в их карманах и отобрала, награждая детей подзатыльниками. Другая психически больная пациентка подарила мне брызгалку своего внука, сделанную из пластикового флакона, в котором раньше был шампунь. Обе они удивлялись, недоумевали, зачем мне все это потребовалось. А я была такая счастливая, гладила вещички, улыбалась. Я не пожалела бы денег на то, чтобы купить все это у них, а не то что взять даром.
Я раскладываю почти каждый день эти вещички на своих коленях, на больничной койке, на столе и стульях, на сидении в машине. Раскладываю и думаю: это принадлежит моему сыну. Он вырос, убежал на улицу. Скоро, к ужину, вернется. Это – его богатство. Я ни за что не стану ругать ребенка из-за каких-то там железок под подушкой, из-за синяка под глазом. Дуры бабы, у них живые дети, а они смеют бранить их, даже бить…
Нет, я все не то говорю. Но я сумасшедшая, мне можно. Ты хочешь возразить? Не возражай. Прости меня, пожалей. Ты – мужик. Ты – сильный. А я – эгоистка. Мол, лежи здесь один, тоскуй, а дети пусть радуют только меня. Ты оставил мне дочку, а я не виделась с ней уже две недели. С тех пор, как меня опять положили в больницу, а потом выпустили под расписку моей мамы. Дочка живет у нее и сейчас меня ждет. Но я должна еще побыть здесь, с вами…
Ты за что-то сердишься на меня, я знаю. Может быть, из-за дочери. Ты считаешь, что я слишком мало уделяю ей внимания, совершенно не занимаюсь ее воспитанием. Но для чего ребенку такая мать – постаревшая, истощенная, вся в черном; с жуткими глазами, ввалившимися глубоко под лоб? Кажется, после твоей гибели меня кололи сульфазином. По крайней мере, температура поднялась до сорока градусов, и страшно болели мышцы. Я металась в беспамятстве, но твой образ не исчезал. Ты все время был со мной.
А наша дочка Эрика помнит меня красивой. Перед тем, как мне опять пришлось лечь в клинику, она упросила меня покрасить волосы «Веллой». Эрика очень переживает, хочет сделать меня той, прежней. И не знает, что уже на второй день после вашей гибели я уже пробовала покончить с собой. Выпила гору снотворного, но, черт побери, не умерла! Милый, ты меня прости! Ты думал, что я сильнее. Но теперь я безумна, медицина это подтвердит. И мне ничего не стыдно. Вот сейчас я стою и жду, что ты бросишь мне медную монетку. Откуда бросишь? С неба? Из-под земли? Или из пустоты? Ты ведь где-то существуешь, я знаю! Где ты, Андрей? Я так хочу верить в то, что ты не пропал навечно, и мы когда-нибудь встретимся…
Ты боялся, что я разлюблю тебя. А я хожу к тебе почти каждый день, и специально для тебя выкрасила волосы в тон «красное дерево». Три дня назад, первого апреля, мне исполнилось тридцать лет. Поздравь меня, Андрей! Телеграммой, по телефону, по электронной почте… или просто словами. Шепни мне их, и я обязательно услышу. Меня никто не поздравил, кроме мамы и Эрики. А ты, наверное, помнишь, сколько желающих было засвидетельствовать мне свое почтение. Между прочим, Татьяна Леонидовна, твоя мать, меня тихо ненавидит, хоть и пытается скрыть свои чувства под маской скорбного равнодушия. Считает, наверное, что я тебя не сохранила, а, может быть, на что-то и подбила. Неужели она так плохо знает своего сына, что думает, будто какая-то там баба против твоей воли может спровоцировать тебя или уберечь? Да никогда в жизни! Я ведь и полюбила тебя за то, что не могла представить под своим каблучком.
Ты-то меня знаешь еще ту – энергичную, деловую, быструю, хваткую. А теперь я все время то пьяная, то наколотая транквилизаторами. Андрей, никто, даже ты, не может лишить меня права принимать наркоз, когда боль доводит до крика, до обморока. Я просто хочу жить, жить ради дочери, и потому каждое утро возвращаюсь из забытья, из-за черты, которая полгода назад рассекла мою жизнь на две части – светлую и темную.