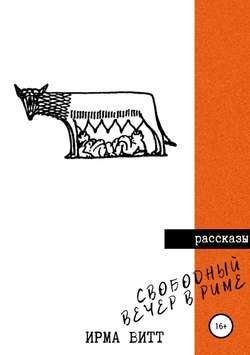Читать книгу Свободный вечер в Риме - Ирма Витт - Страница 1
ОглавлениеКатька
Несмотря на огромное количество итальянских друзей и знакомых, своим он здесь так и не стал. Таково было внутренне ощущение. И дело даже не в том, что обладая идеальным музыкальным слухом и способностью к языкам он все-таки сохранил еле уловимый акцент чужестранца, дело скорее в том, что вся его прошлая жизнь в Питере не могла не наложить определенный или, вернее, неопределенный отпечаток на лицо – своеобразный оттиск, ледяной отблеск льдин зимней Невы во взгляде серых глаз. Льдин, не тающих даже в самый жаркий калабрийский полдень. Через пару дней настанет очередной день рождения. Уже забронирован зал в старинной траттории с прекрасным патио и морской панорамой. Приглашено 35 человек, почти все местные, итальянцы, но главное – он все-таки решился и отправил приглашение Катьке… И сейчас, потянувшись в кровати, он был счастлив, он был абсолютно влюблен в это майское утро. Ах, эти неспешные, наполненные кофейным ароматом утренние часы в маленьком приморском городке: блики солнца на терракотовой плитке террасы, скрип подъездной двери и нежный звонок уезжающего почтового велосипеда, значит, пришло время спуститься вниз за свежей прессой, пока гейзерная кофеварка с тихим ворчанием греется на конфорке, и заодно прямо в пижаме свернуть за угол и купить теплые круассаны с заварным кремом внутри. Он никогда не ел сладостей в Питере, здесь же пристрастился ко всему богатейшему ассортименту dolce, к этим, возможно, даже избыточно сладким пирожным – глюкоза бежит по сосудам, и сердце стучит быстро и глухо, как сквозь толщу сахарной ваты. С тех пор, как ему удалось получить гражданство и переманить в Италию старшего сына, он почти полностью отошел от дел, переехал из Рима на побережье и стал даже своеобразной местной знаменитостью, ведя колонку «Глазами иностранца» в местной газете. Все утро было посвящено организации праздника. А в сиесту он первый раз за сезон окунулся в море, обжигающе холодное по сравнению с горячей от солнца пляжной галькой. «Завтра днем вернется Ева», – вспомнил он свою подругу и немного смутился: как-то все получится, если Катька приедет на его праздник… Но тут же мысль о Еве показалась ему столь незначительной по сравнению с возможностью, вероятностью, надеждой, чудом, что совсем скоро он сможет увидеть Ее. Он снова вбежал в холодную воду с криком какой-то совершенно детской радости. Вечером он купил новый костюм. Долго примерял перед тусклым зеркалом, а старичок портной вертелся вокруг него с сантиметром, отмечая, насколько необходимо укоротить брюки. В преддверии дня рождения он всегда начинал критично оценивать себя. Старел он красиво, чему способствовал здоровый климат, рыбная кухня, плавание и тренировки в зале. Волосы стали соль-с-перцем, но лежали густой волной, хороший рост и широкие плечи выделяли его в толпе невысоких обычно южан, и он не раз и не два замечал на себе взгляды женщин сорока и даже моложе лет. Но его вполне устраивала его веселая румынка Ева. Пока что. Пока они с Катькой снова… Но с годами он стал сентиментальным, даже чрезмерно. Ночью абсолютно не спалось, несмотря на уютно постукивающий за окном дождь. Предрассветные звезды уже гасли, и ночь отступала, пятилась в горы, море светлело на горизонте. Завтра ему исполнится 60 лет… Он беспокойно ворочался в кровати и даже жалел, что Ева уехала в Рим на встречу с сестрой. Иногда ее телесный жар и раскованность развеивали мрачные мысли лучше, чем пара порций граппы. На часах было 5 утра. Он не выдержал, сел на кровати и обхватил голову руками. Катька… В эти мутные часы мысли о ней были особо тоскливы, он скучал по ней так сильно, что пару раз даже застонал. Но взял себя в руки, вскочил и сделал пару боксерских ударов по воображаемой груше. Позже, позже. Обязательно, но позже. Внутри его еще тлели гордость и обида и тоска и… Ну все, все, довольно. Закончился дождь. Захотелось кофе, захотелось вдруг пройтись по пустому бульвару, где сейчас цветут апельсины, захотелось встретить рассвет, глазея на рыбаков, приходящих из моря с уловом. Потом можно дождаться рыночных торговцев и купить свежих деревенских яиц к завтраку. Все пастиччерии пока еще закрыты, но на железнодорожной станции кафе работает круглосуточно. Брызги холодной воды на лице, запах цитрусового одеколона на пальцах, льняные брюки со звенящими в карманах монетами, рубашка с небрежно подвернутыми рукавами, мягкие кожаные тапочки – вот это он, настоящий он, сама расслабленность и самодостаточность, таким она его и увидит. Курортная обувь делала шаг абсолютно неслышным, как будто и не было его на дороге, как будто он тайком наблюдал за сонной утренней жизнью улицы, отмечая малейшие изменения в освещении, нюансы ароматов. По всему городу цвела дикая бугенвиллия, еле слышно пахнущая медовой прохладой, тот тут, то там встречались кошачьи метки, белыми приведениями трепыхались свежевыстиранные простыни и полотенца в саду синьоры Лючии, но дувший с моря соленый ветер стирал все это ластиком, как карандашные каракули ребенка. В кафе его поприветствовал Марко, молодой парень, сын хозяина, спокойный и улыбчивый, но весь город знал о его недавней драме: его невеста под давлением своей богатой семьи разорвала помолвку. Единичные посетители дремали за своими столиками в ожидании первого поезда на Рим среди обитых деревянными панелями стен и выцветших рекламных постеров 80-х годов. По телевизору над барной стойкой начался первый утренний выпуск новостей, замелькали тревожно кадры хроники. Подняв чашечку ко рту, он прислушался. «Известный модельер русского происхождения, Катэрина Паризи погибла в автокатастрофе в районе Остии, ее кабриолет пробил ограждение на повороте извилистой дороги и упал на прибрежные камни. Вероятно, причиной аварии стало то, что водитель не справилась с управлением на скользком после ночного дождя асфальте»… Непроглоченный глоток кофе свернулся ядовитой змеей во рту, он почувствовал всеохватывающий нарастающий гул, как во взлетающем самолете, но оказалось, что это мелкой дрожью трясется чашка на блюдце в его руках. Катька… Белая шелковая юбка на круглых бедрах, длинные пальцы, исколотые швейными иглами, улыбка, режущая прямо по сердцу, жасминовый дурман вокруг черных кудрей, теплый взгляд с золотистыми бликами, как в бокале игристого вина. Катька, вздорная и пьяная, с глазами, накрашенными как у Нефертити, Катька, нежная, утренняя, блеклая в его постели, такая его и такая чужая, Катька… Всегда, абсолютно всегда, даже в пылу их самой страшной ссоры, он знал, что все пройдет, все утихнет, и они снова будут вместе. Прошло три года после их стихийного разъезда, но он знал, был твердо уверен, что это временно. Он шел по ее следам, то тут, то там всплывало ее имя в устах общих знакомых, недавно, поднимаясь по лестнице, он услышал ее телефонный звонок, пока открывал дверь и бежал к аппарату – звук прекратился, но схватив трубку, он услышал исчезающий трепет ее дыхания. На вечеринке в Риме три недели назад он почувствовал ее духи, хрустальный холодный аромат, он пошел за ним, и тот развеялся в саду, и позже хозяин дома сказал: «А ведь Катэрина была здесь, но ушла буквально за пару минут до твоего прихода… Да-да, спрашивала о тебе», – и замолчал лукаво, сдерживая любопытство. Все шептались и дружелюбно улыбались за их спинами: надо же, уже немолоды, а такая любовь… Они вот-вот должны были быть снова вместе, да, у него была румынка Ева, у нее – какой-то Маттео, но это все неважно, неважно… И сейчас в рассветном кафе, вокруг которого пели птицы, и шумел пристанционный сад, и ветер шевелил окурки и лепестки, закручивая их спирально вокруг резной чугунной урны, он ясно понял, что жизнь его кончилась, абсолютно и необратимо, что на самом деле он будет жить еще долго, и его кожа постепенно сморщится, и волосы поредеют, и сгорбится спина, и обвиснут на нем брюки, но он все еще будет ходить по земле, есть и пить, но это уже не жизнь, и вот в эту-то самую минуту она и оборвалась, как будто лопнул яркий красный шар и остался висеть тряпкой на жасминовом кусте.
Внезапный гость
Они были уже в таких возрастах, что трудно было понять, кто из них кто. Мать была значительно полнее, ниже ростом, но лицо ее казалось розовым и гладким, и серые прожилки прятались в русой косе, в то время как в черных волосах худой высокой дочери бросались в глаза пепельные пряди. «Ты, Женя, седеть уж начала, в отца, небось, пошла», – вздыхала мать. Отца дочь и не видала ни разу. Всему виной была, конечно же, бабка. Темная история случилась в 40-м году – ранний брак, мужа – на фронт, он – неизвестным солдатом погиб, свернулся в желтый треугольник похоронки. Впопыхах военных переездов бабкин паспорт был утерян, восстановили его уже без печати о браке. Вышла замуж в 1948, и все бы жить и радоваться, дочь народившуюся воспитывать, да объявился первый муж на одной ноге, и оказалась бабка нежданно двоемужницей. Городок маленький, разбираться толком не стали, сплетни пошли, кудрявые и замысловатые, да так, что и на базар не пойдешь – засмеют, в краску вгонят. Мужья за жену в дальний овраг драться ходили, да, в итоге, распили пол-литра за победу. Потом отец девочки и вовсе сбежал с проводницей московского поезда, что каждую неделю стоял по 3 часа на запасном пути у станции для загрузки вагона-ресторана местными продуктами, а первый муж снова пропал, и теперь уж с концами. Бабка так одна и доживала. Спустя много лет девочка выросла, да жениха в гости позвала, знакомить с родительницей. Он – студент-агроном из Москвы, на практику в город к ним распределенный. Она – с косой до пояса, с грудью четвертого размера, влюбленная, счастливая. Перспективы открывались пред ней чудесные – торт «Прага», платье солнце-клеш, каблучки по арбатской брусчатке… Уже и расписываться хотели по-быстрому, в связи с вполне определенными признаками, а он подумал-подумал, да и исчез, растворился в сумерках через несколько дней, без драм и объяснений. Дело ясное: мать тогда, хоть и молода еще была, но уже смекнула – соседки от зависти на чужое возможное счастье тайком напели жениху ее про историю давнюю, неприятную, он и не захотел, видно, связываться. Что ж, понять можно. Ууу, бабы-злыдни. Ну а что – пятно теперь на весь их женский род. Мать и сейчас не любила базарные дни да демонстрации, всех подруг разогнала, так ей и чудилось, что шепчутся за спиной, и то, безотцовщин-то хватало в ее детстве, а вот с двумя папашами как-то не встречалось. «Эх, Женька, вот бабка-то наша учудила, а? И мне судьбу сломала – жених, отец твой сбежал, да и за тобой дурная слава, все так и полощут нашу фамилию, да? Народ злобный, который год языками мелют, хоть из дома не ходи». Дочь кивала уныло, хоть и казалось ей иногда, что не при чем тут бабка уж ни коим боком. А сама виновница давно уже рассыпалась в земле, и добавить ей было нечего. Шли годы, текла за окном Волга, по весне из-за ливней четвертый их этаж часто заливало с чердака, по комнатам тазы стояли, капли били усыпляющим ритмом, летом земляника в лесу шла, в сентябре на пристани торговали астраханскими арбузами, к Новому году в местном клубе давали праздничный концерт. Мать вахтерила на фабрике сутки через трое, дочь учила девочек в школе труду. В школе дочери ученики дали прозвище – «кочерга», а потому что высокая, черная и сутулая. Самое обидное, что кочерга действительно стояла в углу кабинета труда, находившегося в отдельной, неотапливаемой пристройке к школе, и потому применялась по прямому назначению. Таким образом, получалось, что в классе стояло сразу две кочерги, и этот факт служил неустаревающим предметом смешков, хохота и сдерживаемых радостных всхлипов. Сама учительница смеялась, наоборот, крайне редко и в моменты разыгравшегося в классе веселья била рукой по столу и надрывно кричала: «Чего смеетесь! Много смеетесь – много плакать будете!» Она, и правда, никогда не плакала, лишь пару раз, выдергивая седые волосы у себя на голове, всхлипывая, жаловалась матери: «Ты-то хоть как-то пожила, а у меня вообще – ничего не было. Труха одна, не женщина, а гриб-пороховик». На что мать строго отвечала: «Ты честь берегла, не то, что эти». Эти, в то время, родив по третьему и не родив по пятому, жили обычной для провинциального городка жизнью: завивались в парикмахерской, качали в колясках приплод, пили пиво в парке, щупали финские куртки в единственном универмаге. Медленно, как растительное масло, стекало время по стеклу. Шли девяностые, потом нулевые. Мать и дочь жили мирно, в общем-то, по выходным пекли пироги, читали вслух друг другу, обводили в телепрограмме красной ручкой заслуживающие внимание передачи. Мать наловчилась плести цветные веревочные коврики, акрилом выводила название города и продавала их на пристани сходящим по трапу на экскурсии речным туристам. Иностранцам очень нравилось. Женя добилась замены в обучающем меню молочного супа на куриный, четырехклинки на юбку узкую, с разрезом, зимой же начала вести в клубе по четвергам вязальные курсы. Два раза в год, на дни рождения, к ним приходила гостья – соседка с первого этажа, тетка Тамара. Ей было глубоко за восемьдесят, и уже плавала она в глубинах своей мутной памяти, но дамы были не избалованы вниманием и радовались и Тамаре, и подаркам ее однообразным: все баночкам варенья из черноплодной рябины, собранной в городском парке. Традиционной кульминацией праздничного вечера являлся материн вопрос: «А за что же ты, Тома, мужа своего прогнала?». «Да шаркил он», – был ответ. «Как это – шаркил-то?», сжимая губы, чтобы заранее не рассмеяться, вопрошала мать. «Ну как – да так». Тамара начинала злиться, вскакивала и, согнувшись пополам, быстро перемещалась туда-сюда по комнате, шумно загребая ногами. Семейство смеялось. Их мир был столь упорядочен и округл, столь размерен, как настенные часы. Казалось, что такая простая система должна быть максимально устойчива, однако нежданное событие нарушило ее слаженное функционирование. Замесив как-то в воскресенье тесто, мать локтем, чтобы не изгваздать кран в липком веществе, открыла воду, однако из глубин водопроводных сплетений донеслось низкое нутряное урчание, кран зашипел, плюнул брызгами и стих. Подбежавшая дочь помогла стереть остатки теста с рук, и женщины сели на стулья друг напротив друга, в ожидании озарения. Вскоре мать вскочила и ушла в свою комнату, где долго рылась в комоде в поисках записной книжки. В диспетчерскую дозвонились не сразу. Выяснилось, что в подвале авария, воду перекрыли. Внизу работает сантехник. Воды не было час, два. Уже давно бы им сидеть за чаем со сладкими пирогами, да где тут. Дочь накинула вязаную шаль и решилась идти на разведку. Подвал был открыт, пахло из него скверно. Зажав нос, она наощупь шла вниз, хватаясь за влажные теплые стены. Внизу маячили неясные огни. Вдруг черная тень сбила ее с ног. Она охнула, но поперек талии ее небрежно ухватила чья-то железная рука. Пахнуло похмельным дыханием. «Ты чего тут, давай вперед, ну, иди». Небрежно подталкиваемая под зад мужской рукой, чего с ней ранее никогда не случалось, женщина была выдворена обратно на свет. За ней из подвала вылез грязный крупный субъект, моментально доставший сигарету, зубами оторвавший от нее фильтр и закуривший. «Чего вниз несет? Там две трубы разорвало, что на полу разлито, вишь?» – он кивнул вниз, переступив ногами в резиновых высоких сапогах. «Вы извините, но вода когда же будет? Ведь без воды нам совсем никак уже нельзя». Сантехник с обиженным шипеньем затянулся. «Вот вы, дамочка, из теплой квартирки вылезли, небось печенье кушали, а я с 10 утра, по срочному вызову, в воскресенье, во рту ни крошечки, ни росинки, стою по колено в… Эх, да что с вами говорить». Женщина смутилась, внутри нее и правда полпачки курабье и пять шоколадных конфет лежали сладким комом. Пауза затягивалась, сантехник курил. Неожиданно, как будто со стороны, услышала Женя свой дрожащий голос, приглашающий мужчину зайти перекусить или, (спохватившись) «может быть, вам принести сюда, раз неудобно к нам». Сантехник бегло оглядел Евгению: «Мда. Бабец-то малоинтересный, но пожрать бы я, конечно, пожрал». И быстро спросил номер квартиры. Опешив, квартиру Женя выдала. И, извинившись, побежала наверх, чтобы хоть как-то предупредить о визитере мать, с замиранием сердца слыша позади мерное хлюпанье резиновых сапог по ступеням. Сантехник оказался не совсем уж пролетарием, оставив страшную обувь свою за дверью. Женщины смотрели на него, открыв рты – порог их тихого дома мужчины не переступали лет так тридцать. Наконец, мать пришла в себя и выдала старорежимное: «Пожалте руки мыть», но, вспомнив про отсутствие воды, опять замкнулась. Из-за неприкрытой двери с площадки несло сапогами. Сантехник осознал, что дело надо брать в свои руки. «Чая-то, конечно, без воды не получится, но пару бутербродов я бы употребил, раз уж пригласили» – он обтер руки о бока и еле удержался, чтобы снова не шлепнуть ту, что вроде помоложе под зад – чтобы шустрее бежала на кухню-то. Через полчаса, наевшись колбасы, печенья и запив их смородиновой настойкой, сантехник разомлел, загрезил об оставленной с утра в кровати толстой и белой, как ватрушка, возлюбленной, и почти заснул под уютный треп разговорившейся матери, которая, тоже хорошо хлебнув настойки, решила объяснить гостю, что дочь-то очень хороша и не замужем не по своей совсем вине. Бабка снова завертелась юлою у себя в подземной обители. Дочь, горячая от стыда, замерла в углу комнаты, пригнув голову и действительно напоминая кочергу. Но быстро, как это обычно у них в городке и бывает, по подъезду разнесся слух, что вызванный срочно сантехник, вместо того, чтобы устранять повреждения в водопроводной системе в соответствии со своей специальностью, распивает водочку в двенадцатой квартире. И вскоре в дверь ехидно барабанили две домохозяйки со второго этажа. Прощаясь и дожевывая одновременно, сантехник обещал непременно зайти как-нибудь вечерком, в ответ на хмурое приглашение яростно пихаемой материнским локтем в бок Жени, про себя, при этом, безжалостно измыслив: «На такую, конечно, и после целой бутылки не полезешь». Хлопнула дверь, сотрясая домашний милый мир до основания. Весь оставшийся день женщины были под впечатлением. Они ходили молча, по комнатам и коридору, изредка натыкаясь друг на друга в узких местах, двигая предметы и не решаясь уйти в обычную рутину воскресенья. Забытое тесто печально свисало из-под крышки кастрюли. Из крана капало.
– Ну, стало быть, сказал, что зайдет еще, – произнесла, наконец, мать, – как он сказал-то – на днях, вечером?
– Да, вроде так, вечером.
– Сегодня, что ли?
– Не знаю, может и сегодня, кто ж поймет.
– А надо бы, надо бы понимать! Учись теперь! Ох, да ведь у нас и на стол-то поставить нечего…
– Колбасу он всю съел, только сыр остался.
– Ну, это никуда не годится – мужика бутербродами кормить, надо горячее готовить. Может, котлетки? Тогда за фаршем идти надо.
– А если не сегодня он имел в виду?
– Да в котлетах-то то и хорошо, что они и завтра и послезавтра еще вкусными будут, и на третий день, только разогреть быстро на сковородочке и подать…
– Вы, мама, еще конфет обязательно купите, шоколадных, съели мы сегодня все.
– Конфеты как раз он принесет, так положено.
– А вдруг не принесет?
– Принесет. Он, хоть и сантехник, а видно, что культурный человек – обувь за порогом снял и не матекнулся ни разу. Цветы и конфеты с мужского пола, так уж заведено.
Мать сурово пожевала челюстью.
– Я, значит, Женя, сейчас за фаршем пойду. А ты приберись хорошенько, пол протри. Потом картошки начисть, да тесто, тесто же еще! Давай-ка, по-скоренькому, с рябиновым Тамариным вареньем пирожков налепи! Да, еще, – мать зашуршала в верхнем ящике трюмо и достала тюбик помады, – попробуй, губы-то подкрась, а то бледноваты.
– Да ну вас, еще чего, что я перед ним крутиться буду что ли…
– И будешь, и будешь, хватит, уж пожили одни!
Мать ухватила дочь за шею, сняла крышку и, вывернув жирный розовый столбик, мазнула им по сжатым жениным губам. Потом отстранилась, любуясь проделанной работой.
– Вооот, гляди-ка, сразу глазки заиграли. Бери, я сказала!
Дочь послушно зажала помаду в ладони и пошла вдаль по коридору набирать воду – полы мыть.
Чертов ноябрь
«Шур-шур-шур, шшшшш, шшшшш – мыши бегают в подполе, мыши ищут еду. Не буду слушать мышей, надену шапку и пешком дойду до города. Шагаю, загребая снег ногами, в кармане шуршат бумажки. Бумажки – значит, будет пища и питье».
Привычка владеет человеческим разумом намного больше, чем можно себе представить. Минимум четверть своего суточного времени человек проводит, исполняя свои ритуалы, за это он получает иллюзию жизненного равновесия, он, покачиваясь, спокойно плывет на своей утлой лодочке по жизненному времени, а где-то впереди, далеко-далеко, слышен шум водопада, но водопад еще столь отдален, что шума-то и нет на самом деле. Все лодки рано или поздно подплывают к краю. Но говорят, есть те, чьи реки впадают в море.
«Снег выпал рано-рано. Снега быть не должно. Снег пошел – работа встала. Никто не будет кататься на лодках. Лодки лежат кверху брюхами в сарае. Сарай заперт на замок. Замок на цепи. Люди не украдут лодки. Я жду весны».
Привычка, однако же, имеет свойство обманывать и напрямую. Искажать сознание, прятать истинную сущность вещей. Вот шел человек летом по улице привычным путем на работу – видит – лоток мороженщика: «Оооо, вот это кстати» – покупает стаканчик с пломбиром и ест на ходу, оттопыривая пальцы. И так каждый день. Мороженщик тоже видит человека и к концу лета даже начинает здороваться с ним: не чужие уже ведь люди. И вот в одно утро мороженщик исчезает, а липкие бумажки от вафельных стаканчиков меланхолично ведут хоровод в воздушном водовороте вперемешку с опавшими листьями – циркумамбуляция. Человек пойдет утром обычным своим маршрутом, не найдет лотка и расстроится – все, лето кончилось, нет больше мороженого, наступила осень. Но на самом деле не мороженого нет, а мороженщика. Привычка заставляет путать следствие и причину.
«Еще пять месяцев – это в самом лучшем случае. Бывали и теплые марты, когда лед на пруду таял уже в середине месяца. Надо надеяться. Мыши грызут пол, буду класть колбасу между оконными рамами – там не достанут».
Брести по прямой, что параллельна земле, спотыкаясь о точки, разбросанные на системе координат в масштабе дня, недели, года – удел человека. Человек не любит оборачиваться – ретроспективный взгляд способен выставить все в ином свете и вот – добро и зло меняются местами, а разве нужно это человеку? Иди-иди, не смотри назад. Иначе то там, то здесь ты увидишь соляные столбы.
«Брызги воды – они хохочут, неумело бьют веслами, нарушая зеркальную гладь, пахнет сладкой ватой и жареным арахисом, солнце заливает лица, они становятся такими белыми, такими чистыми, как в детстве. Все любят кататься и все отдают мне бумажки. Я тоже улыбаюсь, и мое лицо заливает свет. Лето…»
Потерянные причины лежат на дорогах, плывут в водоемах, катятся с холмов за своим владельцем. Одни тихонько плачут усталым голосом, других уже и не расслышать совсем, их последнее эхо растворяется в пронизанном космическим холодом воздухе. Беззвучные, они становятся шершавыми камнями, и эти камни в невидимой, но прочнейшей сетке тащатся за человеком, утяжеляя его шаг. Ноги все глубже и глубже врастают в землю.
«Кто думает о том, что происходит с нами, работниками лета? Мой дом промерзает, топить его тяжело. Чертов ноябрь пожирает поленья, забрасывая их горстями в черную стылую глотку. Надо рубить ветки, но нет сил. Грянут сильнее морозы – вдруг замерзну к утру. Люди придут весной к пруду – а станция закрыта. Лодки в сарае, сарай на замке, замок на цепи. Люди не украдут лодки, люди никогда не увидят лодки. Лодки – это значит, пришло лето. Нет лодок – нет лета. Никто и не заметит, что меня не стало. А значит, и вправду меня нет».
Свободный вечер в Риме
Как ни странно, визу Оленьке дали без всяких проблем, да еще и на целых полгода. Вот только оказалась она к этому абсолютно не готова. Теперь, когда поездка в Италию стала реальной, она разволновалась. Бродила по дому, как неприкаянная, поднимала разбросанные детские вещички, мягкие игрушки, мужнины носки – он, когда собирался по утрам, всегда опаздывал и метался по квартире разъяренным львом в поисках того, что каждый вечер Оленька гладила и складывала для него на одном и том же месте на протяжении уже нескольких лет. Подходила к окну, возила пальчиком по стеклу, смотрела на привычный двор и удивлялась самой себе – ведь придется лететь, раз дала согласие, и виза есть, и куплен на ее имя билет, и забронирован в отеле номер. Но как же она полетит? Оставит мужа, малышку – за время своей беременности и этих первых младенческих месяцев Ольга абсолютно перестала воспринимать себя как самостоятельное существо, границы ее тела будто бы стерлись, она ходила по квартире бесконтурная, расползшаяся, как голограмма, с подрагивающими радужными краями. Мысль о том, чтобы даже всего на несколько дней покинуть малышку мучила ее столь сильно, что заболевала голова и ныла грудь – Ольга перестала кормить дочь на прошлой неделе и ощущала удивительную пустоту. Вчера, когда курьер привез из визового центра ее паспорт, она весь вечер ждала мужа и ловила в стеклянных поверхностях кухни свой взгляд – испуганный и виноватый. Но муж пришел в хорошем настроении и заразил ее своим весельем, кажется, он и правда был рад отпустить ее, и родители шумно обрадовались в телефонной трубке, пообещав забрать малышку к себе на время отсутствия. Да что же в самом деле – всего три ночи, даже не неделя… В аэропорту, уже в ожидании посадки, Оленька начала задыхаться – распласталась в кресле, как медуза, выброшенная штормом на берег и вяло шевелила конечностями. Физически ныла грудь и такая тоска захлестнула ее, при мысли о теплом розовом человечке, сучащем ножками в кроватке за так много-много километров от нее, что из глаз тихо покатились слезы. Она сидела бледная, дикая, в светлом плохо отстиранном платье, обнимая тряпичную сумку и представляла, что вот сейчас приедет муж, и скажет: «ну, хватит, пошутили и будет – поехали домой» и обнимет ее за плечи крепкой рукой и вернет ее обратно в родной герметичный мир. В плотно закрытой капсуле лайнера ей стало чуть лучше, так, что она достала из сумки брошюру с программой конференции, посвященной открытию в Complesso del Vittoriano выставки «Королева модерна», где она должна будет прочитать выдержки из своей двухгодичной давности диссертации, посвященной творческому пути Тамары Лемпицкой. Стандартная программа: первый день – конференция с перерывом на обед и кофе-брейк, вечером фуршет и ночная автобусная экскурсия по Риму, второй день – пешеходная экскурсия с посещением Сикстинской капеллы и музеев Ватикана, обед, вечером – оперный концерт в Термах Каракаллы. Третий день – с утра галерея Боргезе, обед, свободное время… «Ну вот, и что мне делать в этот свободное время? Нельзя же так бросать людей на произвол судьбы… Одна, в незнакомом городе, не зная языка… Ну что ж, останусь в отеле. Или надо срочно с кем-то сдружиться…». Но сдружиться не получилось. За почти два года сиденья дома Ольга замкнулась и утратила навыки общения. В автобусе, везшем группу из аэропорта, села на заднее сиденье – знакомых лиц не было, все какие-то молодые девицы-аспирантки, разодетые и раскрашенные, как экзотические птицы и, глядя на них, Оленька со своими серыми волосами и прозрачными глазами в бесцветных ресницах почувствовала себя платяной молью. Город слился в ее памяти в один красочный коллаж из ярких фотографических кадров и мутных близоруких Олиных впечатлений. Лишь только она вышла из автобуса на площади Барберини, вдохнула густой и жаркий римский воздух, то тут же забыла обо всем, замерев и чувствуя, как в каждое отверстие ее тела, в каждую пору кожи, словно в губку проникает древнее дыханье Рима. Отель Quattro Fontane оказался трехзвездочной гостиницей, но поселили ее в отдельный номер с ванной и кондиционером, который, впрочем, не работал. Выступление свое она помнила смутно, потому что выпила для храбрости пару бокалов просекко и из-за долгого перерыва в употреблении алкоголя сильно захмелела. Она все опасалась, что переводчик как-то искажает ее академическую речь – в процессе люди улыбались, в конце были вежливые аплодисменты, и пожилой итальянец задал вопрос о том, какая ее любимая картина у Лемпики, и Оленька совершенно замялась, ей никогда не приходило в голову, что можно выбрать что-то одно и отдельно возвести на пьедестал. В результате ответила банальность и долго стыдилась, ей казалось, что на фуршете все исподтишка смотрят на нее и смеются… Потом Оля выпила еще игристого вина, сильно споткнулась при входе в автобус, и на ночной экскурсии ей больше всего хотелось раскинуть руки, разбежаться и нырнуть в фонтан Треви, закружиться, закрутиться юлой на пьяцца дель Попполо, залезть в берниниевскую лодочку и с визгом брызгаться… Восторг накатывал волнами, бился в горле и стучал в висках. Но утром болела голова, и не хотелось вставать, но их гнали все дальше и дальше. В Сикстинской капелле Ольгу начало подташнивать от переизбытка впечатлений, она была как набитая прессованными опилками по самую макушку мягкая безвольная кукла и дальнейшие произведения искусства уже почти не воспринимала. После оперы в Термах, группу собрали и предложили на следующий день, в свободное время поехать в аутлет, но у Ольги было совсем немного денег. К тому же предложение тратить драгоценное время в Риме на покупки казалось ей почти кощунственным, и она ждала, что группа возмутится такому обороту событий, но все одобрительно загудели, глаза засверкали, и Ольга неожиданно оказалась единственной отказавшейся. Вернувшись в номер после галереи в два часа дня, она набрала ванну с пеной, открыла миниатюрную бутылочку вина из минибара, развернула шоколадку и влезла по уши в теплую воду. Сквозь закрытые жалюзи в комнату пошла прохлада. Над городом, тревожно крича, кружили чайки. Собиралась гроза, зигзагами сверкали молнии, но пышные серые тучи разродились всего лишь жалобным, как слезы ребенка, дождиком, лишь взбившим пыль на тротуарах. Гроза ушла за город. Ольга надела длинное желтое платье на бретельках, по случаю тепла решив пренебречь бюстгальтером. Закрутила волосы в небрежный пучок, припудрила лицо и подкрасила ресницы. Взяв карту города, Ольга тем не менее отправилась наугад и через сорок минут оказалась в неживописном районе вокзала. Ее испугало обилие арабов и хаотичное дорожное движение – она чуть было не попала под автобус, он страшно загудел и замигал фарами, потом, засмотревшись на витрину кондитерской, едва успела заметить, как тощий малец шарит грязной ручкой у нее в сумке. Пройдя поспешно с километр наугад, Оля оказалась у базилики Санта Мария Маджоре, но та оказалась закрытой. К тому времени путешественница проголодалась, и ее быстро заманил в пиццерию ушлый официант-зазывала. Столики стояли прямо на оживленной улице, отгороженные от пешеходов лишь несколькими финиковыми пальмами в деревянных кадках. Все они, кроме Олиного, были заняты – она услышала итальянскую речь, вспомнила совет гида о том, что кушать в Италии надо там, где питаются местные, и удовлетворенно уселась. Хоть клетчатая скатерть была не первой свежести и местами прожжена, Ольга заказала пиццу с анчоусами и, по примеру других посетителей, домашнего сухого вина. Откинувшись на спинку плетеного стула, она наблюдала резвую уличную жизнь, чувствуя странное, доселе неиспытанное ощущение мимолетного счастья, эгоистического, собственного. Новое чувство так захватило ее, что она сознательно старалась его продлить, глубоко дыша, сосредоточившись на этом остром ощущении. Но вскоре осознала, что ей что-то мешает. Мужчина за соседним столиком бесцеремонно рассматривал ее, будто бы трогая взглядом. Оля порозовела и уткнулась в карту, через несколько минут принесли вино, она подняла глаза, но незнакомец все также смотрел на нее. «Да что же он, в зоопарке что ли?», – мысленно взбунтовалась Оля и, выложив руку с обручальным кольцом на стол, решительно посмотрела на мужчину в упор. Он тут же белозубо улыбнулся, Ольга в смятении отвела глаза и пошла пятнами. Плетеная ножка шваркнула по асфальту. «Posso?» – спросил мужчина, указывая на стул за Олиным столиком. «Io non capisco italiano», – пробормотала Ольга. Мужчина переспросил на английском. Ольга с деланным безразличием пожала плечами. Он сел напротив и опять улыбнулся. «Меня зовут Либерио», – произнес он. От него хорошо пахло одеколоном. Ольга исподтишка оглядела его: по виду чуть за сорок, волосы до плеч, с небольшой проседью. Смуглый и тощий, с длинными жилистыми руками, кое-где вокруг ногтей виднелись пятна неотмытой краски. Одет просто: легкие брюки, футболка, на которой тоже виднелись цветные брызги. «Художник, наверное, – подумала Оля. – В любом случае, разговаривать я с ним не буду». Через два часа, выпив изрядно вина, Ольга хохотала, запрокидывая голову, а Либерио сидел рядом, закинув руку на спинку ее стула: «Так вот, пока римлянин работает без обеденного перерыва, я приеду к нему домой и займусь любовью с его женой – так говорят неаполитанцы». «Ты из Неаполя?» – с веселым испугом спрашивала Оля. «Почти, я родился в Салерно»… Еще через час, они шли вместе по улице в мастерскую, смотреть его картины. «Я работаю здесь рядом, на виа Кавур, – заманивал он, – посмотри, тебе, как профессионалу должно быть интересно. Я пишу копии на заказ, но тебе я покажу и свои собственные работы. Знаешь, ведь я никому их не показываю…». «Посмотрю и тут же уйду», – решилась Ольга. «Вон мое окно, видишь?» – он показал на заросшее диким виноградом окно на последнем этаже старинного желтого здания на виа Кавур. В доме оказался платный лифт, поездка стоила пять центов, и этот факт чрезвычайно Олю развеселил. Двери закрывались вручную со страшным грохотом. Из-за высокой деревянной двери пахнуло масляными красками и пиненом. Оля робко сделала несколько шагов и услышала скрежет – Либерио закрыл дверь на ключ. Тут же, с порога, он быстро и крепко обнял Ольгу, на весу прижав к стене и придерживая голову, раздвинул ее губы своим языком, насквозь пропитанным вином. Она еще пыталась вырваться, но от него шел такой заразный сильный жар, а руки были такие жесткие и беспардонные, со всех сторон облепившие ее под платьем, как две хищные змеи, обившиеся вокруг жертвы, и она не могла пошевелиться и в ужасе закрыла глаза, чувствуя, как заколотилось сердце. Вдруг он сам отпустил ее, оттолкнув на середину комнаты, а сам встал в проходе, сложив руки на груди. От алкоголя и страха у Ольги потемнело в глазах. Она сощурилась – его лицо было в тени, но глаза блестели как в лихорадке и казались совсем черными и страшными. «Задушит», – мелькнула мысль. Ольга оцепенела, загипнотизированная этим горячим взглядом, понимая, что сейчас с ее участием произойдет что-то очень неправильное. «А теперь раздевайся. Сама, как плохая девочка», – тихо сказал он ей и улыбнулся. Ольга открыла рот от возмущения, но из горла ни вышло ни писка, более того, она, сама того не понимая, как это происходит, почувствовала, как собственные руки предательски стягивают бретельки платья, и то с тихим вздохом падает к ногам. Она дрожала перед ним в своих хлопковых трусах, с животом со следами растяжек и вытянутыми грудями, испытывая мучительный стыд за вид своего мягкого творожистого тела и соски размером со спелую сливу. «Ты недавно родила ребенка… Не надо, не закрывайся. Mi piace… Ты красива, ты Мадонна». Он подошел близко-близко, не отводя взгляда от ее глаз, взял за руку и отвел на кровать. Через два часа, когда на город спустились густые сумерки, и жара стремительно пошла на убыль, Ольга выскочила из подъезда на виа Кавур, использовав момент, когда Либерио был в душе. Ее щеки пылали, а глаза блестели, волосы были мокры от пота, пройдя несколько метров, она осознала, что под платьем у нее вообще ничего нет, а между ног тепло и скользко, но только рассмеялась и быстро пошла дальше, болтая сумкой и глупо улыбаясь. Но через несколько минут улыбка стала гаснуть, плечам и шее стало так тяжко, будто поверх взвалили мешок с мукой. Глухо охнув, Ольга остановилась. Потом неуверенно повернулась и пошла назад, сначала медленно и осторожно, потом все ускоряя и ускоряя шаг, но вот беда – она заблудилась. Как раненое животное спутанными траекториями она сворачивала то вправо, то влево, щурясь и растягивая край века пальцами, читала вывески и возвращалась назад. Здания, надписи, лица, трамваи – все слилось в единое разноцветное пятно. Оля начала задыхаться. Наконец она кривыми путями оказалась на виа Кавур. Но все строения были так похожи, старинные громады, выкрашенные в оттенки желтого, с одинаковыми захлопнутыми ставнями и пышной растительностью на балконах и в цветочницах. Она металась по возмущенно гудящей автомобильными сигналами улице от дома к дому, торопливо глотая теплый воздух, наполненный запахами еды из многочисленных закусочных и выхлопными газами, но не могла ни вспомнить, ни узнать ни здания, ни двери. Запрокидывая голову назад до хруста в шее, она искала балкон, заросший виноградом, но по близорукости ничего не могла разглядеть, в конце концов, в минутном безумии она с силой стала нажимать жесткие кнопочки звонков на одной из входных дверей и, плача, кричала в ответ по-русски: «Впустите, впустите меня, пожалуйста!» Вокруг стали скапливаться люди, и Ольга, очнувшись, забежала от стыда в какую-то кофейню, где ей налили чашку кофе, и она долго сидела за столиком с уже сухими красными глазами, глядя прямо перед собой. Услужливый официант нарисовал ей на карте дорогу до отеля, и через полчаса Ольга зашла в свой номер и упала на кровать. В полудреме-полусне она провела время до самого дрожащего рассвета, до того момента, когда в номере резко зазвонил телефон, и портье напомнил, что пора вставать. Она долго стояла под душем, чувствуя, как что-то пухлое, мягкое и розовое обволакивает ее: то осторожно возвращались мысли об ее оставленном где-то далеко младенце. В Дюти-фри Ольга поняла, что не купила подарки родным. Она засуетилась и быстро приобрела несколько упаковок вяленых томатов на сувениры и бутылку Лимончелло для мужа. Потом, подумав, купила пластиковую фляжку приторного сливочного ликера и, сев в зале ожидания лицом к окну, за которым шла размеренная и быстрая аэродромная жизнь, медленно выпила почти полную бутыль. В самолете ее рвало, долго и мучительно, так, что стюардесса начала стучать в дверь, выспрашивая, не нужна ли ей медицинская помощь. Когда она вернулась в свое кресло, соседка – пожилая рыжая итальянка, повела носом и демонстративно отвернулась. Уже по прилету, в зале, при виде мужа, высокого, крупного человека в клетчатой рубашке, Ольгу затрясло. Ей казалось, что все написано у нее на лице и единственное, о чем она молила – это то, чтобы скандал не вышел прилюдным. Но он просто обнял ее сильно и поцеловал в лоб, не отметив даже нездоровый вид и синяки под глазами. И она смолчала. А потом осмелела, стала задавать дежурные вопросы, а он дружелюбно отвечал, поглядывая на жену с интересом: соскучился. По дороге домой в машине она попросила выключить приемник, сославшись на больную голову, но муж не мог долго сидеть в тишине, требовал подробного рассказа и впечатлений. «Знаешь, так много их было… У меня культурный шок, наверное… Дай мне пару дней, чтобы все в голове утряслось…». Муж обиженно замолчал. А потом опять: «Ну, давай хоть в города поиграем. В итальянские!». Он всегда был такой, обезьянка-игрунок. И они играли в города, но недолго – города скоро кончились. «А давай, кто больше итальянских имен знает?». Ольга стиснула зубы.