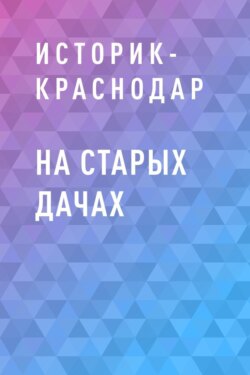Читать книгу На старых дачах - историк-краснодар - Страница 1
ОглавлениеПервая часть.
хх. хх. хх. г.
Ну, здравствуй, старый друг! Опасения твои по поводу имени-отчества мне понятны – и сам когда-то таким был, как ворона пуганая своей тени боялся. Но я тебя испугаю и того больше – придёт почтальон, адрес ему твой известен, и вычислят твоё местонахождение. Да и захотели б найти – давно нашли. А я устал бояться. Да и усталости этой давно нет.
И кого нам бояться, сам посуди? Судья, что подписывал нам смертный приговор, – давно в могиле. Исполнители – кто за кордоном, кто сам под расстрел пошёл, а кто и давно уволен, и не при делах. Страна нынче совсем другая, и по новому закону нас судить не за что. А старый – отменён. Да и что я тебе доказываю – ты сам понимаешь. Но страх – он въедается в душу, в сердце, в разум. Подобно разведчикам, привыкаем жить на нелегальном положении. Или шпионам…
Не говори мне, что это не жизнь. Что многие вещи, доступные простым смертным, для нас – под запретом. Что невозможно устроиться на работу, сидеть в кафе. Семью завести, в вуз поступить. Сам-то собирался, пока возможность была? То-то и оно. И без этого можно прожить. А в кафе и так сидели, нелегально, по чужим паспортам. Вот выйдем сейчас, начнём бюрократическую волокиту – кто, откуда, куда. Будешь скучать по обычной жизни? Вот она – бери.
А всё-таки есть он, этот романтический момент – смертник, укрывшийся от правосудия, привыкший не верить собственной тени, но безоговорочно доверяющий первому встречному, потому что по-другому – не выживешь. А вот и неоромантический – смертник, которого больше некому судить и который может вернуться в нормальный мир. И чего ты расхандрился?
На моих дачах – давно весна. Тёплый ветер не даёт спать. Я ведь давно привык спать спокойно, и не прислушиваться к звуку каждой проезжающей машины. Но галдят грачи, шумят крыльями, выписывая в небе пируэты; поют по ночам соловьи, а утром кличут горлицы; а в вечер хлопнет крыльями над огородом сова, что ищет мышь. Больше нет нужды ходить в ближайшую лесополосу за дровами. Я, честно, опасался вначале, что на заброшенные дачи бросится народ, когда вся эта кутерьма поднялась. Да мимо прошла. В городе, говорят, бои были. А здесь – тихо. Ещё раньше – так боялся, что город разрастётся, дачи снесут. Не успел разрастись. Ну да ничего, это всё поправимо. Мы лежали в могиле, считай, а теперь восстаём. Можно начинать жизнь заново, с чистого листа. Посуди, много ли у кого в жизни такие шансы выпадали?
И не вздумай, кстати, говорить, что половина уже прошла. Мы заново родились – помни об этом.
Жалко мне дом покидать. Сросся я с ним. Привык. Впрочем, так же и отвыкну. Хозяин так и не объявился. И объявится ли после всего – очень большой вопрос. Равно и наследники… Надо крышу подлатать, шифер переложить. А где его достать? За деньги купить?.. Есть у меня запас – на всякий непредвиденный случай (смешно в нашем положении о непредвиденных случаях говорить!), но эти бумажки нынче – просто бумажки. А ещё и привезти сюда… Надо достать досок и перестелить пол. Ставни покрасить. Стены утеплить к зиме. Печь переложить, чтоб не дымила.
Раньше я этого не мог. И теперь не могу – надо брать разрешение, а я ведь и не хозяин. Пора, пора выходить из тени. Но нас в большом мире никто не ждёт. И возвращаться некуда…
Тьфу, зараза!.. А раньше нас там кто-то ждал? И где жили, помнишь? И ничего, не тужили. Жизнь ругали почём зря. А она с нами очень мягко обошлась. Да ещё и наградила в придачу. Вот и почувствуй себя разведчиком, вернувшимся на Родину. Язык уже подзабыл, и страну подзабыл. Ордена хранятся в сейфе у командира, да и он тебя в первый раз видит. Не признаёт… Но всё равно – это лучше, чем скитаться на чужбине, пусть и в лучшие годы жизни, пусть и по важному заданию, за которое и жизни отдать не жалко.
У нас ведь тоже было важное задание. Считай так. Выжить. Скрыться от палача. Помнишь, мы ведь и не думали, что так всё обернётся, и мы будем свободны. Да и никто не думал… А теперь учимся жить заново. Вспоминаем прошлую жизнь, которой здесь нет. А которая сейчас – она неплохая, и спасибо ей: и научила нас многому, и многое заставила переоценить и понять, – но да будет предана прошлому. Помни об этом. Вспомним бюрократическую волокиту и брожение по инстанциям. Вспомним стояние в очередях. А как мы её проклинали в своё время!.. А нынче я ей рад. Вспомним, как постоянно нужно помнить о сроках оплаты. И вот мы, Робинзоны, отвыкшие на своих необитаемых островах от условностей цивилизации, – опять возвращаемся, опять привыкаем.
Да ты не можешь себе представить, как я рад!!! Уладим юридические формальности – снимем квартиру. Работу найдём. Не пропадём. Много чего жалко, много чего не вернуть. А впереди – много лучше. Один-единственный шанс на миллион, да что там – чудо, и в жизни так не бывает, но именно с нами и произошло, и грех такой дивный шанс упустить.
Посажу пока картошку. Так, на всякий случай – собирать, скорее всего, уже не придётся. И сливы по весне собрать будет некому. Возьму самый большой мешок, набью, сколько влезет, – и чтоб всё съел. И плевать, что там с твоим животом будет. Уж что хорошо было на старых дачах – а летом никогда не голодал. Да и на зиму запас неплохой был, вот только с сохранностью беда… Яблоки – те сушить удавалось на противнях, так и сухофрукты по мешкам. А вот орехи подгнивали. Орехи будут осенью – не обессудь, не привезу. Вот и стал заправским садоводом-огородником! Чего только в жизни не случится…
Прикину, куда идти, какие документы подавать. Нам бы старые документы уничтожить – улика лишняя, может и жизни стоить. А вот поди ж ты – сохранил. На что надеялся? Выходит, и в самые чёрные дни на что-то надеялся. На чудо надеялся. Которого и быть-то не должно. А нынче – всё по-другому. С документами порядок другой. И расположено всё по другим адресам. Посмеюсь, если с бюрократией ничего не изменилось! И техбюро стоит себе в том же здании, и те же люди бумажки принимают, и всё в том же порядке, и по тем же срокам… Вот тогда скажу – ничто бюрократа не сломит: ни война, ни революция, ни катаклизм. Хотя последнее мы не проверяли, и надеюсь, не проверим. Упаси Господь!
Пертурбация последних лет дала нам шанс. А скольких она этого шанса лишила… Да и самой жизни. Нашего судью, к примеру. И ещё многих ни в чём не повинных людей. Дорогой ценой куплена наша жизнь и наша свобода. Но ведь и не мы начинали. Обвинение и в те годы было неоднозначным, а сейчас – бессмысленно. И не мы заварили эту кашу. Она прекрасно заварилась и расхлебалась без нас. Просто диво – как эта буря стороной прошла, и нас не задела.
Смотри – на радостях не пей. И с горя – тоже не пей. В жизни есть много способов выразить и радость, и горе, но лучше ничего не выражать, а просто жить – оно и надёжнее, и много лучше. Это помогало мне остаться живым, остаться человеком – здесь, в эти годы; поможет и сейчас. Есть вещи и пострашнее войны – мир, к примеру. Мало после крушения доплыть до шлюпки – надо ещё добраться до суши. И этого мало – надо дойти до ближайшего жилья. А прекратить борьбу – это всегда успеется. А о том, как прекрасно жилось на необитаемом острове и какая вокруг нынче чушь и бессмыслица, – так об этом лучше вспоминать и рассуждать в баре или в тёплой гостиной.
Можно вскипятить чайник на печке… Да ведь нам и здесь везло. Нам везло даже тогда, когда не везло. Где наши однокашники, где коллеги, оставшиеся на большой земле? Как они это пережили, и пережили ли?.. Ответа во многих случаях не будет, а чаще всего он будет печальным. Нас погребли заживо, а мы оказались живее живых. Верно гласит народная мудрость – знал бы, где упал… А никто не знал. И иной раз это к лучшему. Вот вернёмся к нормальной жизни, а дальше – что? Что там, за очередным поворотом судьбы? Не позавидовать бы отверженным. Но это всё – тоже чушь. Смертный приговор пережили, палачей и ищеек пережили, и что бы ни случилось – обратно переживём. Доплывшему до берега негоже ложиться и помирать, негоже перед густым лесом сдаваться. Продерёмся. Теперь точно можем сказать – и не в таких переделках бывали, было и много хуже.
А ностальгировать… Да, будут воспоминания. Можно книги писать – только успевай продавать. Сценарии киношникам заталкивать. Много кто на наших историях руки погреет. А можно и не писать, и только друг с другом делиться – всё равно не поймут, это ведь пережить надо. Самому, без посредников.
Мы ведь в написании писем поднаторели. И ещё одно везение – смогли б мы пережить это, если б не письма? Ловить нас ловили, выслеживали, разнюхивали, а писем перехватить так и не догадались. Иногда я думаю, старый друг, что ты – это не ты, а сыщик. Но зачем ему так долго было возиться? Те ребята – простые, без изысков – вычислили, поймали, куда надо доставили. Да и власть нынче сменилась. А вот это и самому гениальному сыщику не под силу. Что занятно – вскрыть конверт и прочесть, это ведь много легче, чем телефон прослушивать, чужие сообщения читать. Но вот – не догадались они. А мы – догадались.
Время я теперь проверяю по утреннему автобусу. С тепла он доходит и до моего посёлка. Возможно, скоро здесь всё будет иначе, и будет много жителей, и по ночам будет музыка играть, а днём будут слышаться зверские крики – «И-э-эсь!!!» – что у нормальных людей обозначается как – «Апчхи!». В субботу вечером соседи напротив приезжают на своей машине, а вечером воскресенья уезжают. У них на участке высокое дерево, что шумит листвой в ненастную погоду. Тянет по вечерам дымом от горелых листьев и травы, и полосы дыма тянутся над дорогой в свете фар. Когда уходит последний автобус, мне всегда хочется уехать. И всегда хотелось, хотя я понимал, что это путь в никуда. Но теперь – это путь в неизвестность. И если раньше это означало только гибель, то теперь даёт шанс на жизнь. И даже больше – надо постараться, чтобы этот шанс упустить. Руки есть, ноги есть, голова на месте. Что же ещё нужно? Никто не гонится и нашей смерти больше не ищет. Мы нужны только самим себе. Вся жизнь – перед нами.
Ладно, бывай здоров, старый друг! Вечером доберусь до почтового ящика – так брошу. Не хандри. Теперь это совсем не к месту, если и раньше было не к месту. Всё только начинается.
хх. хх. хх. г.
Приветствие тебе, добрый товарищ! Опять ты мечешь лучи солнца сквозь бездну туч, а что я поделаю, если тучи не над головой, а в душе? И ты скажешь, что это даже легче. Ведь у тебя не было этих туч, пока они клубились над головами. А вот теперь – солнце. Некогда была в душе моей одна печаль. А теперь и её нет – пусто. Ты говоришь – мы во второй раз родились. Нет! Мы просто в первый раз умерли. А потом умрём и во второй. Мы – только призраки самих себя прежних. Наше время безвозвратно прошло. Пока другие жили, мы прятались. Прощались с жизнью в ожидании казни, не надеясь на чудо; не надеясь, что вдруг судья пощадит и заменит смертную казнь пожизненным заключением; велика же пощада… Та же казнь, только долгая и мучительная. Или пятьдесят лет. Сколько тебе будет, когда выйдешь на свободу? Живи и радуйся!.. Цинизм. Помнишь, сколько лет прошло, пока мы тут прятались? Напомню – одиннадцать лет. Которые нам никто не вернёт назад. Но проблема даже не в них.
Проблема в нас. Сможем ли мы вернуться назад? Сомнительно. Сможем ли найти старых знакомых? Тоже сомнительно. Скажешь, что так оно и к лучшему? А я отвечу, что и то, и то уже никакого значения не имеет. И ещё через некоторое время мы бросим большие города, и малые городки, и вернёмся на свои старые дачи. И будем жить, как будто снова вынесен смертный приговор, а мы опять прячемся, живём на нелегальном положении, смотрим глазами на затылке за каждым прохожим, и особенно внимательно, когда их нет. А это значит, что мы снова мертвы; мы ведь привыкли умирать. И отвыкли от бюрократии; и не факт, что нас признают, выдадут документы. А даже если и выдадут, то не уедем ли обратно?
Я давно перестал прятаться, добрый товарищ. Здесь живёт много таких, как мы, – беглые заключённые, скрывающиеся от следствия; да и просто совершившие преступление; за ними никто не гонится, дела сданы в архив, оставшись нераскрытыми, – это же мечта любого злодея! А они живут здесь, стараясь не вспоминать. Но вспоминают постоянно. Местный участковый старается сюда не заглядывать даже днём. Интересное местечко, верно? Не то, чтобы меня считали своим; но подозрительно смотреть перестали. За кусок хлеба, а чаще – за бутылку, вскапывают огород, сносят старые строения, помогают возводить новые. Кажется, я опять запутался и сбился с мысли…
Главное – не пить много. Ссылаюсь на больной желудок. Вымениваю водку на соляр, чтобы дизельная печь работала. Работает – дышать невозможно. Не работает – холодно. Свыкся ли я? Можно ли свыкнуться со смертью?.. Нет. Но и опротестовать тоже невозможно. Никто из нас не привыкает к обстоятельствам, но и отменить их не может. Скоро наступит жара вместо мороза, а пока – скачет, скачет термометр…
Судья, он может и умер. И законы нынче другие, и судить нас теперь не за что. И раньше, кстати, тоже было не за что. Как минимум, приговор был весьма спорный. Но это ведь казуистика. Приговорили бы нас к смерти бандиты, так чем это было бы лучше? Но и это не самое худшее. Худшее – это мы сами. Я отвык от города, от людей, от светофоров. Врос в этот мир отверженных, хотя это глубоко не моё. Раньше сказал бы, что он мне ненавистен; но теперь и ненависти нет.
Ты говоришь, что ничего не будет, как прежде; это верно, но что нас ожидает? Не то же ли, что и всегда? Врастём ли мы в новый мир? Не знаю… Надо учиться жить заново. Но мы уже немолоды. Мы устали. Мы помним тот мир, каким он был одиннадцать лет назад. Может, смогли бы принять, когда перемены бы вершились вокруг нас и с нами, и мы бы менялись вместе с миром, незаметно. А сейчас? Вернуться, и ничего больше не узнать. Ничего старого больше не осталось, ибо всё погибло в тот час, когда прозвучал приговор в здании суда, а мы в этот момент уже покинули дома, и старались не выходить на улицу, и неделями просиживали в комнатах с задёрнутыми шторами, и ходили босиком, нервно прислушиваясь, чтобы не скрипнул паркет. А если и приходилось идти по улице с чужим паспортом в кармане, то постоянно оглядывались, не следит ли кто; нет ли служителей закона поблизости. А если и есть, то как незаметно уйти в сторону и разминуться. И не является ли стоящий рядом мужчина переодетым агентом; или девушка… Каждая сирена отдаётся в сердце ножом, не едет ли группа захвата. Но внешне надо оставаться спокойным или весёлым, ибо малейшая паника выдаст тебя с головой. У меня лучше всего получалось оставаться печальным. И отпускающая боль, когда по улице летит пожарная или скорая. Или звук сирены идёт мимо, скрытый домами, и затихает вдали. Хотя кто нам сказал, что группа захвата должна ехать с шумом и пылью? Можно и тихо. С переодетыми агентами, а то с одним – этого вполне хватит. И днём, и ночью. И вечером, и на рассвете. Сон вполглаза. Бодрствование вполуха. Тщательно вызубренная легенда. Да, про разведчиков – это ты прав. И про шпионов.
Я уже давно смирился. Приучил себя к мысли, что проезжающая за воротами машина – это за мной. Спокойно выхожу на крики и стук. Не скрываю лица. Не ношу чёрных очков. Не надвигаю на глаза шапки. Не поднимаю воротника. Не беру с собой поддельных документов – я их давно уничтожил. И легенд никаких больше не разучиваю. Ещё немного, и я сам бы пошёл сдаваться. А сейчас? Сейчас и сдаться некому. Нас обрекли на смерть, а мы обрекли себя быть вечными беглецами. И если раньше у нас был выбор между вечным страхом и смертью, то сейчас остался только страх. Просто потому, что казнить нас некому. И прошедшие бои не тронули нас. А ведь был шанс уйти насовсем…
Понимаю, добрый товарищ. Понимаю. Кажется, что мелькнул луч надежды из-за туч. А это всего лишь молния приближающейся грозы. Я ведь относился со страхом и брезгливостью к людям, рядом с которыми нынче живу. Но отныне я один из них. Я ничего не ращу в своём огороде, да и нет его у меня. У тебя тоже нет, но есть иллюзия своего. Я отказался и от иллюзии. Сторожу чужие дачи зимой за кусок хлеба; летом помогаю дачникам; и опять сторожу – на ночь, на рабочие дни. Чужие будки, домики в один кирпич, а то и шалаши… На дачи едут те, кого выгнали из квартир за неимением денег; за ссоры с родственниками; за выпивку. Те, у кого всё хорошо, – они здесь гости, и притом нечастые. Я, кажется, смирился, а вот переворот спутал всё. Но кто помешает остаться здесь навсегда? Только ты сам.
Не думай, что я пьян. Я давно бросил. Говорил уже о ссылке на больной желудок. Мысли сейчас по-трезвому как раз и путаются. А хмелем ничего не поправишь. Раньше забывался, но как тяжко было приходить в себя, заново осознавая, кто ты и что с тобой… А сейчас и забываться невозможно. Градус не берёт.
Жизнь будет продолжать идти своим чередом, но нас-то скинули за борт. Есть ли надежда найти проходящий корабль? Положим, что есть. А если корабль всего один? Этот корабль не возвращается, ему нужно идти дальше. Подумаешь, упал кто-то… Остальным нужно спешить в порт назначения, нужно торопиться. А мы – мы плывём на спасательном круге, если кто-нибудь удосужится его сбросить. Или доску. Какое-то время продержишься на поверхности. А потом – удастся ли найти берег? Положим, нашёл. Выживешь ли? Может быть. А корабль давно исчез за горизонтом. И, может, в порт назначения прибыл. Или затонул по пути… А мы? Может, мы проживём чуть дольше. Это лучше? Наверное. Если так легче думать – то лучше думать так. Сиди у костра, вечно поддерживай огонь, потому что спичек больше нет; таскай черепашьи яйца, пеки их; гадай о судьбе парохода. Может, даже выбросит на берег обломки, до боли знакомые… Всё может быть. Всё. А легче ли от этого конкретно тебе? Легче ли знать, что кому-то пришлось ещё хуже, когда тебе самому очень плохо? Да пускай бы у остальных всё было ещё прекраснее, я не возражаю и не завидую. Но… Что есть, то есть. «Титаник» плывёт, и «Нахимов» плывёт. «Титаник» – в свой первый рейс, «Нахимов» – в последний. «Титаник» – за тысячи миль до берега, «Нахимов» – на выходе из бухты. «Титаник» – во льдах; «Нахимов» – в бархатный сезон. А в чём разница? Судьба едина.
Ветер воет в проводах за моим окном. Подымает пыль, стучит мелкими песчинками в стекло. Шумят деревья голыми ветками. Станет тепло, пробьются первые листки. И тут заморозок… И всё замёрзло, и опало. Что противопоставишь природе? Ничего. Вот наша судьба, единая на всех. Всё приходит к единому знаменателю. Печальному. Бросил ли я бороться? Это смотря с чем и с кем. Есть необоримое. Борюсь кое с чем. С чем можно бороться. Невозможно победить судьбы, можно только сражаться с тем, кого судьба поставила тебе в спарринг. Вот и боремся. С другими борцами, но не с судьёй и не с тренером.
И уехав в город, мы ведь увезём и себя. И будем по-прежнему вздрагивать, услышав вой сирен, даже если прекрасно знаем, что это не за нами. Будем настороженно приглядываться к прохожим, исподтишка, чтобы они не заметили. Будем вслушиваться бессонной ночью в шаги на лестнице – замрут ли они этажом ниже, не доходя нашей площадки, пройдут ли дальше?.. И – о, ужас! – не стихнут ли напротив нашей двери? И так – всю оставшуюся жизнь. Не легче ли будет остаться здесь, где можно отслеживать любого чужака, и притом издалека. Здесь, на старых дачах, где обитают отверженные. Где свой мир, мир прекрасных осколков прошлого. И где нет никакого будущего… А сильно ли это отличается от города? Не иллюзия ли, что прекрасное и неизвестное ещё впереди? Те, кто остался после вынесения нам смертного приговора, они ведь тоже так думали. Да, неизвестное. Но совсем не прекрасное.
Может, я тоже поеду в город; и мы встретимся все вместе. А дальше… Я не предсказатель. Думали ли мы, считая себя законопослушными гражданами, услышать смертный приговор? А потом, что катастрофа этот приговор отменит? Я зарёкся предсказывать. Ничего неизвестно. И лучше готовиться к худшему. И может, это спасёт жизнь; вернее, даст возможность прожить ещё чуть-чуть. Но вот радости, так её точно никто не обещал.
На этом откланяюсь, добрый товарищ. Надо поспеть отнести письмо до ближайшей почты. Наше отделение опять затевает переезд, им никакая война или революция, не помешают свою малую катастрофу учинять.
хх. хх. хх. г.
Здравствуй, уважаемый приятель! Как, не забыл доброго товарища? Я, как и прежде, сижу на своих дачах. Старый друг хандрит-печалится, но держится пока. А вот ты меня сильно тревожишь – любовь, знаешь ли, штука зловредная…
И потом – я ведь на дачах, вдали от шума и суеты. А ты поселился на промке. Да, и там нынче не очень шумно, но – город близко, соблазнов много, добраться, кому не следует – много быстрее. Проконтролировать подходы – почти невозможно. Переодетому агенту по тайным ходам подобраться – раз плюнуть. Скажешь – легче уходить и прятаться? Верно, с дачи по полю не шибко и уйдёшь. На дачах – каждый человек на виду. И спрятаться негде. Вот и выбор – или прятаться надёжнее, или уходить в любой момент. А спрятался ты – спрячется и преследователь. Впрочем, волновались мы о тебе, когда стреляли. Промзона – поле для боёв благодатное. Говорят, что мимо прошло, и на то надеюсь. Знаешь, думал я тоже на заброшенных складах укрываться. Но вот скажи – что там есть-пить? Тому удивляюсь, как ты там жил. А как зимой грелся? Это надо к теплотрассе, но там – и рабочие-ремонтники, и просто прохожие, и бездомные, как и мы. Не укроешься. Говорят – в город выйти можно. Но там лучше не светиться. Хотя и много людей, и в толпе потеряться легче, и найти сложнее, а я вот вздохнул спокойно, как до старых дач дошёл.
Но скажи мне, уважаемый приятель, – ты ведь потому остался, что надеялся с ней встретиться? Хотя и надежды не было больше никакой? Вот и сила любви – кому даёт силы выжить, когда выжить невозможно, а кого и губит на ровном месте… Хотя место-то наше было совсем не ровное. На что надеяться, когда надежды больше нет? Спроси у влюблённого, он знает, хотя и сам объяснить не может. Я вот тоже не надеялся, что судьба отменит приговор, вынесенный судьями. А вот тебе и чудо, какого впредь не было. Но вот тебе пока что ничего не светит, и не будет светить никогда. Да и сможешь ли ты её принять? Да, она не поверила ни тебе, ни нам. А кто нам, спроси, тогда вообще верил? Мы и сами-то себе не очень верили. Жили-жили – а оказалось, что преступники, достойные смертной казни. Хотя юристы и говорили, что трактовать можно по-разному – от «невиновен» до «виновен по всем пунктам». Но вот идти в руки палачей не хотелось. Что-то останавливало, что-то говорило нам, что вины на нас нет. А для неё мы, как и ты, – просто беглые висельники. А теперь – что поменялось? Ничего. В доказательной базе ничего не изменилось, просто исчезли законы, под которые эта база подводилась. И всё.
Не говорю тебе – забудь. Не забудешь. Не говорю – брось. Такими вещами не разбрасываются. Говорю – переживи. Любовь – штука зловредная, и её можно только – пережить. Даже и неразделённую. Даже и тогда, когда она сопровождает нас до гроба. И когда до этого гроба – сто лет.
А вот у меня, видишь ли, свой персональный счёт, который предъявить некому. Помнишь того, которого мы называли нашим общим недругом и из-за которого мы все здесь? А я ведь не всё вам рассказывал, да и ничего не рассказывал, и вы знаете только то, что слышали на судебных слушаниях, и то, что потом передали знакомые, уже после оглашения приговора. А я знаю о нём намного больше…
Открою тебе секрет – была у меня цель. Найти его и отомстить. За всё. Но его нет больше. Во имя чего мне теперь свобода? Разве только рассказать вам, как всё было на самом деле… Как ты помнишь – обвиняли нас в покушении на убийство двух и более человек, с особой жестокостью, общественно опасным способом. И при этом убивать должны были не мы, а служили только подстрекателями – так трактовали наши разговоры и записи. Выглядит страшно, но ведь убийство совершено не было, и роль наша, мягко говоря, была странной. Но именно тот человек, наш общий недруг, давал толкования разговорам и записям – что мы имели в виду, когда говорили то-то и то-то. Мало ли кто и что толкует – может, он и в самом деле считал нас за подстрекателей. Да, нам не нравилась деятельность определённого чиновника, и мы считали его решения разрушительными. Но подстрекать к убийству никого не собирались.
А общий недруг – он этого и не понимал. И толковал слова превратно. Но именно его, а не наши трактовки, легли в основу приговора. Но я говорил с ним много раньше…
И он излагал мысли, которые я не принимал всерьёз, как и наши рассуждения о ликвидации опасного чиновника. Если б он возненавидел нас только за эти рассуждения!.. Или посчитал деятельность объекта критики правильной. Но он говорил о той ситуации, что случилась недавно, – он ждал её, готовился к ней. Его нисколько не смущали жертвы грядущей войны. Но и за это я не стал бы мстить – всё-таки обошлось довольно мягко. Он ненавидел тебя, и именно за твою любовь. Он питал те же чувства к объекту твоей страсти – но был далеко не столь щепетильным человеком. Боюсь, именно он первым известил власти о наших беседах. Причём далеко не из идеалистических побуждений. И не из благих. Он добился своего, убрав тебя с пути. Она стала его женщиной. Он добился своего, когда произошёл переворот, а вот смерть во время перестрелки – это обычный результат подобных деятелей. Только вот мстить теперь некому. И за тебя, и за всех нас.
Уж прости – надо было когда-нибудь тебе рассказать. Странная штука – жизнь. Мы готовимся к смерти – и прячем друг от друга тайны, чтобы легче было умереть в неведении. Не спрашивая, хотел ли об этом не знать несведущий. А во время жизни молчим, чтобы было легче жить… Готовимся к смерти, хотя страстно хотим жить, – но с гневом встречаем событие, что даёт нам эту жизнь. Да, я рад дарованной вновь жизни, но вот что будет теперь с окружающим нас миром, который безвозвратно рухнул? Дорогой ценой досталась нам жизнь… Мы живём снова – и мир вокруг снова новый. Мы когда-то родились, росли, познавая неизведанное – самое простое, самое обыденное. Потом привыкли, стали взрослыми, и обычное перестало тревожить, и перестало радовать, и мы его даже не замечали – глаз замылился. А вернее – ум. Но вот – мы родились опять, и надо заново узнавать окружающий мир. В этом плане нам повезло, конечно… Тем, кто был в городах, – им труднее, мир-то переменился, стал чужим, – а они и не умирали вовсе, и не могут теперь родиться заново, как мы. Нет, определённо не знаю, как бы мы жили, если бы приговор отменили, а всё осталось по-прежнему. Надо жить, будто ничего не случилось, а ты ведь заново всё узнаёшь. Но на самом-то деле – знаешь…
Вот такая интересная жизнь. Вот такие интересные люди. В том числе и мы. Но это так, частности. Сумею и без мести прожить. Мстить могилам глупо. Мстить можно только живым. И это тем более – новая жизнь, новое рождение. Пока живёшь, накапливаешь долги. Кто должен тебе, кому должен ты сам. И эти долговые расписки уносишь с собой на тот свет, оставляя живых с носом. У одних – не сходится баланс, потому как сумма не внесена; у других – непонятно куда девать платёж, предназначенный умершему. Сумма-то списана… Но вот умерший ожил, и все опять строятся у постели выздоравливающего. А у нас? Никого не осталось. Мы опять пришли без долгов. Чему я рад.
А всё-таки этот общий недруг стоит передо мной… Что он сделал с нами? Заставил познать то, чего мало кто знает, пройти через то, что мало кому удалось пройти. Если вообще удалось… Но он же избавил нас от своей участи, погибшего в войне, причём глупо погибшего. Или участи живого, но всё равно погибшего, ибо погибла часть нас, если не всё, что было у нас. Старый друг вон боится, как бы не повторилось ещё. Не знаю. То, что произошло, – случай исключительный, почти невероятный. Не выяснить бы, что мир в принципе невероятен и исключителен. Но это – потом. Это – не сейчас. Сейчас мы – живее живых. А если повезёт, как и сейчас, – таковыми и останемся. Вот и спас недруг нас от гибели.
Но вот тебя лишил самого важного в жизни. Кто-то скажет – и больше, чем жизни. Не знаю… Начну тебе советовать, мол – не твоё твоим никогда и не будет, а твоё – никогда и никуда не исчезнет. Но это – фальшиво, и притом – больно. Хотя куда уж больней… Можно снова встретиться с ней, сделать вид, что ничего не было. Но вот она – это тот осколок прошлого, тот якорь, что надёжно держит корабль на месте. Не знаю, что было бы, если бы её тоже не стало. Но она есть. Она хранит память о былом, а мир вокруг неё рухнул и отстроился заново, но ей в нём места нет. И мне много легче – я с прошлым миром ничем не связан, кроме смертного приговора. Но судьба вынесла приговор миру, а он – не успел надо мной привести в исполнение… Я ожил и живу в новом мире. А вот ты… Да, ещё моя месть. То, что я знал, что мне известно. Вот о тебе думаю.
Если бы он не дал показаний, то может быть, ты был бы счастлив с ней. И даже рухнувший вокруг мир не смог бы разрушить этого счастья. И даже сама смерть… А мы… Нам бы пришлось туго. У нас не было этого счастья. Но я без разговоров пожертвовал бы своим во имя твоего. Но – что было, то и прошло. И сослагательного наклонения не терпит. Месть горька, и не даёт счастья. Это ведь только долг, ещё один моральный долг. Кому отплатить. И чем отплатить. Кому добром, кому – лихом. И ушёл наш общий недруг, унося долговые расписки; и баланс мой так и не сошёлся. И я тебе, уважаемый приятель, ничем не заплачу – средств не хватит.
Видимо, так и рождаются дети должников. Долг на тебе уже висит, неподъёмный, а потому будут только штрафные проценты набегать. И дальше – передаётся по цепочке… Но ведь и кредитор никогда долга не получит, и сам разорится. Он так же нищ, как и ты сам. И вы вместе скитаетесь под крышей неба, в поисках крошки хлеба на помойке. А баланс – миллионы… На бумаге вы – богачи. Весь мир можете купить. А потом продать. А можно ли зачесть долги друг другу? Так ведь оно уже и так – всё зачтено! Богачи, которым все вокруг должны, скитаются по свету. Сколько тебе должны? Миллионы. Сколько должен ты сам? Миллионы. Взаимозачёт – и в итоге ноль. На том и разошлись – по свету счастья искать, которое в корке хлеба, не сильно плесневелой. Или пошли вместе.
Ну, до встречи, уважаемый приятель! Долго думал, стоит ли рассказывать. Надеюсь, почтальон в промзоне не заблудится.
хх. хх. хх. г.
Здравствуй, добрый товарищ! Обо мне не шибко беспокойся. У твоего уважаемого приятеля только один враг: это он сам. Других врагов у меня нет, и никогда не будет. Да и есть ли они у нас, враги-то эти самые? Только внутри нас: они терпят поражения, когда мы проигрываем, и они же терпят поражение, когда побеждаем. Сладу с ними никакого. Вот его победил, так и выиграл.
Из твоего письма понял, что ты, сознаваясь, что-то не договариваешь. Впрочем, исключительно твоё дело: каждый из нас имеет право рассказывать о том, что посчитает нужным, и право умолчать. И никто не имеет права требовать признаний или хранения тайны. И месть твоя – она ни к чему. Это никого не вернёт, и никому не сделает легче. Вот человек, что убил твоего близкого. Если убьёшь, воскреснет ли ближний? Нет. Ведь убийство – это чисто социальная и педагогическая задача: вот этот человек изведал вкус крови, и может убить кого-то ещё: значит, надо его остановить. Либо изолировать, либо обездвижить. И чтоб другим неповадно было: глядите, что будет, если сделаете так же. Но и это, как показывает многовековая история, никого ничему не учит и не останавливает. Человек абсолютно свободен и неуправляем: его невозможно сделать рабом, невозможно заключить в темницу, невозможно запугать: он остаётся свободным в выборе зла.
А мне – остаются только мои воспоминания. И непонятно, хорошо это или плохо. Больней мне от этого или, наоборот, легче. Кто знает… В первую очередь не знаю я сам. Ты прав: я оставался на промке только потому, что надеялся, что удастся встретиться с ней. А если нет, то хотя бы видеть её лишь изредка. Безумец ли я??? Пожалуй, да, как и все влюблённые. А те, кто не любит, намного ли нормальнее? Вот мы все: пошли прятаться от неизбежного. Хотя можно сослаться на то, что выбор был невелик. Либо камера смертников, либо вот такая жизнь. Причём очень недолгая: ну, кто из нас рассчитывал, что нам так повезёт??? Мало того: мы и не рассчитывали, что сменится власть. И не просто сменится, а полностью исчезнет. И вот – мы свободны. Могло повезти и мне. Могло… А вот – не повезло. Приблизительно на это я и рассчитывал, оставаясь на промке. Впрочем, теперь никаких чудес.
Может, оно и лучше было бы, если бы я осел на старых дачах. Мы же условились разойтись по разным углам: найдут одного – другие будут целы. А в куче зато легче заметить опасность. А мы и остались в куче, связанные письмами, которые бдительные стражи закона так и не удосужились проверить. Видимо, понадеялись, что не дойдут…
Может, на дачах было бы лучше жить. Промышленные корпуса зимой довольно холодные, и жаркие летом. Высокие потолки, широкие окна, широкие ворота, которые просто так не закроешь. Куча оборудования, о которое легко споткнуться и разбиться, а в лучшем случае – покалечиться. Легко провалиться в подвал, на нижние этажи, в технологические резервуары. Дым от костра виден далеко. Чтобы ночевать, нужно забиться в найденную щель. Но мне тоже повезло: рядом растут сады и заброшенный парк. Вот и дрова, вот и еда. Белки скачут по ржавым лестницам старых корпусов, забираются в обустроенные в парке кормушки, а вот воды им налить никто не догадывается, и они пьют из маленьких грязных луж на земле. А при приближении прохожих забираются обратно на деревья и сердито цокают.
Ты как-то боялся, что промзону застроят раньше, чем дачи. Но вот вопрос: если ты собирался отомстить, убить нашего общего недруга, то как ты это мог сделать, оставаясь на дачах?.. Можешь не отвечать, я уже писал в начале.
Раньше мы были равны. Ну, хотя бы приблизительно. Каждый из нас расстался с жизнью. Приговор есть, приговор в силе, если схватят – на юридические формальности уйдёт минимум времени. И стали мы беглыми каторжанами, в розыске, или революционерами-подпольщиками, или шпионами-разведчиками. Правда, нас к такой жизни никто не готовил. Премудростям конспирации не учил. А мы – мало того, что тайные агенты, так ещё и проваленные. Проваленный агент немногого стоит: только обратно его вывезти, либо на кого-то обменять. Куча мороки. И делать это будут за него. Наши рожи были всем известны, и приметы известны. Даже повадки и склад характера. В общем, ничего нам не светило. И легенды никакой не придумаешь. А жить по поддельным документам – дело более чем ненадёжное. И подделка-то кустарная. И гримёров у нас профессиональных не было. И пластических хирургов. В общем, прячься, пока хватает сил и удачливости, и нерасторопности охотников. Но теперь – мы не равны. Вы можете начинать жизнь сначала, а я – нет. Потому как и её тоже нет. Странное явление, правда? Она как раз-таки жива и здорова, хотя бы в физическом плане, но её больше нет.
Раньше не было её, не было и меня. Я был загнанным зверем, отсчитывающим последние секунды. И главное – никак не узнаешь, сколько ещё их, этих секунд. Да и жизнь в потайном логове, с постоянным контролем пространства, в ожидании конца… А вот теперь я ожил, восстал из могилы, а её – нет. Ожил я, или нет??? Что я без неё… Ни жив, ни мёртв. Я – сам себе враг; мне самому нужно теперь победить себя. Как-то же побеждал раньше, когда хотелось пойти, сознаться и принять смерть, потому что устал от борьбы. С совершенно глупой надеждой, что смерть на эшафоте много легче!! А ведь она, эта надежда, казалась менее глупой, чем дальнейшая борьба. Может, я сумею убедить себя, что такая нелепая и неожиданная удача приходит дважды и что, раз я свободен от смертного приговора, то может, что и она вернётся… Или я найду кого-то ещё, кто её заменит. Или сумею разлюбить, разбудить в себе ненависть, а то и равнодушие. Лечит ли время раны??? А лечит ли раны тела врач?.. Смотря какие, и смотря какой врач. Иной раз лекарь произносит приговор – и пациенту, и себе – раны несовместимы с жизнью; крепись, готовься встречать смерть. А иной раз и лекарь – полный неумеха. Или ему давно неинтересно, что будет с пациентами, – обычная лень, а то и ненависть. Иногда этот лекарь убивает своим лечением того, кто выздоровел бы сам. А иногда убивает и совсем здоровых. Так же и со временем: это смотря что за время, и смотря что за раны. Время – всегда ли оно одно и то же, или каждый раз разное, как те лекари???
Вот погляди, добрый товарищ: как много мы стали философствовать, размышлять о жизни, а всё почему??? Задумывались бы мы об этом, будь всё иначе??? Жизнь не даёт и мгновения на раздумья, а размышлять можно только тогда, когда уже умер. И сейчас ты утверждаешь и обосновываешь один тезис, а спустя минуту – противоположный. И каждый раз уверен в абсолютной своей правоте. А прав тот, кто не думает: он не ошибается. Тот, кто думает, кто делает логические выводы, тот всегда лжёт, всегда отклоняется от истины, ибо её не достичь. Сколько бы мы не знали фактов, всегда останутся факты, нам неведомые. В нашей мозаике мира никогда не будет хватать фрагментов. И обычно – самых важных… А каких???? Сиди, гадай, что там, в пустом месте, должно было быть. Впрочем, наша мозаика – это обычно только несколько кусочков, а остальное – тёмный лес. Великое море для предположений и догадок. Как горько тому, у кого в мозаике не хватает последнего, и самого важного куска! И как легко тому, чьё панно пустое: любой шаг, в любую сторону, самый незначительный – и он всегда правильный. А тот, кто почти всё собрал, – права на ошибку больше не имеет.
И мы заново научились писать шариковой ручкой. Рука отвыкла от клавиатуры. От сенсорного экрана отвыкла. Мы научились заклеивать конверты. Научились разбирать рукописный почерк. Отогреваем зимой дыханием, отогреваем в кулаке застывшую пасту. Нас подмывает оставить послание на стене, но мы помним, что по почерку можно легко опознать беглеца, хотя – кому они, эти признания, нужны?.. Кто будет их читать????
А я не могу её забыть, да и не пытаюсь. Стараюсь только убедить себя, что хочу забыть, а думаю только о ней. Кто пытался пять минут не думать о белом медведе? У меня, между прочим, получалось: я думал о чём-то ещё. А вот теперь – нет. О ком мне ещё думать? Мы были молоды. А на молодость не спишешь. Теперь, спустя одиннадцать лет, мы всё ещё молоды??? Кто знает… Вроде и не старые. Дурачиться уже не выйдет, а поучать других жизни ещё рано. Как в старом анекдоте: ужинать уже поздно, а завтракать ещё рано, и что же теперь делать???
Она носила короткие юбки, и когда садилась, то было видно её трусы. Я любил их разглядывать, а она возмущалась и требовала, чтобы я не разглядывал. Или делала вид, что возмущается. Ещё она носила низкие джинсы, и опять было видно трусы, а иногда и отдельные волоски, выбившиеся из-за пояса. И опять она возмущалась, а я рассматривал. И ещё были прозрачные брюки, и опять было видно трусы. Иногда она надевала топ на бретельках, и если бретелька сползала, то выглядывал кусочек соска. И опять я разглядывал, а она возмущалась. Обзывала меня некультурным, и мужланом, но, чтобы не смотреть, надо было быть либо гомосексуалистом, либо импотентом. Либо быть человеком высочайшей духовной жизни, который сумел побороть все страсти и приблизиться к совершенству. А я – обычный мужчина, и собирался жениться, и завести детей, и, конечно, она влекла меня как женщина. Много женщин на свете, а нужна одна-единственная. А именно она недоступна… А более всего мне нравилось её платье-разлетайка. Мой друг-ветер любил играть с платьем, позволяя мне узреть не только её трусы, но и пупок. А если трусы были очень низкие, то и волосы на лобке. А главное: ветер любил неожиданные атаки. Вот всё тихо на улице, и тут взлетает пыльный смерч! А девушки и ахнуть не успевают… Но мне не до них. Пару раз он поднимал её платье до самой груди, позволив мне на миг увидеть соски. Сколько нелестных эпитетов я слышал в такие моменты!.. Один раз она даже ругнулась матом и оттолкнула меня, после чего долго и стыдливо краснела, пытаясь одновременно изобразить гнев…
Но – это всё в прошлом. Пустое. Она есть, но её больше нет. Какая-то часть меня умерла. Поверит ли она теперь???? Но ведь ничего не изменилось. Ведь не новые обстоятельства в деле открылись, не судья изрёк, что мы невиновны. Мир рухнул вместе с приговором.
На этом откланяюсь, добрый товарищ. Спасибо за помощь, но кто мне поможет, кроме меня самого???
хх. хх. хх. г.
Доброго времени суток, надёжный спутник! Обо всех я беспокоюсь, а вот о тебе… И не знаю – что лучше. То ли беспокоиться больше всех, то ли вообще не беспокоиться. Меня, доброго товарища, ты знаешь прекрасно. Всем пишу, всем надоедаю. Пытаюсь помочь, а особенно – советом. Потому как с делами – полный швах. Но вот ты-то…
Ты – фрукт особый даже среди нас. Остался в городе, в самой гуще, где кругом шныряет полиция. Или просто стоит и ходит. Где на остановках и в трамваях висят фотографии особо опасных. Где могут запросто остановить и попросить предъявить документы. А вот ты остался. Все мы пробовали так жить, с поддельными документами, на съёмных квартирах, в общагах, зубрили легенды, устраивались на работу, с наглым видом подходили к полицейским и просили показать дорогу. В общем, пробовали жить настоящей жизнью нелегала, внедрённого во вражеский стан. Меняли обличья, меняли маски на лицах, меняли речь. Но это только затем, чтобы уйти из города и залечь на дне. А ты – остался. Настоящий внедрённый нелегал, меняющий лица и легенды, меняющий походку и осанку. Всего лишь работа… Или жизнь? Жизнь, прожитая вдали от родины и своих. А потом – возвращение с триумфом, о котором никто не знает, кроме нас. И мы уже отвыкли от своих, а маска въелась в душу, и попробуй-ка её теперь отлепи. Оставшуюся часть жизни надо снова отвыкать и привыкать. Никто не знает о том, что ты сделал для окружающих.
Но ведь это не о нас. Это только о тебе. Мы спрятались, не выдержали, залегли на дно. Впрочем, мы ведь и не шпионы, не агенты – не собирались мы этого ничего делать. А пришлось. Просто чтобы выжить, будучи мёртвыми. Нас никто не готовил, надо было постигать эту науку методом проб и ошибок, и притом первая же ошибка – это смерть, которую так старательно отсрочиваешь, и надо с первой попытки отвечать правильно, и делать правильно, не зная, что в экзаменационном билете, ни разу не читая учебник. И чудо, что мы сдали. И всё на пять! Но ты – ты остался, и до сих пор жив и здоров. Но пока мы каждый день ожидали прихода палача, и ещё более вспоминали о тебе, в самой гуще ищущих, – и вот мы дождались крушения вынесших нам приговор. И теперь нервное напряжение стало ещё больше, хотя и раньше было запредельным, и вот опять ты – в самой гуще перестрелок и боёв, когда ищут и убивают. И ты опять цел и невредим! Но самое главное – даже не в этом. Мы ведь отвыкли и забыли, что есть большая жизнь. Она умерла для нас, и мы её уже похоронили. Мы не думали о возвращении. Вернее, не представляли, что это возможно. А ты – ты жил там, в гуще жизни. Она, опасная и смертельная, была рядом с тобой. И… И ты видел её гибель. Ты отличаешься от всех нас. Для нас – это лишь отзвуки дальних боёв, для тебя – летящие мимо пули и осколки. Не знаю, что нужно было для того, чтобы остаться, – то ли недюжинное мужество, то ли трезвый и холодный расчёт, а может, безумная храбрость и бесконечная глупость. Знаешь ли ты сам? Но вот – мы оживаем после смерти, восстаём из морга. Оглядываем, привыкаем, снова надо учиться жить. А ты? Ты-то – как?.. Ты был жив, не покидал пределов палаты, хоть это палата смертников. При тебе рушилась больница, при тебе её строили заново. Странно – ты ведь смертник вместе с нами. Но мы – умерли, вновь ожили, а ты – как? Ждал ли ты возвращения жизни, когда можно было умереть по второму разу?
И поддерживать тебя вроде незачем – ты и сам, кого хочешь, поддержишь. Старый друг – хандрит, уважаемый приятель – тот с собой борется. А с кем и с чем борешься ты? Глупый вопрос, конечно. Каждый из нас просто хотел отсрочить казнь как можно больше. Это заставляло быть осторожными, умными, проницательными. Иначе – не выжить. И выжили. Я вот постоянно верчусь, как на шиле, пишу письма, хотя это опасно, и писать надо было как можно реже, а лучше – вообще не писать. Но не писать – могло быть ещё опаснее. А ты – загадка. О тебе известно меньше всего. И может, это потому, что ты обязан был быть постоянно кем-то ещё, и никогда – самим собой. А снять маску даже наедине, показать пустоте истинное лицо – смертельно опасно. Тем более что нет у тебя никакой пустоты и никакого наедине. Одна маска, вторая, третья… Всё синхронно, всё каждый миг – под контролем. Здесь, на старых дачах, мы можем предаться воспоминаниям, осознать себя, осознать жизнь, осознать смерть. И даже на промзоне у уважаемого товарища, где расслабляться – некогда.
Но я, знаешь ли, волнуюсь. Вот мы воскресаем, реанимируемся, снова начинаем жить, снова учимся жить. Мы – новые, мир – новый. А ты? Вроде бы ты и умер, когда прозвучал приговор, но понял ли? А вот теперь – не обрушится ли на тебя осознание, что это уже другая жизнь, и это живёшь уже не ты, а кто-то другой? И мир вокруг нас – тоже умер, рухнул, исчез, а нынешний мир – уже новый, и здесь всё по-другому? Осознал ли ты это, когда всё произошло прямо у тебя на глазах? И сумел ли всё понять и принять? Если да – молчун ты первостатейный. Такое ощущение, что осознаёшь не ты, а твоя маска, тот вымышленный человек, на которого выданы твои фальшивые документы; твоя легенда, вызубренная до самого дна подсознания. И ещё маска, и ещё легенда, и ещё, и ещё… Новые маски, новые легенды, сменяющие одна другую. И нигде – ты сам.
Не знаю. Может, это и к лучшему. Может, так много легче пережить то, что нам пережить пришлось. Не задумываться. Просто надеть маску. Просто изложить легенду. И всегда носить запас масок и легенд на все случаи жизни. Не пытаясь ответить на вопрос, а кто ты есть сам. Потому, что ответь-ка – а кто ты? Где не маска и не легенда? Но как при этом жить, когда всё закончится? Есть ли такая маска и легенда – для обычной жизни?.. Я вот пишу тебе и думаю: а как ты это читаешь? И где? На людях, надевая маску скуки, или живейшего интереса, или тихой радости? В парке, на скамейке под старыми деревьями, в автобусе, когда мало пассажиров? Пытаюсь представить – и не могу. И ещё меньше – как ты пишешь ответ.
Ну, это ладно. Как говорит наш уважаемый приятель – каждый из нас вправе сказать то, что думает, и вправе смолчать, но никто не вправе выспрашивать. Если дела настолько плохи, что хуже быть не может, то дальше будет только лучше, или, как минимум, хуже не станет. А если всё-таки станет, значит, сейчас ещё не всё плохо. И если ты не крутишься в одном колесе с изгоями, то можешь хотя бы изображать не изгоя. Может, привычка изображать нормальную жизнь, забывая при этом, кто ты есть, и кем ты был, и как ты до этого дошёл, – она поможет тебе и в дальнейшем, играя роль человека, с которым ничего особенного не случилось, да и совсем не случилось. Кстати, как там с едой, в городе? Революционные перемены расширению ассортимента и снижению цен явно не способствуют. А дивный новый мир тем и дивен, что социалка рухнула. И пока она ещё восстановится… А как восстановится – то значит, что мир стал старым, и его надо по новой снести. Круговорот революций в природе. Весело и радостно.
Может, ты станешь нашим гидом по этому новому миру, когда мы выберемся из своих убежищ. Расскажешь, какого это – постоянно быть на арене, постоянно играть роль, постоянно класть голову в пасть ко львам и обвивать вокруг шеи удава, не зная, пройдёт ли трюк ещё раз. Или всё-таки клоуна, над которым все потешаются?.. Гимнаста, висящего без страховки под куполом? И как ты перевисел, когда тигры вошли в зрительские ряды и съели некоторых, а сам цирк – сгорел? И как избежать падающих горящих обломков? И главное – когда над тобой снова начинают возню строители, возводя новый купол? Кстати, вот почему мы до сих пор не в городе – отстроен ли наш цирк? Может, потребуется наша помощь, и скорее всего так, ибо постройка нового – это годы и десятилетия. Но пока ничего не понятно.
А мы – пока только готовимся, осознаём. Выходим из камеры смертников на свободу по милости судьбы. Ты – стоял в праздной толпе в чужой маске, изображая невинного, а мы отсиживались в подвалах и чуланах. Отвыкли от света. Отвыкли от свежего воздуха. Привыкли к затхлой воде, сырой постели, плесневелым коркам. А ты – привык к маскам, к чужому акценту и выговору. Да, твоя судьба – это особый жребий даже среди нас, и так уже выделенных из всех.
Я – пытаюсь это понять. Пытаюсь осознать. Пробую принять то, что произошло. Ещё раз повторяю себе, убеждаю самого себя. Давлю внутреннее неверие. Надеюсь, у старого друга и уважаемого приятеля это тоже получится. Даже надеюсь, что и у меня – получится. А вот ты… Мы ведь могли остаться с тобой. И навряд ли бы из этого вышло хоть что-то хорошее. Скорее всего, давно бы встали к стенке… И ты мог бы быть с нами. Но – в тот памятный вечер, тихонько оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху, а вернее – пытаясь разобрать в городском шуме непривычные, угрожающие нотки и отзвуки, пытаясь углядеть в мерцании огней признак неминуемой опасности, мы решили разойтись. Четверых найти легче, чем искать по одному. И споры же были… Останься мы вместе, то и судьба была бы у всех одна – будь она горькой или счастливой. А разбежавшиеся друг за друга больше не в ответе… Нам повезло несказанно. Вот выжил бы я один. Или двое. Да что там – и трое. А что дальше? Как смотреть по утрам в зеркало? Убрать зеркало, подобно вампиру. Там нет ничего – ты умер. Умер как человек. Остался призрак, некая видимая оболочка. Ведь многие, умершие достойно, а тем более – героически, они видны в зеркале, хотя их оболочка давно превратилась в прах. Они живы как люди. Многие ли из тех, кто глядятся в зеркало по утрам, видят там себя? Но вот – тебя в зеркале нет, а ты вроде бы и жив, но стоит и глядит другой, которого давно нет на свете. Можно разбить зеркало. Но что это изменит?!
И, хотя нам не в чем упрекнуть друг друга, и мы снова живы вместе, но разве это твоя личная заслуга? Это заслуга каждого, но по отдельности, кто прятался и уходил. А будь мы вместе, то твой личный успех в игре в прятки – это и успех всех остальных. Провалился один – провалились все. Только одно слабое утешение – каждый из нас знал, что его смерть повлечёт непоправимый удар для остальных. Взять хотя бы эти письма… Они и соединяли нас в единое целое, помогали держаться, они же и грозили погубить всех в случае провала одного. Я вот не знаю, кто хранит эти письма, а кто уничтожает, и даже не представляю, как тебе сложно их сохранить, но мои – вот они, все рядом. Тщательно сложенные и сохранённые. И ни съесть, ни сжечь в случае опасности – тут физически времени не хватит. А вот могли бы мы без этой связи продержаться одиннадцать лет? Вопрос…
Впрочем, до встречи, надёжный спутник! Скоро постараемся выбраться к тебе.
хх. хх. хх. г.
Доброго времени суток, добрый товарищ! Ты верен себе (по сто раз повторяешь одно и то же). Впрочем, я из тех маньяков, которые считают, что дважды рассказанный анекдот смешон вдвойне. Да нам сейчас, видимо, только и нужно, что постоянно болтать, не умолкая. Такое уж наше весёлое положение. Да и обо мне беспокойся не очень крепко – нам всем приходится соблюдать конспирацию и надевать маску (а вам и того хуже – вы в незнакомой местности, в незнакомой ситуации, и любая щепка в ваших краях за версту видна). Так что за надёжного спутника не переживай.
Правда, твои выводы меня иногда, прямо скажем, пугают (ты, часом, в экстрасенсы не подался? Или в детективы…). И ты, добрый товарищ, бываешь на удивление точен, вскрывая суть нашего положения, да и чужие мысли (мои, например). Так это, или нет, на логику ты полагаешься, или на звериное чутьё, но что есть, то есть. А я – никакой не гимнаст под куполом, и не укротитель, а самый обычный клоун, что шастает по улицам и смешит людей. Каким был до приговора, таким и остался. Проблема в том, что клоуна не принимают всерьёз (скажи – возможно ли, чтобы клоуну вынесли смертный приговор?!). Тогда это уже не клоун. А я им остался. Проблема непонимания – либо для клоуна, либо для зрителя. Клоун не может сказать никому ничего серьёзного. А может издеваться над непонимающим зрителем. Я, по мере возможности, издеваюсь. Клоуном и останусь, и до сего дня остаюсь. И в самую тяжкую годину клоун выживает.
Буду ли я шутить и смеяться на плахе? Нет. Но смех позволяет избежать плахи. А в каждой шутке далеко не всегда есть хотя бы доля шутки. Иногда шутка – это сама соль и суть вещей, сама серьёзность и голая правда. Но когда этого не понимают – смеются (очень тяжело придумать ложь, в которую поверят, но много легче изречь правду под видом анекдота, и её будут считать шуткой). Это и позволяет мне жить, как я жил и живу. Я смеюсь надо всеми и над всем, и мне верят. Фотороботы, висящие в людных местах, вручённые сотрудникам полиции, – они слишком серьёзные. Смешных и весёлых там нет. А если ты весел и смешон – то и полиция внимание не обратит. И даже документов не спросит! (Помнится, я исхитрялся входить в автобус без билета, и мне верили.) Вот брать продукты без копейки в кармане ещё не пробовал (а надо попробовать!). И ты, прочитав, тоже поверишь, а мне верить следует не всегда (привык водить стражников за нос). Но вот многое подозреваешь, и подозреваешь правильно.
Легко ли вжиться в роль? Тяжело. Практически невозможно. Но мне повезло (я давно вжился в эту роль). А главное – в какую-нибудь роль придётся вживаться всё равно, будь то роль гимнаста, или укротителя, или фокусника. Вот роль фокусника – это интересно! Почти такая же загадочная фигура, как и клоун. Хотелось бы быть фокусником… Внимательно смотрим за руками (а главное – не в руках!). И кролик исчез, а явился красный платок, и попугай выпорхнул, и полетел, ругаясь матом… Такой же неуловимый, как и клоун, фокусник может стоять посреди стражей порядка, и никто его не опознает (опознали, хвать – а нет его! И явился кто-то ещё, и все в недоумении. А фокусник тихо уходит задними дворами.). Вот это тот, кто может выжить и на плахе – голову отрубили, а не ему. В отрубленной голове с ужасом узнают палача, а то и самого судью. Поди разбери – кто же теперь виноват, кого наказать и как (а фокусник опять тихо уходит задними дворами.).
Да хоть пилой его пили! Ящик пустой. Вот этого мастерства мне остро не хватает. Фокусник никогда не говорит и не показывает правды (только иллюзию правды, да и та – ложь). Конечно, есть ещё укротители, а с тигром или с удавом не сильно поспоришь. Но и самый мощный зверь рано или поздно умрёт, а без такой поддержки укротитель – ничто. Можно взобраться, подобно гимнасту, на самую высокую башню, и никто тебя оттуда не стащит. Но вечно сидеть на верхотуре – печально.
Такой вот цирк жизни. Зрители думают, что они зрители. Что львы их кушать не будут. И что не им срываться с трапеции под куполом. И что не они вызывают всеобщий смех. А главное – понять. И принять. Уж лучше – клоуном (зверь тебя не съест, лонжа не оторвётся). И, конечно, фокусники… Но кто умеет прятать чужие кошельки? И вручать другим? Незаметно… Те, кто думают, что они зрители, надеются на своих людей, сидящих в зале. Кто будет добровольцем? Вот он! Поглядите в шляпу. Ничего нет? (Правильный ответ – нет, даже если шляпа переполнена.) И никто из них ничего не сможет, когда своих добровольцев нет! Глупо рассчитывать на пластиковые кирпичи, демонстрируя зрителям крепость черепа. Ну, это если своего… На чужом – можно и настоящими кирпичами. Но это дозволительно только клоуну. А на самом себе – только настоящему фокуснику, что умеет незаметно подменять кирпичи. Великое цирковое искусство – да ты есть сама жизнь!..
Кто-то догадывается, что проделал фокусник, и куда он спрятал верные карты, и откуда вытащил краплёные. Кто-то догадывается, что на самом деле имел в виду клоун за глупой и сальной шуткой, и тогда становится не по себе… А вот ты, добрый товарищ, о многом догадываешься, и надеюсь, что сам этого не понимаешь (а то ведь и клоуну, и фокуснику тоже становится как-то не по себе). А укротителю и воздушному гимнасту – им всегда не по себе (впрочем, недолго).
Нет, есть у вас передо мной преимущество, если это преимуществом можно назвать (скорее, мы просто разные, и даже не в силу характера, а в силу сложившихся обстоятельств). Вы имеете возможность погрузиться в себя, осмыслить впечатления, опыт, отлучённые от бурного течения жизни (этакая старица, давно отгороженная от течения реки песчаными наносами). У вас есть время остаться наедине с собой. Лицом к лицу. А у меня этого нет. Я продолжаю наблюдать цирк жизни во всём его великолепии! Съеденных укротителей, разбившихся гимнастов, незадачливых фокусников (которые, в силу небольшого ума, полагаются на купленных зрителей, готовых подтвердить, что шляпа пуста). Мне приходится думать о себе, думать постоянно, но (!) исключительно в рамках роли клоуна. Представления никто не отменял. И я – один из игроков и участников. И несёт меня бурное течение по всем лихим изгибам русла; и как-нибудь принесёт обратно, где мы встретимся (когда течение вновь вскроет древнюю старицу). Что бы я там делал, на старых дачах?! Играл бы перед зеркалом?!? Это можно, конечно… Но ненадолго, в гримёрке, чтобы поглядеть, кем ты предстанешь перед зрителями. Конечно, тяжеловато без гримёрки… И без репетиций. Но клоуну простительно и это. И пусть говорят даже такие мастера экспромта, как французы, что лучший экспромт – это заранее подготовленный экспромт! А кто сказал, что у меня ничего не подготовлено?! Есть набор дежурных шуток, ибо мир не меняется. Что смешно сегодня – будет смешно и завтра, и целую вечность. Воистину шутка судьбы – что наш смертный приговор отменён. Вы удивитесь – но с крушением старого строя ничего не поменялось. И вдвойне шутка, что нам, абсолютно безобидным людям, этот приговор был вынесен. А те, кто заслуживали подобной кары – они остались на свободе и снесли государственную машину! Вероятно, вы ещё более удивитесь, но те, кто нам выносил приговор, они и были теми людьми, что крушили систему. Они уничтожали сами себя! Пилили сук, на котором сидели, собирая яблоки. Но то ли им было лень яблоки по отдельности собирать, то ли дотянуться не могли – а пожадничали.
Это их поведение я так себе объясняю. А может, они так полюбили нас, и так пожалели о своём решении, что решили исправить ошибку, сохранив лицо (лучшие шутки получаются, когда что-то делаешь слишком серьёзно). А может, решили выудить нас, вынудить выйти на свет, создав иллюзию развала, да сами и не справились с процессом (то ли увлеклись, то ли что-то пошло не так). Но воздадим должное противнику, стрелявшему в нас и промазавшему, и давшему тем самым нам возможность выстрелить в ответ, и точно. Конечно, людей стоит судить за намерения, а не за то, что получилось в итоге (иначе пришлось бы вешать героев и восхвалять мерзавцев). Каждый отвечает только за самый ближний по времени и пространству участок, а не за глобальный миропорядок. И не солдатам Кутузова думать о Гитлере (им надо думать о Наполеоне). А нам и своих забот хватит. Надо возвращаться к повседневным делам. Много чего могут сделать без нас, а в итоге выходит, что кроме нас-то особо делать и некому… И незаменимых нет (что может решить один простой солдат в войске?!). Но каждый штык – на счету!
А в нашем случае – нужно восстанавливать разрушенное, не дать развалиться тому, что ещё не упало (например, мы сами), благо возможность теперь есть. Клоун, повторюсь, и без всякого цирка остаётся клоуном. А гимнасту нужна трапеция, а укротителю – клетки со зверями. Настоящий фокусник и из воздуха вытащит инвентарь. Так что восстановится наш цирк. Куда же без него? А ты, добрый товарищ, и без меня до многого додумавшийся, поищи себе работу рабочим сцены. Ты привык быть незаметным. А это тоже весьма интересная роль. На рабочего сцены никто не обращает внимания – вроде бы что-то такое, как и бутафорский предмет. А одно его движение руки – и падает гимнаст из-под купола, и крокодил кушает укротителя, или зрителей, и даже клоуну, а то и фокуснику как-то не по себе… А главное – никаких талантов особых не нужно. Только понимание того, как механика цирковой сцены работает. А понимание у тебя есть. Без цирка вот прожить не сможешь – но кто тебя запомнит, когда цирк сгорит?
На этом откланяюсь, скорчив смешную рожу, от которой давно никому не смешно. До встречи на арене! Без подстраховки и конферансье. Твой надёжный спутник.
хх. хх. хх.г.
Ну, здравствуй, уважаемый приятель! Привет тебе со старых дач, от старого друга. Пока нас активно пытаются расшевелить – добрый товарищ своей активной мотивацией, надёжный спутник своими плоскими шуточками, – мы же предаёмся печали; я от того, в какую кашу мы попали, а ты от своей погибшей любви. И никто нас от хандры не излечит; только время зарубцует раны, ноющие к непогоде. Протез – не замена рукам и ногам; слуховой аппарат – не замена перепонке. Тем более – инвалидная коляска, или белая трость в руках… Таковы теперь будут и наши души. Добрый товарищ пытается бороться с ситуацией, надёжный спутник – тот вообще хитрец скрытный; но сдаётся мне, что в душе у них те же протезы, коляски, белые тросточки. Мочесборники, электронные табло для немых… Душа остаётся покалеченной, как ты от людей протезы не прячь. Люди об этом не подозревают – так молодцевато идёшь. Но дело не в людях, а в тебе; и дома снимешь натирающий культю протез, оставшись со своей бедой наедине. А даже если б люди и знали, могли б хоть чем-нибудь помочь? Никто не сможет отрастить тебе новую руку и ногу; и ты тоже не сможешь. Остаётся жить с этим; будем жить. А сочувствия – это ни к чему. Скрываем, как можем, свою печаль от людей; и чтобы никто не стал пытаться помочь при полной невозможности помочь. От такого участия только больней.
Вот и суди сам – мы все четверо пережили одно и то же. Но сумеем ли мы понять друг друга? Положим, сумеем понять. И что с того, что сумеем? Положим, остались бы все вместе. Но сумели бы и тогда понять лучше? Или стать другими? Пережить по-другому? Стать кем-то ещё, отличным от того, что мы есть сейчас? Вопросы, вопросы… И никакого ответа. Вот и ты – переживаешь о разбитой любви. И если б не случилось приговора в нашей жизни, а недруг всё-таки её увёл – то для тебя это было бы тоже, что и сейчас. Такая же трагедия. Она ведь просто наложилась на этот приговор; приговор стал причиной. Причина могла быть и другой. И ты бы переживал не от приговора, не на промке, а у себя дома. И мир был бы таким же чёрным и безнадёжным. И ничем не отличалось бы твоё положение от нынешнего. Мы бы жили, были бы счастливы, или ругали жизнь. А ты – был бы, как и сейчас, в горе и печали.
А я – разве смог бы так убиваться по женщине? Да, тяжело. Но не смертельно. Бывает. А вот смертельный приговор – это сломанная жизнь. Годы на нелегальном положении, в ожидании смерти. И смерти позорной. Я вот думаю – если бы она всё-таки не ушла от тебя, мог бы ты спокойно встать к стенке, согреваемый любовью? Мне это недоступно. Может, я не умею так любить, а может, просто не случилось. А может, ещё и случится. Но ведь тебя печалит именно не наше положение: не приговор, не тайный страх быть выданным. А меня – только это. Можно выйти на свободу с чистой совестью; можно сказать себе – я оступился; а можно сказать – да, я был прав, а вот судили меня неверно. Но даже если удастся выправить документы – это ничего не значит; тюрьма будет запечатлена в душе. Изменится взгляд, изменятся повадки, изменятся слова. Тон голоса, словарный запас, грамматические конструкции и обороты. Может, что никто не догадается, да и знать об этом не будет – но главное, что перемены есть. Да и сам можешь об этом не догадываться. Только тот, кто знал тебя раньше, подивится переменам.
Мы не знали тюрьмы; мы знали только смерть. И она наложила на нас свой отпечаток. Да, все мы умрём. Но какое из этого утешение, пока мы живы? Этак можно сразу лечь в гроб и ждать смерти. И не утруждать себя никакими земными заботами. И каждый хотел бы умереть глубоким старцем, на своей постели, тихо и мирно. Но есть что-то ещё… Ведь и у нас есть этот шанс, и он снова появился; но что же сейчас с нами? Есть ли рецепт, как смыть печать близкой смерти? Или эту печать можно носить десятки лет до глубокой старости? Чем-то я себе напоминаю древнего Агасфера – он живёт вечно, и не может умереть, пока стоит мир. Мне предстоит смерть более быстрая; но вот сейчас, когда приговор самоотменился, я чувствую себя тем самым Агасфером. Так было с Достоевским; люди стоят у стенки, ждут залпа, и тут звучат слова о монаршем помиловании… Двое сходят с ума. Дивно, как никто из нас ещё с ума не сошёл, хотя и в этом я не уверен. Розовые слоны не летают по небу, а из-под кровати не лезет грязевой монстр. Разве что ёж, но он – совершенно реален, и летом приручен. Надёжный ли это признак, что ты – не сумасшедший? Палата № 6 намного надёжнее кукушкиного гнезда – в ней нет гидропульта, чтобы прорвать сетку на окне, да сетки нет, и окна нет. А самая большая тюрьма – это мир. Ходи, куда хочешь; но из мира не сбежишь. Есть только один способ сбежать, и он неприемлем. И не больше ли мужества нужно, чтобы принять неизбежное, чем пытаться побороть необоримое, заведомо зная, что ничего не получится, а всё равно бороться?
Говорил мне один знакомый, переживший клиническую смерть, что самое тяжёлое – это возвращение к жизни; это очень больно. Физически. А вот мы попрощались, помахали провожающим, сели в самолёт… А потом нас ссадили, и мы возвращаемся обратно. В свои дома, где наши кровати уже выброшены и комнаты заняты. И чемоданы поставить некуда. И нас больше не ждут. Как неожиданно вернувшийся из тюрьмы заключённый, которому сократили срок. Или смертник, которому отменили казнь… Восставший из могилы мертвец, вернувшийся домой. Бумбараш, которого похоронили, как героя. А живых героев не бывает, они только мёртвые. Поставят твой портрет, будут говорить с гордостью… И тут ты. Живой, и даже здоровый. Интересно, нас не будут поминать, как жертв предыдущего правления? При одной мысли об этом страшно становится. Если бы всё можно было вернуть, как раньше; хотя бы внешне. Обычные люди в обычной толпе. В толпе неповторимых индивидуальностей.
И у тебя этой прежней жизни уже не будет в любом случае, уважаемый товарищ. Я бы смог найти себе другую женщину, по крайней мере я так думаю. И ничем не могу тебе помочь. И никто не может. Да и ты сам… Это как стоять у постели умирающего, держать за руку, клясть врача. А врач понимает, что дошёл до предела своих возможностей и мастерства. Травмы, несовместимые с жизнью.
Странное у нас положение. Вроде бы мы мертвецы. А вроде и поддерживается жизнь искусственно, а мозг умер. А вроде и живые, но не можем ни пошевельнуться, ни дать о себе знать; но всё прекрасно слышим и чувствуем… как нас хоронят. А вроде бы и живые, но инвалиды. А может, не инвалиды, а зачумлённые, прокажённые, к которым никто не смеет приближаться. И главное, любой прохожий скажет нам – идиоты! Живите, и радуйтесь!.. Кто же вам мешает?! Он не был в нашей шкуре, вот и весь ответ. И пускай это стандартный ответ любого слабака. Эти силачи не пытались поднять наших тяжестей. И бахвалятся. Они ругают врача, ругают столпившихся у постели. Но никто из них не подойдёт к умирающему. Так кто же из нас злодей – мы, или они? Легко судить других, не испытывая то же самое. Вот и нас судили… Но с теми судьями вообще разговор отдельный; они знали, чего добивались. Они видели в нас опасность, выходящую за рамки закона; даже если мы на самом деле никакой опасности не представляли. Нельзя судить по закону – надо быть выше закона. А праздные зеваки, так им всё равно; они ничего не понимают. Они видят и оценивают других только в своих узких рамках. И не в состоянии взглянуть дальше.
Добрый товарищ думает, что всему виной – наш общий недруг. Но ведь дело не в нём, а в судьях, что послушали. Он ведь ничего не придумывал. Да и мы не скрывали. А женское сердце… Да и не только женское. Если тебе не сохранили верность, не стоит о том убиваться. Этот человек тебя не стоит. Скажу тебе, вне зависимости от того, как ты это воспринимаешь; вне зависимости от того, поможет ли это тебе или нет. Не поможет. Но мне ничего не остаётся, кроме повторения. Как и у врача, который умирающему человеку назначает то же лекарство, которое в данном случае слишком слабое; потому что не может не лечить и спокойно, опустив руки, ждать смерти. И все мы пытаемся друг друга лечить, и никто не пытается лечить сам себя. Виднее ли со стороны, в чём причина, и как с ней бороться, или всё-таки изнутри, из тех глубин, которые доступны только тебе самому и которые ты не выскажешь, даже если и попытаешься? Как много вопросов… Как мало ответов… А может, что никаких ответов нет, и даже вопросов тоже нет. И лечения никакого нет, и никто не умирает. И никто не остался инвалидом. Может, это наше воображение, и ничего больше.
А может, что и мира никакого нет, и всё, что происходит, это только картина в нашем мозгу. Предполагать можно всё что угодно. Но мы упираемся в наши рамки, за которые заглянуть не в силах. А гадать можно и придумывать, но опять мы упираемся в эти же рамки. Ньютон пытался выяснить скорость света при помощи двух фонарей. И мы пытаемся понять, как должен жить человек, которому отменили смертный приговор путём уничтожения старого суда. Как надо выйти из своих нор, и куда потом идти. Есть надежда… Ведь и в норах мы не жили, и не представляли себе, как это. А вот научились же. Надеюсь, и ты научишься жить без любви; вернее, с разбитой любовью. Научились искусству шпионской жизни, не будучи шпионами. И никто нас не готовил… А может, что так оно и лучше.
А мир катится вперёд, и нас не спрашивает. И мы поневоле катимся вместе с ним. Пассажиры мы, или водители? Скорее всего, водители, но на узкой и скользкой дороге. И заносит нас, ударяя в бордюры, снося в кюветы. И застреваем на обледенелых подъёмах, и жди оттепели, пока растает. А на обледенелых спусках летим вниз… Вьёмся по горным серпантинам, стараясь не глядеть в глубокие пропасти; несёмся по равнинам, где нет никаких поворотов, и вообще не за что глазу зацепиться, и где монотонность убаюкивает, усыпляет; на длинных мостах боковой ветер сдувает к перилам. А мы – продолжаем путь. Кто-то сорвался в пропасть, кто-то заснул и на полном ходу ушёл в кювет. Другие останавливаются, смотрят… Ничем не могут помочь. В пропасть может спуститься только альпинист; на дно реки – только водолаз. Едем дальше. Кто тебе поможет, если сам слетишь с дороги? Не слетай. Баранка – только в твоих руках. Тормоз, газ. Фары ночью. И никакого встречного движения. Никто не расскажет, что впереди. Каждый – первооткрыватель.
На этом прощаюсь, уважаемый приятель. Береги себя.
хх. хх. хх. г.
Здоровья тебе, старый друг! Физического и, не менее того, душевного. И опять же, не беспокойся об уважаемом приятеле. Мне вот наш добрый товарищ не шибко нравится: уж больно он храбрится, всё сильного изображает. А на душе у него, видимо, полная темень… У нас ненамного светлее, но мы того не боимся: привыкли, сжились. А он делает вид, что не сломан. А если и сломан, то починился, и свеж, что огурчик. Но ему, возможно, придётся много хуже, чем нам. О надёжном спутнике ничего толком не скажешь: хитёр, молчун… Что там у него в душе – загадка без ключей. Может, ему всех хуже, а может, что и веселее. Надо бы взглянуть, если это может хоть что-то сказать.
А мы на виду, со своими бедами и горестями. Раскрытые книги. Бери, читай. История любви, история печали. Сломанная жизнь. Неважно, как её сломали. Отобрали мечту. У меня она заключалась в ней, единственной, у тебя – в каких-то жизненных планах. Жить дальше можно, найти некую замену, некий суррогат мечты. Другую женщину, и вообразить, что это и есть – одна-единственная. Не получилось стать космонавтом, стань школьным учителем, заводским инженером, и думай, что это и есть дело всей жизни. Иногда суррогат помогает. Вместо картины – репродукция. Вместо машины – мотоцикл, а то и велосипед. Можно и без машины – автобусы на что? Верно высказался Чехов, что от горя ещё никто не умирал, и от счастья – тоже… Ты говоришь о покалеченных судьбах, о мертвецах, подключённых к аппарату искусственного дыхания, о колясочниках, и всё это не то, и не совсем верно, и не совсем точно. Скорее мы – мигранты, волею судьбы заброшенные на чужбину, спасающие свои жизни. Вот высадились мы в чужом порту, сидим в депортационном лагере. Пустят, или обратно отошлют??? Туда, где смерть верная? Пустили. А дальше? Всё кругом чужое. Чужой язык. Знаешь? Тогда чужой акцент. Чужие повадки. Всё чужое. Иной менталитет. И мы ведь никуда не бежали: всё время оставались на месте. Как тот старый еврей из одесского анекдота, что родился в Австро-Венгрии, в школу пошёл в Чехословакии, а умер в СССР, и не уезжал со своего места. А уедешь? Начнёшь забывать язык. Сначала появится акцент, потом начнёшь делать ошибки. Даже если сохранится диаспора – у вас будет свой язык, свой диалект. А дома – так там и говорят уже по-другому. А кому ты нужен в чужой стране??? Особо никому. Из инженера становишься грузчиком. Вместо дома – комната, маленькая и тёмная. Пожалуй, даже нам сейчас немного, а легче. Мы как потомки мигрантов, давно скитавшихся на чужбине, вернувшиеся домой. А на тебя смотрят, как на чужака. Помнишь ли язык? Положим, помнишь. А он уже и тот, и не тот. И повадки не те. Родина осталась в мечтах, а реальность намного сложнее. Ты и не из тех, и не из этих. И надо всему учиться заново, и никто не даст гарантии, что научишься. И у нас: власть сменилась, дом стал совсем другой, и надо заново учиться жить. Заново учить язык. Заново приобретать повадки, манеры, жесты.