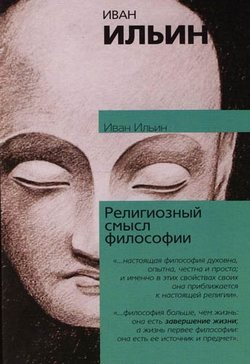Читать книгу Религиозный смысл философии - Иван Ильин - Страница 1
I. ФИЛОСОФИЯ КАК ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ
ОглавлениеВсякий, кто любит философию, – а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, – наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний? Отчего это философия, существующая более двух с половиною тысячелетий и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, – живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе? Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуще ствляют убеждение в том, что именно творчество в распоряжении личного произвола и усмотрения; что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения; что всякий философствует сообразно своим влечениям и симпатиям, и что никто не в праве мешать другому в этом занятии: ведь, все равно, общеубедительной истины нет, или, что (якобы) то же самое, она не находима, или во всяком случае еще не найдена; но, если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную исти
ну, самоё истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот, слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток распрей и субъективистических построений, и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий можно будет с успехом проложить себе путь к «оригинальной» философской системе; ибо, как говорили еще софисты, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других…
Всякая наука имеет свой особый предмет и судьба ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета.
Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан внешним образом, в чувственно-воспринимаемом виде «вещи» и «вещественности». Здесь, кажется, стоит только «взглянуть повнимательнее», прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другою – и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха и осязания, и далее на «бесхитростном» размышлении о воспринятом.
В этой чувственной данности, в этой внешней, телесной наличности того, что для начала признается «исследуемым предметом», есть некое великое преимущество, которого лишена философия. Опытное знание о вещественном мире имеет здесь некую гарантию того, что разногласия не будут бесконечны и безмерны по диапазону своих колебаний. Возможность апеллировать к легко осуществимому, повторному, – если нужно, но постоянному, – восприятию наблюдаемой вещи; возможность многократно справляться и проверять свои восприятия, утверждая наличность или отсутствие известных свойств у данного предмета, – эта бесценная возможность и ее сравнительно легкое осуществление облегчает и обеспечивает развитие естествознания. Волны субъективной фантазии, легкомысленного произвола и злокачественного уклонения оказываются не в состоянии захлестнуть корабль научного познания. Ошибку зрения или слуха исправит повторное восприятие, эксперимент или, наконец, бесстрастная кривая, зачерченная измерителем.
Мало этого, в естественных науках прогресс и единство знания поддерживаются еще и угрозой возможных в будущем роковых последствий, порождаемых ошибкою: кажется, что возопиют самые простые вещи, если их исказит или о них умолчит человеческое сознание. Здесь человечество не может и не смеет распустить энергию своего внимания, ослабить волю к верности знания, субъективистически исказить подлинное обстояние: практическая расплата приходит слишком быстро, обрушивается слишком нещадно, сметая с лица земли самую жизнь людей, допустивших ошибку или не исправивших ее. Знание о внешнем, вещественном мире ограждено как бы внутренним, естественным образом от того бедствия, под бременем которого страдает философия: от разложения воли к предметной истине и от ослабления теоретической совести. Здесь есть некий, беспощадно карающий перст: самое земное существование человека стоит в зависимости от его верного знания о внешнем мире и от технических умений, вырастающих из этого знания. Забывающему о требованиях теоретической совести, погрешающему этим против духа, материальная природа слишком скоро напомнит о том, что он сам существует на земле в виде тела, и если он не сумел познавательно господствовать над вещью, то он погибнет, подчиняясь недопознанным законам природы…
Эта предметная гарантия осуществляется далеко не с тою же силою и верностью в области гуманитарных наук именно постольку, поскольку они изучают не внешний, телесный состав человеческого существа, но внутренний, душевный. Здесь предмет, в его первоначальном виде, дан внутренне, т. е. уже не в виде пространственно-временной вещи, одинаково доступной многим, наблюдающим ее со стороны, но в виде субъективно-душевных переживаний, лично испытываемых, у каждого своеобразных и доступных каждому только про себя и для себя. «Душевное» – не пространственно, не протяженно, не материально, хотя оно и длится во времени и потому нередко описывается как «душевный процесс». Но этот процесс всегда субъективен, – это есть процесс или в субъективном сознании, или в субъективном бессознательном, так, что «душевное состояние» многих лиц всегда представляет из себя множество субъективных, личных душевных состояний. Для того чтобы уловить «душу» как предмет научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать то, что человек бесхитростно переживает; на самом деле здесь нужна гораздо более сложная и тонкая познавательная техника, и, с этой точки зрения, понятно, что психология и психопатология становятся научным знанием только в девятнадцатом и двадцатом веке, а социальная психология, психологическая история и философия доселе стоят еще под знаком научного сомнения. И в самом деле, как много еще в этих «науках будущего» – случайных догадок, верных предчувствий, неверных предвосхищений, несобранного и недоступного материала, не систематических, хотя, подчас, и глубоких интуиции…
Бесспорно, что эта трудная уловимость «души» как предмета исправляется несколько практическими опасностями и угрозами: ибо воспитание, душевное лечение и политика как деятельности, основанные на знании о душе, о ее «одинокой» и «общественной» жизни, несут в себе все-таки известные гарантии от чрезмерных уклонений познающего ума и некоторые побуждения к надлежащему напряжению познающей воли; люди, душевно измятые уродливым воспитанием; люди, бессильно присутствующие при душевном разложении близких, или далеких, но духовно дорогих индивидуальностей (Хельдерлин, Шуман, Ницше, Врубель); политические правители, пожинающие плоды созданного их невежественными или порочными предшественниками духовного и нравственного разложения массы, – все эти люди, и мы сами, через знание о них, получаем практическое напоминание и действенный призыв к активности и бодрствованию нашей теоретической совести.
Но, несмотря на то, что гуманитарные науки не лишены некоторых практических гарантий от чрезмерных уклонений от истины; несмотря на то, что в них возможна и предметная проверка, – через подведение уклонившегося ума к строгому восприятию самого предмета, и практическая угроза, – в виде горьких последствий, встающих в итоге познавательной лени или недобросовестности; несмотря на все это, – как часто приходится здесь взывать к чистой и бескорыстной жажде знать истину как таковую исключительно ради того, что она сама по себе так прекрасна и что знание о ней самой по себе так радостно. Практический вред, проистекающий от ошибок в гуманитарных науках, слишком часто не возвращается на голову того, кто в них повинен; тяжелые последствия, созданные ложным учением о «душе», слишком легко распыляются в окружающей общественной среде, настолько, что бывает трудно доказать с наглядностью причинную зависимость между теоретическим искажением и практическим бедствием. Уже в гуманитарных науках требования теоретической совести, во всей их чистоте и силе, могут оказаться в душе исследователя единственной гарантией научного уровня.
Не подлежит никакому сомнению, что требования теоретической совести и вытекающее из них чувство ответственности должны лежать в основании всякого научного творчества как такового; это определятся самым основным заданием, самою единою и единственной целью научной деятельности: познать истинное, т. е. уловить опытом и мыслью подлинное предметное обстояние. Ученый, который не имеет в виду этого задания, ученый, который работает не ради этого достижения, – есть своего рода трагический курьез или явление нравственного уродства. Бесспорно, практическая деятельность во всем ее разнообразии знает подобные и даже еще более резкие уклонения действующего от той цели, к которой он призван. Но, среди этих уклонений, самым тягостным по духовным последствиям и наиболее искажающим человеческую жизнь – является уклонение священнослужителя, художника и ученого от чистого и последовательного определения их деятельности содержанием их верховного задания. Эти люди, по самому положению своему, по роду того дела, которому они открыто и сознательно посвятили себя, стоят непосредственно лицом к лицу с тем высшим, верховным жизненным содержанием, через которое жизнь человеческая вообще имеет значение и ценность. Изъять из жизни человечества: живое Добро, которое священнослужитель раскрывает в форме религиозной очевидности; художественную красоту, осуществленную и осуществляемую в чувственно-реальных образах; и истину, открываемую в опыте научной очевидности, – значило бы превратить ее в сумятицу инстинктивных влечений и в судорожную, озлобленную борьбу за их удовлетворение. Жизненное дело священнослужителя, художника и ученого есть труд, протекающий в непрестанном предстоя-нии высшему Предмету; их служение отличается от обычного жизненного дела именно призванностью, непосредственностью и непрерывностью, в которой они стоят пред лицом последнего и безусловного, пред лицом тех сфер, где кончается и отмирает все «только человеческое» и где открывается подлинное духовное и божественное обстояние.
В повседневной житейской суете, в погоне за личной удачей и за удовлетворением инстинктивных влечений, – в их примитивном или слегка приукрашенном виде, – все это забывается с чрезмерной легкостью, и сознание людей, незаметно привыкающее к известному уровню разложения и порочности, изумляется и негодует только тогда, когда замечает деяния, из ряда вон выходящие. Процесс обыденной жизни вырабатывает «скрытые» и «терпимые» формы искажений, и только в минуту острого нравственного отрезвления перед человеком встает въяве их сущность и их значение. Если священнослужитель мертв в молитве и корыстен в обряде; если художник льстиво служит своим и чужим больным страстям; если ученый слагает выводы в угоду толпе или силе и непредметно приспособляет научное творчество, – то значение этих явлений имеет всегда трагическую глубину. Те люди, которые, по самому основному делу своей жизни, стоят ближе всего к живым истокам духовной значительности; которые взяли на себя непосредственное служение раскрытию и осуществлению самого добра, самой красоты, самой истины; которые добровольно прияли на себя величайшее бремя и с ним величайшую ответственность, – эти люди, если они попирают требование творческой совести, являют по истине величайшее падение, ибо и высота их задания, и размер их ответственности суть величайшие.
И вот, если это сказано о всяком ученом как таковом, то к философу это должно быть отнесено с особенною силою и значением. Ибо, во-первых, философ, единственный из ученых, берет на себя разрешение вопроса о том, что есть истина; подобно священнослужителю, он стоит постоянно перед лицом добра, испытуя его природу и раскрывая другим испытанное; подобно художнику он имеет дело с самою красотою, исследуя ее сущность и обнаруживая пути к ее осуществлению, узрению и уразумению. Так, теория познания раскрывает природу истины; этика исследует сущность добра; эстетика познает природу красоты. Во-вторых, философия как познавательное творчество, есть в особом и углубленном смысле внутреннее делание и притом такое внутреннее делание, предмет которого, – и по сложности, и по значительности своей, и по неуловимости своей для какой бы то ни было внешней и механической проверки, – требует особой, напряженной душевно-духовной культуры, особой остроты и чуткости теоретической совести, особой чистоты ока и воли. Философия, как никакая другая наука, стоит перед последними, самыми углубленными и утонченными, и притом самыми духовно-значительными проблемами; утверждать что-либо в этой сфере – есть дерзание, и философ, больше, чем кто-нибудь, должен помнить о размерах своей ответственности.
Философствование, как всякая познавательная практика, есть не внешнее умение или делание, но внутреннее; это есть творческая жизнь души. Однако это не есть просто душевное, но душевно-духовное делание. Душа не то же самое, что дух. Душа – это весь поток не-телесных переживаний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и неприятных, значительных и незначительных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праздных фантазий и т. д. Дух – это, во всяком случае, лишь те душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благородными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на общение с Божеством – в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает высшим и безусловным благом. Этим различие между «душою» и «духом», конечно, не исчерпывается; но в пределах человеческого опыта оно начинается именно здесь. Дух это то, что объективно значительно в душе; и, философствуя, человек живет в сфере именно этих, объективно значительных состояний. Стать участником в духовном делании – значит, прежде всего, создать в своей душе необходимый уровень внутренней жизни, отсутствие которого делает неизбежными совлечение и пошлость. Тот, кто создал в себе этот уровень, испытывает нечто, как самое лучшее и высшее, и поставляет его надо всем остальным; но он испытывает и сознает это лучшее, не как лучшее только для него, не как субъективно наиболее приемлемое, приятное, но как объективно ценнейшее, как объективно-главное; как главное не только для всех людей, но безотносительно, как главное и совершенное само по себе и на самом деле, так, что оно не может потерпеть ущерба в этом качестве своем даже и в том случае, если бы никто из людей не захотел признать его, или если бы все от него отвернулись и отвергли его совершенно. Это «нечто» испытывается притом как бытие или как проявление некоего высшего Предмета, и в то же время как объективная мера для всего остального; может быть, как самый этот Предмет, главный в жизни мира и в делах людей. И человек, обращающийся к нему, чувствует и всегда должен чувствовать себя – стоящим перед лицом Божиим.
Именно за это, в силу такого своего значения и совершенства, это «нечто» делается предметом любви и радости. Оно любится всем сердцем, всею душою, всем помышлением; душа радуется ему и стремится к нему, как к источнику истинной радости; но это «нечто» не потому хорошо, что оно приятно, что оно радует; но радует оно потому, что оно в самом деле драгоценно и объективно прекрасно. Человек любит его не просто «душевно», – по сильному и слепому влечению, поверяя своему настроению и полагаясь на свое чувство; но духовно,– по столь же сильному, но предметно удостоверенному и объективно правому, зрячему и все более прозревающему влечению. Душа оказывается побежденною объективным качеством Предмета, следует его зову, готовит себя к его восприятию, к полной и чистой радости его явления. Эта любовь к совершенному есть любовь, поглощающая личный интерес, личную страсть, личную корысть человека; она приходит с сознанием, что невозможно не любить этого предмета; с непреложною уверенностью, что раз увидивший его, пойдет за ним, оставляя иное. Это чувство, эта бескорыстная радость объективному качеству предмета, приучает человека к тому, что все, что есть в нем самом только личного, только субъективного, – второстепенно и несущественно; что важно, значительно и ценно, – и в нем самом, и в других людях, и в вещах, – то, что объективно ценно, объективно значительно; что эрос души должен принадлежать и не может не принадлежать именно объективному, безусловному качеству предмета: истинности знания, нравственному совершенству душевного настроения и делания, красоте воспринимаемого и осуществляемого образа, таинственной божественности мироздания. Уметь бескорыстно радоваться объективному и безусловному качеству предмета, – вот первое условие и первая основа истинной и благородной философской атмосферы. Это есть тот уровень, на котором философствование, действительно, получает значение духовного делания.
Предметная чистота воли, направленной к истинному знанию, – вот необходимое условие для жизни и роста философии. Конечно, не только в том отношении, чтобы не подчинять процесса познания и обнародования познанного грубым соображениям о личной жизненной выгоде. Нет, того, кто единожды возвысился душою до самозабвенной радости объективному качеству Предмета, для того опасность этих элементарных, деморализующих уклонений не страшна. Но есть в пределах самого процесса философского познания не столь заметные, но тем более опасные возможности уклонения от истинного пути, с которыми каждому из нас предстоит бороться всю жизнь. Философия как духовное делание должна быть и здесь свободна от незаметных упущений и попущений, от уступок личным потребностям, влечениям, тайным симпатиям, от потакания своей личной, осознанной и неосознанной несчастности и от вырастающих изо всего этого – ложных проблем и их мнимых решений.
Дело в том, что предмет философии, по первоначальному способу своего «бытия», не подобен предметам других наук: он не дается нам в пространственно устойчивом или легко повторяющемся внешнем виде. Философствующий человек имеет перед своим внутренним взором предмет незримый, неслышимый, нечувственный, не материальный, не существующий в пространстве и не длящийся во времени. Правда, все, что предстоит другим людям, предстоит и ему: и цветы, и реки, и горы, и звезды, и люди; и слово ему звучит, и звук поет ему; и цвета, и линии, и люди говорят его оку. Но философская мысль ищет в явлении не явления; она не прельщается видимостью и не успокаивается на знаке. Видимое и слышимое, телесное и душевное радует ее как верный знак, подлежащий приятию и уразумению, ибо лесной огонек горит там, где таится сокровище. В содержании всякого явления и всякого состояния философская мысль видит духовный смысл его, полагая в этом духовном смысле свой предмет, а в его разумном, для каждого очевидном раскрытии – свою задачу. Познавательно обращаясь к этому предмету, вступая с ним в познающее «общение», человек сосредоточивается на своем собственном, непосредственно переживаемом опыте и потому оказывается внутренно замкнутым и отъединенным от других людей; в своем духовном опыте человек представлен всецело самому себе, на основе самопомощи и самоконтролирования. В этом внутреннем отъединении философ должен сам, одиноким и самостоятельным напряжением воли, внимания, воображения, чувства, памяти и мысли вызвать в себе реальное переживание того предмета, который он хочет исследовать; он должен предоставить силы своей души для того чтобы в них осуществилась, стало непосредственно и подлинно наличным то содержание, которое подлежит изучению. Познаваемый предмет должен как бы завладеть тканью души и состояться в ней; содержание его должно выступить как бы объективным узором на ткани отдавшейся ему души. Этим и только этим философ может поставить себя в положение ученого, исследующего объективную природу предмета; творческое и согласованное сотрудничество всех указанных сил души в совместном напряжении и общей заботе о верном испытании предмета, его отчетливом увидении и точном описании, дает философу возможность обрести подлинный опыт и объективность в подходе к своему предмету. Мысли предшествует видение (интуиция); видению предшествует опыт. Создав в себе душевным напряжением подлинное переживание своего предмета, философ приступает к одинокому напряженному внутреннему вглядыванию в сущность внутренно данного содержания. Понятно, что это внутреннее вглядыва-ние тоже требует участия всех сил души, напряжения ее сознательных способностей и ее бессознательных сил. Здесь осуществляется своеобразное удивление, интуитивное вхождение духа в исследуемое содержание; то, что опыт принял, включил в свой жизненный состав, то, что осуществилось в его недрах, – является теперь предметом систематически интуитивного восприятия. При этом само собой разумеется, что воспринимающее внимание сосредоточивается не на субъективном переживании, не на состоянии или настроении испытавшей души, но на сущности испытанного предмета; эта духовная сущность самого предмета и есть то искомое, философски познаваемое, радующее и любимое обстояние, к которому стремится познающий разум философа.
И вот это испытывание и это вглядывание имеют известный, теоретическою совестью определяемый необходимый уровень, по достижении которого наступает третья стадия: аналитическое описание и разумно-логическое раскрытие испытанного и усмотренного содержания. Душа, переходя к этой последней стадии, должна иметь твердую уверенность в чистоте и верности выполненной ею работы; но для этого она должна использовать сначала все пути и средства, могущие ей дать гарантию в этом, она должна уметь творчески сомневаться, испытующе вопрошать и беспристрастно проверять; она должна создать в себе твердую и обоснованную уверенность в отсутствии субъективистских искажений. И только тогда, когда все это сделано и осуществлено, она имеет право приступить к разумному раскрытию того, что она испытала и увидела, – к непредвзятому, отчетливому описанию и логически ясному формулированию того предметного содержания, которое как бы ждет своего окончательного раскрытия; к избавлению видимого предмета от той видимости неразумного пленения, в котором он томится. Настоящее подлинное философствование дает человеку истинное знание и притом в форме разумной мысли, которая должна заключить в себе все, что объято опытом и преодолено видением. Вот почему философия всегда имеет единое задание: раскрыть с силою разумной очевидности подлинное содержание предмета, систематически испытанного и усмотренного философствующей душою.
В этом, внутренне сосредоточенном и утонченном духовном делании, философствующая душа, как это уже ясно, пребывает в отъединении и своеобразном одиночестве. Она остается в непроницаемом для чужого сознания замкнутости, с глазу на глаз с самостоятельно добытым, испытываемым, интуитивно исследуемым и мысленно раскрываемом содержании предмета. Вообще говоря, никто никого не может впустить в свою душу; никто не может заменить другого в делах духовного строительства; никто не может снять с чужой души бремя самодеятельного очищения души и самостоятельного вынашивания очевидности – бремя одинокого опытного и разумного, духовного познавания. Философское познание требует высокой, лично выращиваемой и осуществляемой духовной культуры. И в этом деле необходима именно та неустанная нравственная активность в познании, которой учил Сократ и к которой взывал Фихте. Здесь необходима личная непреклонная воля к совершенному знанию и напряженная чуткость личной теоретической совести. Теоретическая совесть ставит перед познающей душой всегда одно и то же единое требование: «ты можешь и должен признать и открыто исповедовать как истинное только то, в познании чего ты, по крайнему проверенному разумению своему, освободил себя от всех субъективистических искажений, осуществил все средства личного очищения и предметного углубления, известные человечеству, и достиг на этом пути испытания личной, по душевному переживанию, но сверхличной, по содержанию и значению, познавательной очевидности». Это требование теоретической совести поистине неуклонно и неумолчно; и философ, больше чем какой-либо другой ученый, должен постоянно иметь его в виду, уже по одному тому, что философское познание имеет в теоретической совести свою главную, а может быть и единственную ограду и от субъективистического вырождения. Ибо практический жизненный вред, приносимый ложным философствованием, виден воочию только тому, и постижим только для того, кто уже закалил свою душу в требованиях духовного уровня; и этот вред не всегда есть вред материального или только душевного характера, как в других областях знания и жизни, но прежде всего вред духовной природы; он выражается в том коренном вырождении религиозного, познавательного, эстетического и политического уровня жизни, которое обладает свойством – в течение долгого времени быть незаметным и вдруг обнаруживаться с вопиющей очевидностью уже состоявшегося падения и разложения всей духовной атмосферы.
Философствование обязывает. Сознание этого должно непрестанно гореть в душах тех, кто говорит от лица философии. Оно обязывает уже потому, что философия есть знание; а всякое знание дает духовные права и возлагает духовные обязанности. Знание есть дар и богатство, потому что знающий именно в том, что он знает и поскольку он знает, знает не только «наверное», но знает верно, подлинно, объективно: он выбрался из колеблющейся трясины мнений и достиг очевидности. У того, кто знает, знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силою объективности своей создает верующее знание и знающую веру. Верить и веровать можно лишь в то, что верно, что в самом деле так. Нельзя верить во что-нибудь, зная, что на самом деле «это иначе»: такой человек был бы невменяем. Но нельзя и знать что-нибудь, веря, что на самом деле «это иначе»: такой человек был бы лишен и веры, и знания. Знать – значит иметь объективно обоснованную уверенность; но как же может тогда человек, говорящий о знании, не верить в зна-емое? Верить значит гореть признанием истины; но как же может тогда человек, признавший истину, не иметь объективно обоснованного знания? Знание может быть еще не раскрытым, вера может временно пребывать в состоянии бессознательного аффективного опыта; но по существу – они одно. Ибо гипотеза и предположение не есть еще знание; а воздыхание и мечта, ожидание и вожделение, чаяние и упование не есть еще вера. Вот почему знание есть дар и богатство.
Но философия как знание о важнейшем, о духе, о безусловном – есть лучший дар и большее богатство. Философия, познавая сущность духа и безусловного, должна вынашивать именно ту обоснованную уверенность, достоверность, без которой нельзя ни знать, ни верить. Но эта очевидность и достоверность не должна храниться в тайне и открываться только посвященным. Философский предмет объективен и един для всех; он должен быть доступен всем вопрошающим и ищущим; и то, что знается, и то, во что веруется, что утверждается как очевидное и достоверное – должно быть раскрыто всем жаждущим знания, ибо философия есть наука, она организует свой опыт, проверяет свое интуитивное восприятие, описывает воспринятое, анализирует, синтезирует и доказывает. В философии не должно быть места для произвольных построений или воздушных замков, для самообмана, мнимых наитий или волшебства. Философия не мистифицирует ни себя, ни других. Она может и должна быть вполне свободна от суеверия, когда человек достаточно «верит», чтобы бояться, и не достаточно «верит», чтобы не бояться, «верит» от страха и боится от «веры», унижая себя своею «верою». Философия ищет света и находит свет и работает всегда при том свете, который ей дан свыше и умножен ею самою; и потому она не только не питает и не создает страха, но стремится не оставить и места для него: ибо страх возникает лишь там, где противоразумные вожделения и отъединившиеся силы, томясь, работают во мраке и грозят из темноты. Начиная, как и всякое знание, с опыта, и испытуя природу духа и Духа, философия не имеет основания к тому, чтобы прятать дающееся ей в опыте предметное богатство от разумного раскрытия, побеждающего и возводящего, и потому радостного. И если истинно религиозный человек приемлет лишь то, и верует лишь в то, что открылось ему с очевидностью, в личном, но подлинном духовном опыте, то философия по содержанию своему есть религия.
Вот какая ответственность встает перед душой, которая решает посвятить себя философии. И тот, кто, философствуя, будет иметь перед своими очами это высшее назначение философии и неизменное требование теоретической совести, тот сразу увидит и до конца будет помнить те опасности и уклонения, которые могут встретиться на его пути. Необходимо продумать эти опасности и увидеть, куда они ведут, для того чтобы их преодолеть.
Первая опасность в том, что философствование может потерять свою единственную верховную цель и превратиться в не самодовлеющее, не самоценное, не самозаконное делание, т. е. начать служить посторонним и чуждым ему целям. О намеренных и сознательных искажениях истины можно здесь и не говорить: своекорыстное извращение правды о духе и софистическая апология сильного может осуществляться только тем, кто никогда не знал, что есть настоящая философия. Однако здесь есть и другие уклоны. Философское знание должно быть свободно не только от посторонних мотивов, но и от всяких непредметных явлений, основываясь на самостоятельно добытом опыте и лично испытанной очевидности. Это испытание очевидности, как бы вырастающей из глубины самого предмета, не может быть ничем заменено и вытеснено. Правда, авторитет есть великая культурно-воспитательная сила; но задача его в том, чтобы временно заменить очевидность, предварительно, лишь в виде педагогической или пропедевтической опоры, необходимой на первых порах для сохранения и утверждения благих традиций. Задача авторитетного руководства состоит именно в том, чтобы воспитать неопытную душу к самостоятельному познанию, чтобы научить ее самодеятельно обретать предметно обоснованную зрелость и предоставить ей свободный путь. Заменить очевидность авторитет не может, и, как только она состоялась, так, строго говоря, между нею и авторитетом невозможен даже конфликт. Философ как ученый и как верующий может быть верен только одному – предметной очевидности; и всякий авторитет призван уступить ей добровольно, так, как некогда ему самому уступали авторитеты прошлого. Повиновение не предмету, не Богу, но «человекам», – не может быть добродетелью философа: в этом основа философии как верующей науки – в этом автономия духовного опыта.
Вторая опасность в том, что суровая, очищающая личную душу борьба за объективно-верное испытание и за действительное усмотрение предмета, – может замениться или скорым легким нахождением субъективных впечатлений, или же нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы.
В первом случае происходит подмена философского опыта личными впечатлениями, догадками или мнениями; и философия вырождается в праздные разговоры, в претенциозные, хотя, с виду, и ни к чему не обязывающие сообщения, которые, может быть, и не лишены автобиографического интереса, но свободны от философского значения. Именно на этом пути философствование оказывается во власти людей, не имеющих отношения к философскому предмету и все же слагающих более или менее легкомысленные суждения и мнения по поводу предметов и проблем. Этим философское искание перестает быть исканием, оно утрачивает свою практическую серьезность и превращается в непрерывное и легкое «нахождение»; оно отвязывается от предмета, порывает с опытом и очевидностью и слагает вокруг себя атмосферу вседозволенности. Философское общение вырождается в более или менее искусную «диалектику» и теряет свое глубокое, духовное и нравственное значение. Понятно, что на этом пути нетрудно дойти и до принципиального субъективизма и релятивизма, до успокоительного учения о том, что «все относительно». Философское исследование превращается в более или менее неудачный рассказ о том, «что я за человек» и «каковы мои мнения», а призыв к предметности, к ответственности и сверхличной очевидности объясняется претенциозностью и самоуверенностью призывающего.
Во втором случае предметный опыт заменяется нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы, и философствование вступает на путь своеобразного вдохновения. Двигаясь на этом пути, люди становятся профессионалами «тайноведами» и разделяются на две большие группы: одни технически владеют приемами своего «тайноведения» и искусно прививают их своим неприхотливым, простодушным, наивно-доверчивым ученикам; другие сами оказываются во власти своих мнимых откровений и растерянно несутся в их неуравновешенном течении.
К первым принадлежат, например, современные «антропософы», которые любят прикрываться словом «наука», а на самом деле проповедуют некую, якобы мистическую, душевную практику. В этой сумеречной душевной практике, которая представляется им, если не мудростью, то во всяком случае истинною дорогою к мудрости, меркнет чистый свет философского знания, и разумная жизнь духа растворяется в культивировании наиболее физиологических сторон и способностей души. Таково их «ясновидение», покупаемое ценою беспредметности и отказа от предметного опыта. Напрасно говорят они о науке: их «наука» не имеет ничего общего с тою наукою, которая ищет объективности в исследовании, открыто утверждает и открыто доказует; их «наука» есть магия, а содержание их «учения» – смутная химера. «Антропософ» старается магически овладеть тайною своей личной бессознательной сферы и вступает для этого в практическое жизненное общение не с предметом, а со своим собственным бессознательным. Это общение погружает центр его личной жизни в непонятную для него глубину родового инстинкта; и совершается это не ради знания: как истинный «маг», антропософ ищет не знания, а господства, власти над непокорной и несчастной стихией своего существа. Играя и ужасаясь, страдая и наслаждаясь этим процессом медленной, постепенной утраты своего личного духа в предписанных «учителем» «медитациях», он идет ко дну, не выходя из себя, ничего не познавая, хотя испытывая «новые ощущения»; и так он покупает себе, наконец, личное успокоение ценою своей духовной личности, ценою отказа от разума и философического бремени. Трагедия его в том, что, ища овладения и господства, он вступает на путь, приводящий его к успокоенной подчиненности, к содержательному и формальному торжеству бессознательной стихии над духом и сознанием; душевное равновесие иногда приобретается, но личность выводится из ряда духовных борцов и свершителей. И тщетно пытается антропософ сослаться на свое оправдание на свою «мировую» «умудренность». Он имеет, конечно, некоторую видимость «учения», но оно представляет из себя не более, чем несамостоятельную и эклектическую химеру. Знание как предметный опыт, вернее видение и разумеющая очевидность – вообще не ценятся и не культивируются ими, а то, что они называют «оккультным», т. е. сокровенным знанием, не скрывает за собою ничего, кроме родовых содержаний бессознательного. Они, по-видимому, не знают, что научный опыт проник дальше их и глубже их в жизнь бессознательного, проник знанием не беспредметным и сокровенным, а предметным и открывающим, и что самая «тайна» их таинственной практики уже во власти науки. Они «ворожат» всю жизнь вокруг непонятного им самим центра и не видят, что от их «мудрости» умаляется свет на земле.
Другая группа «тайноведов» по иному уклоняется с философского пути. Эти искатели сами оказываются во власти своих, якобы религиозных, «откровений» и, изнемогая от их смутного и нередко вполне личного содержания, они блуждают потому, что не выдерживают бремени личной душевной несчастности, и, запутываясь все больше, чувствуют себя все более несчастливыми. Та особенность философского опыта, в силу которого в его осуществлении должны участвовать все силы души и притом в обращении к невещественному предмету, приводит к тому, что в дело вовлекается вся бессознательная сфера во всей ее утонченности, страстности и трудно-уловимости. Но, именно вследствие этого, все тайные влечения и желания, обычно не допускаемые на порог дневного сознания и хоронящиеся, подобно Нибелун-гам, в тайниках ночной души; все особенности личного «вкуса», приобретенные в жизни и духовно неочищенные; все те ранения душевной ткани, которые у каждого из нас приобретаются с детства и живут, не исцеленные, всю жизнь, нередко разъедая душу и повергая ее во всевозможные психозы и нейрозы, – все это, при отсутствии надлежащей очистительной работы, при отсутствии безжалостности к своей душевной традиции и к своему душевному самочувствию, вторгается в философскую работу и делает душу мало способной к предметному опыту и исследованию. Философия становится тогда игралищем скрытых страстей; она оказывается более или менее удачно найденным компромиссом между запросами личного бессознательного и сознательной идеологией; она говорит гораздо более о личном укладе души, чем о предмете. При этом энергия познания нередко растворяется в субъективную слепую убежденность, которая следует за всеми превращениями все вновь перестраивающейся «идеологии» и, в сущности говоря, может найти себе успокоение только в гетерономном приятии той или иной догмы.
Наконец, есть еще третья опасность для философии, это опасность рассудка, открывающегося от живого предметного опыта и интуиции. Этот опыт ведет философию не к волхованию и не к субъективистическому вырождению, а к смерти в безводной и безвоздушной пустоте. Здесь философия сохраняет, правда, видимость научного знания, но именно одну только видимость; и отстаивая ее, она как бы гибнет на посту с оружием в руках. Такие мыслители начинают ценить выше всего формальные различия и определения понятий, формальное единство философской «системы», формальные проблемы и постановки вопросов. Утратив живое отношение к предмету, не сознавая, что, при таком положении дела, философия неминуемо выродится в комбинацию беспочвенных понятий, они остаются нередко без всякой предметной опоры и начинают заменять ее опорою чужой мысли. Но чужая мысль, быть может, в свою очередь ведет оторванное, беспредметное существование, опираясь на более ранние системы и учения; и тогда в философии начинает обнаруживаться какая-то наследственная опустошенность. Пишутся книги о книгах; строятся особые толкования и понимания чужих идей; чужие воззрения исследуются, как некая самостоятельная ценность; культивируется изощренная библиографическая осведомленность. Мысль как бы высыхает и запутывается в сетях собственных мертворожденных утонченностей. Потомки бессильно увязают в наследстве, оставшемся от предков; и тогда история философии не только не научает предметному философствованию, но прямо уводит от предмета: отжившие системы вырастают перед эпигоном как заколдованный лес, через который нет ни прохода, ни проезда и скудный свет абстрактного рассудка не может пронизать эту чащу и показать заблудшему дорогу к истинной цели.
Таковы основные опасности философского пути. Преодолеть их возможно только через верность предметному опыту и требованиям теоретической совести: философ должен утверждать и исповедовать только то, что он сам испытал в духовном опыте и с очевидностью узрел в исследованном им предметном состоянии. И если он будет верен этому правилу, то в философии начнет уменьшаться число беспочвенных разногласий и бесплодных споров и она получит возможность превратиться в подлинное знание о сущности духа, о его путях и законах.
Философия не в отвлеченности, не в сплетениях хитроумия и не в праздно-лукавом мудровании. Нет, настоящая философия духовна, опытна, честна и проста; и именно в этих свойствах своих она приближается к настоящей религии.
Когда-то Гегель сокрушался о низком уровне той национально-духовной культуры, которая не создала еще своего самостоятельного религиозно-метафизического чувствования и понимания Бога, мира и человека. Он знал, как до него разве один Аристотель, что духовный опыт и философическое созерцание составляют самую глубокую сущность всей национальной жизни; что именно предметное раскрытие жизни духа есть то делание, то совершаемое немногими творчество, ради которого в слепоте жили, в слепоте страдали и умирали столь многие; что именно разумное утверждение духовного Предмета (метафизика, вырастающая из подлинного религиозного откровения) есть та вершина духовного горения, которая религиозно питает и завершает культуру народа как живого единства и которая действительно может быть источником подлинной духовной чистоты и силы.