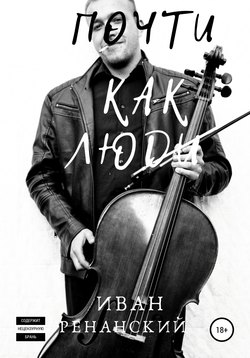Читать книгу Почти как люди - Иван Михайлович Ренанский - Страница 1
ОглавлениеОт автора
Все эти истории правдивы – вот, как мне кажется, главная ценность сего текста. Все они действительно имели место быть, хоть и не все произошли со мной лично. Очевидцем каких-то был я сам, о других мне на полном серьезе рассказывали люди, в правдивости чьих слов я могу не сомневаться, третьи вообще случились ещё до моего рождения. Но все эти истории – реальны. Это вовсе не авторский вымысел, и не вольный пересказ, основанный на реальных событиях. Все это – чистая правда. От первой и до последней буквы. Почему-то мне просто необходимо донести сей факт до читателя, а что уж ему с этим фактом делать (плакать или смеяться, к примеру) – понятия не имею. Пусть сам решает – не маленький.
От своего – для своих.
Эпиграф
«Печальное нам смешно, смешное – грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя». (М.Ю Лермонтов «Герой нашего времени»)
«Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!» ( А. и Б. Стругацкие «Гадкие лебеди»)
«Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством: они написаны автором для самого себя. Даже если сочинение адресовано определенному кругу людей или вообще человечеству, настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензии. Если угодно, по простодушию. Пишущий не боится выглядеть наивным, не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть, не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен, не предпринимает усилий понравиться. Автору не до этого. Автор болен неким вопросом, поиск ответа на который является курсом лечения. Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественное» (Б. Акунин «Аристономия»)
Отделение первое.
Увертюра.
В кухню я шагнул прямиком из тяжелого, душного сна, в котором кто-то постоянно открывал шипучие холодные напитки, постоянно смеялся, постоянно пододвигал запотевший, содержащий в себе освежающее блаженство стакан, а я все никак не мог утолить жгучей, дурной жажды. Несколько секунд я старательно хмурился, глядя на полную грязной посуды раковину, на разделочную доску, лежащую тут же, с намертво приросшими остатками незатейливых кулинарных экспериментов одинокого мужчины, на часы, показывающие половину шестого утра, на батарею разноцветной стеклотары, занимавшую подоконник, и все это время я зачем-то имитировал лицом напряженную работу мысли. Затем, уже окончательно вынырнув в обжитую кухонную явь, я открыл кран, подставил первый попавшийся пустой стакан под упругую холодную струю, и осушил его, после чего повторил сей акт еще раз. И еще. И снова.
Жидкость вливалась в тело как-то неправильно, тяжело, даже болезненно, как будто во сне у меня слиплось горло и атрофировался глотательный рефлекс, но я пил, преодолевая муки, радуясь, что капли текут по подбородку и срываются на грудь, что глухое отупение отступает, что рвотные позывы становятся все слабее и ненавязчивее. Отставил стакан, шагнул к окну, прижался лбом к стеклу, погрузив свой ленивый взгляд в заученный наизусть заоконный пейзаж, над которым совсем недавно встало солнце – детская площадка, машины, деревья, школа, дома, дома, дома…
Как давно все это уже продолжается? И когда кончится? Разумеется, никто не ответит, потому что в вопросах, адресованных власти, богу, или вселенной необходима конкретика – пустое сотрясание воздуха абстрактными фразами с вопросительной интонацией бессмысленно. Память прикидывается расшалившимся ребенком, складывающим из картонных карточек с буквами несуществующие слова – пади разбери теперь, что было на самом деле, а что приснилось, привиделось, или оказалось рассказаным кем-то. Но если, все-таки, попытаться восстановить порядок… Если напрячься, и вспомнить, сообразить, сопоставить…
Мимо неизбежно, шлепая босыми ступнями по раскаленному городскому асфальту, проходит лето, неожиданно жаркое для наших широт, и вполне ожидаемо пьяное, заботливо держащее меня за руку, не дающее сбиться с заданного курса – к вечеру каждого дня, с умилительным постоянством, будто придавленное к дивану многотонным прессом тело оживает, принимает душ, поглощает необходимое количество пищи, и начинает медленное, с трудом дающееся движение в направлении первого же подвала, заполненного кондиционированным воздухом и выпивающими особями обоих полов. Там оно садится в углу, или занимает место у стойки, подносит запотевшую пивную кружку ко рту, подцепив кончиком носа пенную шапку, в несколько долгих, жадных глотков употребляет золотое, обдающее душу вначале холодком, а затем мягким теплом родительской любви содержимое.И принимается себя жалеть. Пристальный и печальный внутренний взор ловит образы из недалекого прошлого, невесомо и торжественно скользящие мимо: вот человек, у которого нет ничего, но есть вера в себя и в марципановое будущее, вот он же, но уже забравшийся на пик собственного триумфа…А дальше падение, разочарование, стоны под ударами грязных кирзовых сапог судьбы. Или нет, все не так, все проще – пассажир выходит из одного поезда, чтобы пересесть в другой, но, по какой-то причине, не успевает, и остается один, на пустом перроне, без денег, без документов, с тощим дорожным баулом, хранящим скромные, если не сказать нищенские пожитки. Он растерян, раздражен, напуган и заспан. Но один поезд уже ушел, а другой пока не пришел, и неизвестно, придет ли когда-нибудь – вот вам и вся мизансцена. В том поезде, с которого сошел неудачник, осталась прыщавая, щуплая юность, полная неразделенных любовей и произвола школьной диктатуры, а вместе с ней – пора студенчества, то есть, судя по чужим многочисленным заверениям, лучший отрезок жизни. Да, конечно, пять лет залихватского пьянства, творческого бунта и виртуозного разврата не могли не оставить на теле и душе примерно такой же отпечаток, какой подушка оставляет на щекепроснувшегося – сложно ведь даже рассмотреть какое-нибудь особенно теплое и нежное воспоминание в отдельности, ибо они давно слиплись в единый бесконечно милый сердцу ком.
В том же поезде, на который неудачник опоздал, в светлое будущее уехала отвратительная и привлекательная одновременно заграница, с ее соблазнами, кнутами и пряниками, а вместе с ней и перспективы на дальнейшее продвижение по собственной жизни, как по ступеням лестницы, все выше и выше – осталось лишь встать, подобно большинству, на беговую дорожку, и начать бессмысленно переставлять ноги все быстрее и быстрее, по факту не сдвигаясь с места, в ожидании, когда же уже, наконец, даст сбой сердечная мышца, и можно будет лечь в деревянный ящик, дабы хоть там перевести дух. В том поезде уехала прочь юношеская надежда, с годами выросшая, обзаведшаяся мускулатурой, внушительными кулаками и собственным хрипловатым голосом – надежда на богатую, красивую и, безусловно, счастливую жизнь, ибо ведь каждый коллега по цеху, каждый товарищ по оружию знает, что только заграница, представляющаяся неким аналогом древнегреческого Олимпа, может по-настоящему принять, оценить, полюбить и вознаградить по заслугам тех, кто этого действительно достоин. А то, что и с этого Олимпа многие, спустя какое-то время, возвращаются на землю, к жизни простых смертных, так это, в сущности, ничего не значит – кто ж будет равняться на пресытившихся небесными дарами блядей?
Вот так и получилось, что вышел человек из одного поезда, в другой так и не сел, и теперь вынужден обживаться на грязном, продуваемом всеми ветрами перроне, постепенно убиваемый амбициями и алкоголизмом. В общем-то, по-своему привлекательная картинка с открытки в стиле нуар – молодой и непризнанный гений, одинокий мастер своего дела, топящий собственный талант на дне стакана, уже не ждущий от жизни ничего, обзаведшийся ядовитым цинизмом, погрязший в пороках и нищете. Воистину – лирический герой своего времени, двадцати пяти лет отроду, уставший от всего и всех, упивающийся собственным грехопадением, не нуждающийся в чужой жалости, но сам себя жалеющий регулярно. Отвратительная банальность. Клише, вызывающее рвотные позывы. Но зато как трогательно…
Вот и ещё одно утро: жирное, дикое солнце настойчиво лезет в окно, тело потеет, я уже давно не сплю, но и вставать не вижу никакого смысла – так и лежу на скомканных простынях, лениво давлю на кнопки телевизионного пульта, вяло поглощая прущую танком с экрана пропаганду, или насилие, или секс, или даже все вместе. На полу валяются несколько книг – я не читаю их с каким-то особенным, злорадным упорством, но и не убираю с глаз, дабы они постоянно напоминали о себе. Привычный садомазохизм – книги шепчут: "Посмотри, до чего ты опустился! Посмотри, на кого стал похож!", а я отвечаю им: "Вижу, милые. Вижу, родимые. Но что же могу поделать? Хочется быть мерзким, тупым, грубым, вонючим и бесчувственным ко всему. Хочется, понимаете?". Разумеется, они не понимают. Зато я понимаю. А хули тут не понятного-то? И вслед за этими мыслями всегда приходит другая – тоже вонючая, осклизлая и гадкая: "Вот, до чего вы все меня довели. Гады. Козлы. Суки. Радуйтесь теперь". Кто такие эти таинственные "вы все", не так уж важно – воображение само услужливо слепит мутные образы жестоких заговорщиков, обрекших такого святого человека на погибель, и я ещё долго буду загонять им под ногти раскаленные иглы, выдавливать глаза, протыкать шилом барабанные перепонки, и черт знает что ещё с ними делать, пока не надоест. Впрочем, продолжится это не долго – под занавес экзекуции придет неизменно мудрое и тоскливое понимание, что винить некого и незачем, кроме себя самого. И дальше освободившееся место на пыточном столе займу уже я сам – вот и лежу, одуревший от жары, похмелья, одиночества и несправедливости, вот и давлю на кнопки телевизионного пульта, вот и потею, воняю всем телом, изредка почесывая избранные части его.
В углу, упрятанный в недра гробоподобного футляра, покоится инструмент, к которому я не прикасался уже несколько месяцев. Стоит он здесь для того же, для чего и книги лежат на полу – садомазохистское напоминание о моем предназначении, от которого я вприпрыжку несусь по истертым до блеска, скрипучим ступеням личной стагнации, с радостными криками: "Вы этого хотели? Ну так получите! Не надо, не утруждайте себя, я сам, сам все сделаю!".
Когда же солнце начинает садиться, я отправляюсь пить те виды алкоголя, что из разряда самых доступных и эффективных, ибо падшим, разумеется, не положено обилие денежных средств. А положены им всепоглощающая черная тоска, крепкие сигареты, и нечленораздельные бормотания в безразличной ко всему, душной ночи, когда тело тащится зигзагами от одного островка холодного фонарного света до другого: "Все вы несчастные, лживые, отвратительные, обречённые пошляки. И теперь нам по пути".
Вопросы сонно проползают по внутренней стороне черепной коробки, вопросы требуют ответов. Что это за город, и как оказался я в нем? Чем был оправдан побег в простодушную, жизнелюбивую Провинцию, смущенно и покладисто занявшую свое место на почтительном расстоянии от блестящей, лощеной, пышногрудой Столицы, к чьим молочным железам все так мечтают припасть, дабы насытится достатком, славой, успехом, благополучием? Чего ожидал я, задумывая эту добровольную ссылку? Кажется, отвечать на этот вопрос я стыжусь даже самому себе, поэтому, в очередной раз заняв столик у окна того или иного заведения, без лишних мыслей сижу и рассматриваю аборигенов – таких красивых, свежих и беззаботных, что хочется плакать от зависти, роняя ядовитые слезы в опустевшую рюмку.
Что ж, и здесь живут. Значит, попробую и я.
Кухня, половина шестого утра, я стою, прижавшись лбом к стеклу, вглядываюсь в заученный наизусть пейзаж – детская площадка, машины, деревья, школа, дома, дома, дома… Вообще, я сейчас могу позволить себе вглядываться во что угодно, лишь бы не внутрь, не в себя.Пальцы скребут оконное стекло, впитывая кончиками его шершавую прохладу, а губы уже шевелятся, беззвучно воспроизводя некогда оставленные в дальнем углу пыльной памяти, а теперь вдруг извлечённые на свет строки:
Грубым даётся радость,
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.
Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак,
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.
Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.
Мутно гляжу на окна,
В сердце тоска и зной.
Катится, в солнце измокнув,
Улица передо мной.
На улице мальчик сопливый.
Воздух поджарен и сух.
Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.
Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с этой силой
В душу свою не лезь.
Я уж готов… Я робкий…
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки -
Душу мою затыкать.
Лишь поэтам дозволено себя жалеть- социум относится к ним с трогательным снисхождением. Жалость к себе- не более чем вторсырьё, из которого они кроят свои шедевры, как алхимики, путем хитрых манипуляций получая золото из дерьма. Для всех остальных же жалость к себе- это что-то вроде ананизма. Заниматься таким на публике- дурной тон, заслуживающий общественного порицания. Лишь наедине с собой, забившись в самую глубокую и темную щель, надежно отгородившись от мира живых, уверенных в себе, сильных, смелых, можно позволить себе эту маленькую, пошлую и постыдную блажь.
Я вернулся в комнату, лег на прежнее место, обхватив себя руками за плечи. Собрался было заплакать, но уснул.
И снились мне пьяные женщины, косолапые мохнатые монстры, дураки и предатели.
***
Внезапно лето отхлынуло, и я с удивлением обнаружил себя посреди узкой, сырой и серой улицы, одетым в пальто поверх старомодной шерстяной кофты невнятного цвета. Сверху что-то накрапывало, ветер бил по лицу своими сырыми ладонями, словно бы приводя в чувства, прохожие обходили меня по широкой дуге, изредка одаривая хмурыми взглядами исподлобья- больше всего я напоминал им человека, внезапно вышедшего из комы, что, впрочем, было не далеко от истины. Наверное, чтобы оправдать свой глупый и растерянный вид, я принялся картинно шарить по карманам, будто вознамерившись подтвердить наличие чего-то очень важного- прохожие перестали обходить меня, приняв за своего. "Ну подумаешь,– должно быть, решили они,– человек проверяет, все ли он взял из дома, и оттого у него такой странный, нелепый вид. Ничего удивительного". Страх и настороженность теряют свою силу, если причину их возникновения можно просто и внятно объяснить.
Тем временем, я лихорадочно строил планы на ближайшее промозглое, осеннее будущее, одновременно стараясь придать хоть какой-то смысл всплывающим в памяти хаотичным картинам знойного и пьяного летнего прошлого. Выходило примерно следующее: я трезв и голоден оттого, что нет денег. Чего ещё нет? Нет работы, нет приличной теплой одежды, нет любви- не только во мне, а, кажется, во всем мире. Во всей вселенной. Лето блаженного тунеядства и слезливой жалости к себе прошло, как проходит к утру алкогольное опьянение, осень повисла на шее многотонным грузом зябкой трезвости. Есть некоторое количество квадратных метров, которое, однако, мне не принадлежит, но туда, по крайней мере, всегда можно прийти, сесть за пустой стол, или, например, лечь в кровать, только что это изменит? И ещё есть долги. И ещё есть головная боль. Как со всем этим быть?
Так и не нащупав в пустых карманах подходящего ответа, я медленно побрел вдоль по улице. По дороге завернул в какой-то магазин, ссыпал в пластиковое блюдце на кассе остатки капитала, получил взамен половину батона, и, окрылённый этой маленькой победой, продолжил путь, все глубже увязая в гиблой трясине похмельных раздумий.
Кажется, весь день я провел в бессмысленных блужданиях по городу, и лишь к вечеру оказался "дома"– моросить к тому времени уже перестало, и как-то сам собой в голове образовался план. Не разуваясь, ни с кем не здороваясь, я прошел в свою комнату. Свет зажигать не стал – наощупь отыскал в дальнем ее углу тяжёлый и пыльный футляр, подхватил его за скрипучую ручку на боку, и вместе с ним вышел обратно в прихожую, на лестничную клетку, на улицу.
На затылок давило, угнетая серостью, низкое небо, под ногами хлюпала вода, ветер бесстыдно лез под одежду.
Первый же подземный переход показался подходящим- я спустился, дошел до середины полутемной, гулкой кишки, поставил футляр, и принялся с каким-то дурным остервенением отпирать его замки. Спустя минуту, я извлёк из него инструмент, поприветствовавший меня тихим, ласковым гулом случайно задетых струн- так приветствует горячо любимого хозяина преданный пёс, покорно проведший весь день взаперти. Держа его за шею одной рукой, пальцами другой я выудил из футляра смычок… И застыл.
Стул. Я забыл взять с собой стул.
Не знаю, сколько я так простоял посреди плохо освещённого подземного коридора, с виолончелью в одной руке, смычком в другой, и раскрытым футляром у ног. Кажется, время специально остановилось, чтобы посмеяться надо мной. Мимо шли люди, поглядывая на меня безо всякого интереса- они торопились в свои дома, к своим женам и мужьям, к своим котам и собакам, к своим телевизорам, плитам, холодильникам… Какое им было дело до замершего в нелепой позе человека с таким же нелепым и большим музыкальным инструментом в руке? Едва ли они знают, как называется такой инструмент, да и знание это им, в общем-то, ни к чему. Пусть себе стоит, чудак. Это ведь не запрещено.
– Играть будешь?
Я медленно повернул голову на голос, и увидел молодого парня в спортивном костюме, со сдержанным любопытством рассматривающего меня.
– Это контрабас?
– Нет.
– А что?
– Это виолончель.
– Как маленький контрабас?
И откуда у меня эта сучья вежливость, эта блядская интеллигентность? Ведь можно было бы сразу послать обитателя провинциальных заводских окраин куда подальше, или хотя бы просто промолчать. Но нет, я с ним разговариваю, отвечаю на его вопросы. Зачем? Наверное, остатки былой гордыни, былого статуса. Когда-то ведь я и впрямь был иным – широким, пружинистым шагом выходящим на сцену под щедрые аплодисменты, с важным видом обсуждающим особенности тех или иных технических приемов с коллегами, такими же гениальными и почти всемогущими, прикидывающими, где их ждут больше- в Карнеги Холле или в Ла Скала. Когда-то честь, вежливость, принципы действительно были чем-то обязательным, как цилиндр, трость, и лайковые перчатки для английского джентльмена. Осанка, улыбка, безукоризненные манеры, высокий уровень мастерства владения инструментом, заслуженное самоуважение напополам с самоиронией, без которой так просто потерять голову от собственного великолепия, не знающая сна Столица, компании, кабаки, женщины, танцы… Отсутствие денег совершенно не волновало- ведь совсем скоро их станет так много…
Все это имело смысл лишь в том мире, вернее, в том поезде, с которого я однажды сошел, чтобы ехать дальше. А здесь, в сыром, полутемном подземном переходе… Но отчего-то я не могу себя заставить нагрубить этому павиану в физкультурной форме, хотя уверен, что если, все же, получится- мне полегчает.
Нет, не выходит.
– Так ты играть будешь?
…Сцена, аплодисменты, поклоны, радостное удовлетворение и наслаждение самим собой, а после неизменные диалоги:
– Ты гений!
– От гения слышу.
– Приходи к нам, у нас концертмейстера до сих пор нет.
– Старик, я солист. Ты же знаешь, оркестр- это, увы, не мое.
И, главное, за всей этой смешной мишурой, за всеми высокопарными словами и пафосными поступками, за всем этим напускным, фальшивым блеском действительно скрыт настоящий талант, настоящая преданность своей профессии, неподдельная красота души…
– Играть будешь, или нет?
Подземный переход. Обладатель спортивного костюма- единственный, заинтересовавшийся моей персоной. Остальные идут мимо. Я – в пальто поверх свитера времён сытой домашней юности, с инструментом в руках. Раскрытый (должно быть- для денег) футляр у моих ног. И отсутствие стула.
– Я не могу играть. Мне нужно на что-то сесть…
– Давай стоя!
– Стоя нельзя.
Вот сейчас он спросит, почему нельзя стоя, я начну объяснять… А зачем? Видимо, мне хочется ему понравиться, или, возможно, я надеюсь его разжалобить. У него есть деньги- у меня нет. И желательно, чтобы какая-то часть его денег перекочевала ко мне в футляр. Просто так, не от любви к искусству, о котором он понятия не имеет, а хотя бы из снисхождения.
Но молодому обладателю спортивного костюма не интересно, почему на виолончели нельзя играть стоя- он разочарованно сплевывает себе под ноги и просто уходит. Видимо, ему не доводилось слышать о снисхождении к падшим гениям. И едва его нелепая широкоплечая фигура, обтянутая синей тканью с красными лампасами, исчезла из моего поля зрения, меня окликнули вторично, и я вновь обернулся, не ожидая, впрочем, ничего хорошего.
Он стоял шагах в пяти от меня, привалившись боком к стене. Конечно, я сразу узнал его- за несколько лет, прошедших с нашей последней встречи, он совершенно не изменился: тот же внушительный живот, те же плутовские огоньки в глазах, тот же низкий, чуть хрипловатый тембр голоса.
– Ну как, много заработал?
Я пожал плечами, изо всех сил стараясь стереть с лица глупую и широкую улыбку.
– Ну, чего лыбишься?– поинтересовался он,– узнал хоть?
– Узнал,– говорю.
– Конечно, такую морду хрен забудешь,– усмехнулся он,– может ещё и как зовут помнишь?
– Ты что меня, Полпальца, совсем за лоха держишь?– возмутился я, или, вернее, сделал вид, что возмутился.
– А черт знает, что у тебя там в башке теперь,– Полпальца отлепился от стены, вразвалку, солидно покачиваясь на каждом шаге, подошёл ближе, заглянул в раскрытый футляр,– эх ты, знаменитость залетная. Что, даже на бутылку не наиграл? Поделом тебе. В следующий раз думать будешь перед тем, как на дело идти, не посоветовавшись с коллегами по цеху и вообще- старыми знакомыми. Понял?
– Понял.
– Я твое "понял" на хую помпонил,– доверительно, с отеческой укоризной сообщил Полпальца,– пойдем, малый. Тут сегодня ты все равно каши не сваришь. И завтра не сваришь. В этом переходе тебя только менты принять могут.
– Куда пойдем?– спросил я, покорно пряча инструмент обратно в футляр, и, в общем-то, готовый уже ко всему.
– За встречу по маленькой для начала.
И, прочитав все по моему лицу, пояснил:
– Не боись, малый. Я ставлю.
***
– Работа не пыльная, место хорошее,– говорит Полпальца, разливая остатки второй бутылки по рюмкам,– на первое время тебе перекантоваться- самое то!
Я блаженно откидываюсь на спинку стула, прикрываю глаза. Хорошо. Впервые за долгое время хорошо прямо совсем, целиком, без отвратительных и вездесущих "но". За окном опять моросит, по улицам носятся безликие, мокрые, скользкие силуэты в куртках, в пальто, в плащах. Они зябко ежатся под навесами автобусных остановок, хмуро курят, отгородившись от слезливого неба черными зонтами, спешат к метро, шлепая по лужам и неумело, по-детски матерясь вслух или про себя. А я- здесь, и мне хорошо. На кухне много тепла и света, пахнет едой, кофе, и ещё какой-то обжитостью что ли- сразу становится ясно, что сидишь не в съемной квартире, пригодной лишь для вынужденного пребывания, а в чьем-то настоящем, уютном доме, в чьем-то маленьком, тайном мирке, существующем вопреки законам большого, сырого и злого мира. Тело мое накормили и напоили, душу как следует отжали, просушили, и теперь весь я сочусь густой, медовой благодарностью.
– Пьем,– кряхтит Полпальца.
– Пьем,– соглашаюсь я.
Даже опьянение здесь приходит не так, как обычно- не бьёт по затылку внезапно обвалившимся потолком, а тихо подкрадывается сзади, и как чуткая, любящая женщина нежно обнимает за плечи, шепчет на ухо святые непристойности…
Спустя секунду Полпальца возвращает свою пустую рюмку на стол, погружает мясистую кисть в пузатую банку, и короткие пальцы его начинают охоту за вертлявым и своенравным огурцом, то целиком исчезающим в мутном рассоле, то вновь появляющимся, и никак не дающим завладеть собой. Я без особого упорства стараюсь вспомнить, откуда взялось это прозвище- Полпальца? Ведь все пальцы на обеих руках у него в целости и сохранности…
– Говорю тебе,– все старается закончить уже давно начатую мысль мой приятель,– не пыльная работа, и место хорошее. Денег, конечно, мало… А где их сейчас много? Не жили богато- нехуй начинать. Зато на ноги встанешь, оклимаешься. А там дальше сам решишь, куда податься. Тебя везде с руками оторвут- не сомневайся.
Я и не думаю сомневаться- блаженно гляжу на дымящуюся в моей руке сигарету, улыбаюсь.
– Да что ты лыбишься все?!– не выдерживает Полпальца,– молчишь и лыбишься! Я ему дело говорю, а он…
– Можно,– спрашиваю,– я у тебя переночую?
Он замирает, так и не донеся пойманный огурец до рта, с минуту внимательно смотрит на меня, со смесью лёгкого раздражения и удивления во взгляде, потом пожимает плечами.
– Ночуй, не жалко. А насчёт работы-то что? Пойдешь к нам?
– Пойду, Полпальца,– отвечаю я, не переставая улыбаться,– конечно пойду. Куда ж мне теперь ещё?
И после, уже далеко за полночь, я стою у черного окна в небольшой, уютно захламленной комнате, смотрю на сыплющую дождем ночь и одновременно- на отражение, в которым посланный мне небом захмелевший ангел, бормоча себе что-то под нос, устраивает мне лежбище на полу из пледов, простыней, подушек… А затем свет гаснет, и я, заняв свое спальное место, продолжаю улыбаться уже в темноте, дослушивая нечленораздельный монолог, переходящий в сонное сопение:
– Вот так всю жизнь ходишь, ходишь по ахуенно тонкому льду, и все ждёшь, когда провалишься… Правильно ведь говорю, малый, правильно… А работа не пыльная… И место хорошее… А она мне говорит: "ты такой милый!"… А я ей тогда говорю…
…Мне снится поезд, неторопливо, со змеиным шипением подползающий к перрону. Мне снится седой проводник, распахивающий скрипучую вагонную дверь, проверяющий мой билет. Мне снится, как я вхожу, бросаю на полку вещи, сам сажусь на соседнюю, у окна, и поезд трогается, не дожидаясь других пассажиров. Продуваемый всеми ветрами перрон уплывает прочь, а я улыбаюсь, вслушиваясь в перестук колес. Лёгкой дороги, маленький, обманутый жизнью, но ещё больше самим собой, человек. В добрый путь!
Глава 1. Квинты и терции
Я вошёл в гримёрку первым- узкое и длинное помещение, хаотично заставленное вешалками и шкафами, со стенами, завешенными афишами и пёстрыми плакатами, с десятками неряшливо распахнутых и брошенных как попало футляров самых разных форм и размеров, напоминающих исполинские вставные челюсти. Едва я успел пройти вглубь, как следом за мной потекла многоголосая, шумная, чёрно-белая толпа- люди смеялись, люди ругались, люди с усталостью сбрасывали с себя казённые смокинги, белые рубашки, брюки, туфли, и постепенно превращались из безликих функционалов, составляющих общую массу на сцене, в отдельно взятых личностей, таких не похожих друг на друга в жизни. Я едва успел уложить инструмент в футляр, захлопнуть крышку, запереть замки и стянуть с шеи бабочку, как меня уже оттеснили в угол, вжали в стену- каждому здесь полагалось одинаковое, и более чем скромное количество личного пространства. Стараясь не попасть одним локтем в толстый волосатый живот, а другим- в обтянутые синей тканью трусов ягодицы, я выбрался из концертного наряда, водрузил его на вешалку, влез в джинсы.
– Как это мы в девятом номере разойтись умудрились?
– Понятно как- Главный постарался.
– Да это ещё что. Вот вчера третью часть развалили- это было нечто!
Я попытался отыскать взглядом футболку и сумку- не вышло.
– Когда же этот гном уже махать научится?
– А что, можно подумать, другие лучше машут.
– Ну знаешь, есть и получше.
– Есть. Да не про нашу честь.
Футболка обнаружилась под ворохом ничейных рубашек, некогда белых, а теперь серых и грязных, лежащих в этом углу, наверное, испокон веков.
– Мужики, кто на водку в поездку скидываться будет?
Это Февраль. Он же Гена, он же Геннадий Андреевич Февральский, бессменный концертмейстер группы вторых скрипок. Он женат, имеет двоих детей и трёхкомнатную квартиру где-то на окраине города, в свободное от семьи и работы время пьет, временами рыбачит и частенько вслух размышляет о несовершенстве мироздания. Его ценят и любят. Впрочем, как и каждого здесь, за исключением разве что меня, да и то лишь потому, что ещё толком не успели влюбиться и оценить.
– Скинуться, конечно, надо, но аванс только послезавтра…
– Я долг Пашке отдать обещал… Давай на следующей неделе?
– Что за водка-то хоть?
– Водка что надо,– важно заявляет Февраль, почесывая ляжку- подруга тещи с ликероводочного большую скидку сделать обещала.
– Не палёнка?
– Сам ты палёнка.
– Смотри, пол оркестра потравишь ведь…
– А сколько брать будем?
– Ну,– Февраль нахмурился, производя в уме не доступные простым смертным расчеты- литров двенадцать, думаю, точно надо.
Я вздрогнул и ошарашено замер, так и не дотянувшись до футболки. Нет, не то чтобы меня каким-то особенным образом поразило услышанное, да и чужой алкоголизм, так же, как и свой собственный, уже давно стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся, но масштабы, господа… Масштабы до сих пор вызывали у меня уважение и благоговейный трепет.
– Это на сколько нам?
– Смотри,– с готовностью принялся объяснять Февраль,– два дня туда, так? Два дня там, так? И два дня назад.
– А как повезем?
– Я все уже придумал. Заливаем в канистры, отдаем их водителям. Кто на границе к водительским канистрам придерется?
– А если всё-таки найдут? Жалко будет…
– Кто не рискует, тот не пьет, мужики. А мы будем.
Я надеваю кеды, ежесекундно пожимая протянутые руки пробираюсь к выходу, с облегчением выскальзываю в коридор… и сталкиваюсь нос к носу с Полпальцем- он всегда приходит в гримёрку последним и чуть погодя, когда многие уже успели переодеться и уйти, ибо его аристократичная натура не терпит спешки, суеты и потной, душной сутолоки.
– Ну как, малый?
Я быстро пожимаю плечами, хмурюсь, оттопыриваю нижнюю губу и киваю, оставив интерпретацию этой пантомимы на совести его воображения.
– Ничего, малый, бывает!
Полпальца был главным символом, главной духовной скрепой виолончельной группы, о нем ходили разные слухи, обильно распускаемые обожателями и ненавистниками. Не высокий, тучный, он больше всего напоминал сытого, гордого и хитрого кота, в особенности когда важно прохаживался по закулисью, щуря глаза, на дне которых никогда не тухли озорные огоньки. Полпальца не признавал ни одного представителя местной оркестровой власти, и клал внушительных размеров детородный орган на любые обязанности, что не мешало ему на корню пресекать даже самые незначительные посягательства на свои права. Однако, он обладал каким-то иррациональным, сверхъестественным талантом влиять на группу, окутывая всех своим странным, бунтарским обаянием, приумножая авторитет своей персоны не благодаря, а вопреки любым обстоятельствам. Полпальца не был, и никогда не стремился стать концертмейстером, предпочитая роль серого кардинала- ему было лень нести тяжёлый крест ответственности, ему нравилось наблюдать со стороны, как наблюдает монарх за своим народом, или проповедник за своей паствой.
Я пожал Полпальцу руку и заспешил к выходу, однако, дорогу мне преградил наш вездесущий инспектор.
– Вы в ведомостях расписывались?
– Расписывался,– отвечаю.
– В каких?
– Во всех.
– Когда?
– Позавчера, вчера, и сегодня два раза.
– Распишитесь ещё раз. Лишним не будет.
Я покорно поставил автограф на протянутом мне бланке, пробормотал:
– В последнее время я расписываюсь больше, чем работаю.
– А вот это вы зря,– наставительно изрёк он,– работать нужно больше и усерднее!
Киваю уже находу, и почти бегу, чтобы не встретить ещё кого-нибудь. Инспектор наш, в сущности, мужик неплохой. Неплохой ровно настолько, насколько может быть неплохим пастуший пёс, следящий, чтобы стадо овец паслось в специально отведённом для этого месте. Его никто не уважает и уж тем более никто не боится, но дисциплину при нем, из вежливости, стараются соблюдать. А больше, в общем-то, ему ничего и не надо. Иногда, правда, нашего инспектора посещают странные идеи революционного характера- к примеру, однажды он вознамерился ввести в оркестре сухой закон. То есть пить возбранялось как до, так и после работы. Тем, кого на протяжении месяца не уличали в пьянстве, даже полагалась небольшая премия. Однако отчего-то столь смелая попытка наставить коллектив на путь истины не увенчалась успехом, и наш инспектор ограничился тем, что взялся с удвоенным рвением следить за соблюдением трезвости хотя бы в рабочее время. Впрочем, даже это не всегда хорошо ему удавалось, ибо коллеги мои отличались находчивостью и фантазией. Помню, как вознамерился он взять, так сказать, споличным Полпальца- все знали, что духовная скрепа виолончельной группы регулярно грешит на рабочем месте, то есть в нашей скромной столовой, и не только. Надо сказать, что там действительно совершенно законно продавался алкоголь всех сортов, вроде бы как для тех случаев, если в буфет вздумает неожиданно нагрянуть большое начальство. Несколько дней инспектор тенью следовал за Полпальцем всюду, и когда нашему серому кардиналу это наскучило, он придумал такую штуку- пришел в антракте в буфет, и говорит:
– Настенька, ненаглядная моя, плесни-ка мне стаканчик минералочки, а то глотка пересохла.
Инспектор, разумеется, уже тут как тут. Настя, наша буфетчица, протягивает полный стакан.
– Ну, как служба?– интересуется Полпальца, опустошив стакан наполовину.
Инспектор пожимает плечами, будто бы невзначай подходит ближе, принюхивается. Нет, не пахнет. А чем минералка-то пахнуть может? Полпальца допивает, и вновь просит:
– Настенька, солнце, налей ещё.
Раздосадованный инспектор отходит, садится за свободный столик, и продолжает свое наблюдение уже оттуда. А Полпальца выпивает второй стакан, по Гагарински машет рукой и покидает буфет. Позже, правда, разнесется слух о том, что Полпальца, выходя с остальными музыкантами на второе отделение, споткнулся о ковровую складку, и, взволнованно матерясь, вывалился на сцену, увлекая за собой находящуюся рядом скрипачку, которую он вроде бы по-дружески приобнимал за талию. Злые языки расскажут и о том, что будто бы была у Полпальца с буфетчицей какая-то особая договоренность по поводу некоего второго стакана. Кто-то даже, заговорщицки подмигнув, сообщит, что от Полпальца ПАХЛО… Да только кто ж слухам-то верит? Главное что и Полпальца, и скрипачка остались целы, второе отделение того концерта прошло ещё лучше, чем первое, зрители аплодировали стоя, а инспектор плюнул на свою слежку и занялся другими делами.
Но что-то мы отвлеклись.
Я вышел на улицу, поежился, уже неспеша добрел до курилки, где стояли несколько человек, покопался в карманах, извлёк пачку и зажигалку.
– И этот гол на предпоследней минуте- ну просто загляденье!– донёсся до меня обрывок беседы.
– Да ну, скучная игра. Нападающий у них- полный лох. Как только мяч получает- сразу выпендриваться начинает, а как до удара по воротам доходит- мажет безбожно. Я этого, если честно, вообще не понимаю. Ну как? Ты в футбол с детства играешь, это твоя работа, так неужели за столько лет ты по воротам попадать не научился с такого-то расстояния?
– Ну, знаешь, ты тоже на валторне уже столько лет играешь, и, вроде бы, все не плохо, а иногда, бывает, как пёрнешь мимо кассы – аж люстра в зале затрясется, и у дирижера все волосы на яйцах поседеют!
– Это верно, бывает.
Вот сбегает с крыльца и спешит к своей машине низенький, пухленький мужичек в дорогом пальто , с вечной гримасой "в каком же дерьме я вынужден копаться" на лице- когда он проносится мимо курилки, все отворачиваются, делают вид, что увлечены беседой, чтобы ни дай бог не попрощаться, не протянуть руки. Это- наш главный дирижёр. Он же- просто Главный. Он же блядский карлик, ебучий гном, он же Черномор, он же Бибигон, крыса, картавый хоббит, он же рождественский эльф, он же безрукий инвалид, засраный лилипут, и так далее. Вне зависимости от пола, возраста, идеологии, политических и религиозных взглядов, его ненавидят все, и эта коллективная ненависть сближает самых разных людей, как сближает, например, война или стихийное бедствие. И, стоит отдать ему должное, Главный делает всё, чтобы черное пламя этой ненависти никогда не затухало. Впрочем, особенно стараться для этого ему и не нужно- он бездарен, хамоват, трусоват, ленив, алчен, тщеславен, его запасы подлости и самодурства неисчерпаемы.
Тем временем ко мне подходит Шура Дмитров, спрашивает своим тихим, мягким голосом:
– Ты едешь?
Я киваю, тушу сигарету. С Шурой мы живём в одном доме, и иногда он подвозит меня на машине. Шура кларнетист, а по совместительству ещё и буддист, что мне, не скрою, крайне импонирует. Он тихий, славный и добрый малый, с философскими, хоть и несколько печальными взглядами на жизнь.Он никогда и никому не делал зла, всегда был вежлив, чуток и немного грустен, имел семью, редко пил и стоически переносил все тяготы бытия. Когда-то давно Шура работал в народном оркестре, где подлые и недалекие люди сыграли с ним злую шутку. Случилось примерно следующее- в одном из номеров концерта весь оркестр посреди разудалой плясовой должен был прокричать:" Барыня, барыня! Барыня-сударыня!", или что-то вроде этого. Один из коллег Шуры отличался весьма тонким чувством юмора, и, желая продемонстрировать свой талант, убедил его, что кричать нужно совсем в другом произведении. Ничего не подозревающий Шура поддался на провокацию, и в самом тихом моменте, не обращая внимания на тоскливые переливы балалаек и домр, рявкнул, не жалея связок: "Барыня, барыня!", после чего так расстроился, что до конца концерта не смог извлечь из кларнета ни одной ноты. Спустя неделю он тихо и незаметно уволился, ни с кем не сводя счёты, не затаив обиды, и обрёл пристанище у нас, где к нему все относятся, как святому. А может быть даже и ещё лучше.
Мы молча дошли до стоянки, сели в его машину, и ещё несколько минут не могли выехать, дожидаясь, пока иссякнет поток разъезжающейся по домам публики.
– Я вам весь вечер в дудку дудел, а вы теперь даже пропустить не можете,– бормотал Шура не с раздражением даже, а с какой-то детской обидой в голосе.
– Козлы неблагодарные,– подтвердил я,– хотя, они ведь не знают, что это именно ты им в дудку дудел.
– Не знают,– согласился Шура, выруливая, наконец, на шоссе,– а если бы даже и знали – все равно бы не пропустили…
Мы мчимся по ночному проспекту, мимо мелькают улицы и площади, щедро залитые электрическим светом. Я слушаю монолог Шуры о том, что клаксон его автомобиля раньше выдавал чистую квинту, и Шура этим очень гордился, а теперь сигналит какой-то отвратительной малой терцией, и в ближайшие выходные это нужно непременно исправить. Я улыбаюсь и время от времени киваю, думая о том, что вот сейчас этот блаженный доберется до дома, запрет машину, поднимется на свой этаж, войдёт в квартиру… Там его встретит жена, накормит ужином, и пока он будет есть, она станет рассказывать что-нибудь об успехах детей, или о том, как прошел ее день… А я приду к себе, без особого желания, скорее по привычке, выпью, лягу на диван не раздеваясь, накроюсь пледом.
Все мы такие разные, одинокие и не очень, счастливые и несчастные… Но по необходимости становимся одним целым, единым живым организмом, с его сердцем, печенью, лёгкими, жгутами артерий. Мы становимся этим организмом, и дарим, дарим, дарим людям счастье, почти бескорыстно, не получая от них ничего взамен. Возможно, именно благодаря нам кто-то сегодня не повесится, не шагнет в окно, не изменит жене, навестит пожилых родителей… По крайней мере очень хочется верить в это. Или во что-то ещё. Лишь бы не оставаться наедине с мыслью об абсолютной ненужности – себя самого и своего ремесла, которому ты отдался целиком, однажды и навсегда. Мы топим такие мысли в алкоголе, забиваем их все новыми и новыми дозами никотина, сбегаем от них к, в общем-то, ненужным нам женщинам и мужчинам, душим их содержанием прочитанных книг и просмотренных телепередач. Каждый ведёт эту войну, как умеет, и каждый по-своему прав в выборе оружия.
А остальное- и в этом Шура, конечно же, прав- не имеет особого значения, ибо никакие ухабы и рытвины на жизненном пути не могут по своей значимости конкурировать с клаксоном, выдающим малую терцию вместо чистой квинты.
Глава 2. Каминные спички.
Музыка редко заканчивается в тебе просто так, будто по щелчку невидимого тумблера- вот ещё несколько минут назад ты находился в ней, производил ее и был ей самой, и вдруг все это кончилось с последней нотой, с последним аккордом, кончилось за миг до того, как зал громыхнул аплодисментами. Нет, так не бывает почти никогда. Музыка продолжает бродить по артериям, она заражает мозг невыносимой чесоткой, она звучит в чулане твоего черепа, ее ритмы подстраиваются под твое сердцебиение. Образы, поднятые ей с илистого дна памяти, или слепленные из мягкой глины воображения, вертятся перед глазами даже тогда, когда ты стоишь, привалившись к столбу у автобусной остановки, или куришь у подъезда своего дома, или ковыряешь вилкой ужин. Даже когда ты тушишь свет, ложишься в постель и закрываешь глаза- музыка звучит под кожей, и стая потревоженных ею пестрых эмоций все кружит в тебе, заставляя елозить по простыне, ворочаясь с боку на бок, в тщетных попытках уснуть. Если не научишься глушить ее, рано или поздно проснешься в комнате со стенами, обшитыми мягкой тканью, и усталая некрасивая медсестра будет протягивать тебе горсть разноцветных таблеток и стакан воды.
Мы сидим за столом у окна, изредка по очереди вглядываясь в сырую темноту осенней ночи, а буфетчица Настенька носит нам холодное пиво, не забывая убирать пустые бутылки, и каждый раз мы искренне благодарим ее, предлагаем присесть с нами, но она делает строгий вид, качает головой и грозит пальцем. Мы смеемся. Нам хорошо. Мы глушим музыку внутри подручными средствами.
– Ничего, пообвыкнешься,– хлопнув меня по плечу, говорит Сергей Анатольевич, один из наших ветеранов сцены,– я когда-то ведь как и ты пришел. Зелёный был, неопытный. На первой валторне сидел, перед каждым концертом от страха трясся. А сейчас глянь- лет тридцать прошло, и куда, спрашивается, то волнение делось? Всего повидал, ничем не удивишь. Матёрый, понимаешь, волк…
– Анатольич,– весело перебивает его Февраль,– так ты ведь уже давно не на первой, а на третьей валторне сидишь. Ты, Анатольич, наша самая бесстрашная третья валторна!
– Правильно, третья,– слегка погрустнев, соглашается ветеран сцены,– ну так меня и перевели на третью исключительно по выслуге лет. Вредно, говорят, в вашем возрасте, Сергей Анатольевич, волноваться. Молодые пусть волнуются. А было время…
Февраль на несколько секунд присасывается к бутылочному горлышку, кадык на его шее работает, как насосный поршень.
– Настенька, принеси-ка ещё бутылочку,– просит Валерка Прохоров, наш бессменный литаврист,– очень уж мне первая понравилась.
Настенька со смехом удовлетворяет просьбу.
Валерка пухленький, лысый, румяный, чрезвычайно энергичный и потрясающе смешной – где бы он ни появлялся, всюду, спустя несколько секунд, звучит чей-то хохот. Кажется, знает он обо всем на свете, может поддержать любой разговор в любой компании, но главным его талантом остается умение смешить. Это выходит у Валерки как-то само собой- любое его действие, любая фраза, любое слово смешит уже само по себе. Даже когда он молчит, окружающие люди отчего-то не могут сдержать улыбки. Всегда и везде Валерка званый гость, без его участия не обходится ни одна оркестровая попойка.
– Спасибо, родимая,– благодарит он буфетчицу, и все мы смеемся, хотя, казалось бы, с чего?
– Валерка,– оторвавшись, наконец, от бутылки, задумчиво говорит Февраль,– а о женитьбе ещё не думал?
– Не. А на что мне жена?
– Ну, любить и обожать тебя будет.
– Да ну ее.
И опять-таки все смеются.
Я тоже смеюсь. Музыка внутри уже почти не слышна, значит я уже почти нормальный человек, и скоро можно будет выдвигаться в сторону дома.
– А вот Настьку бы нашу что, тоже в жены не взял бы?– не отстаёт Февраль.
– Настьку-то?– Валерка расплывается в очаровательной улыбке,– Настьку бы взял. Только она не пойдет.
– И не надо,– подключается к беседе уже захмелевший ветеран сцены,– Валере нужна супруга постарше. Опытная, понимаете? Серьезная, правильная…
– Постарше?– Валерка на секунду задумывается,– а что, постарше – это то, что надо! Главное, что б пенсия хорошая была!
И снова все мы смеемся.
Когда глушишь музыку внутри себя, главное- не увлечься, не упустить тот момент, когда последний отзвук ее уснул где-то на стыке мыслей и чувств. Иначе рискуешь продолжить глушить, только уже не музыку, а самого себя, будто забивая беспомощную, не умеющую оказать сопротивления душу.
Беседа за столом перетекает в свое привычное русло.
– А я смотрю на Главного, и думаю- покажет он вступление, или не покажет? Не показал. Ну, мы и не сыграли, естественно!
– Правильно. Он никому не показал, кстати.
– Конечно правильно! Первое правило тромбонов, да и всей меди- ты не будешь играть, если какая-то хуйня вокруг происходит! Ибо сказано- не навреди!
Как-то совсем незаметно пиво на столе подменили на водку, но все сделали вид, что подмены не заметили. Я уже собрался было идти, даже снял со спинки стула пальто, но тут ко мне почти вплотную придвинулся Февраль.
– Возьми,– говорит,– подарок тебе от меня символический.
И протягивает длинный и узкий спичечный коробок.
– Что это?– спрашиваю.
– Спички для камина.
– И зачем они мне?
Какое-то время Февраль смотрит на меня с искренним недоумением, будто бы уже не раз бывал на моей загородной вилле и самолично разжигал там камин. Потом, все же, снизошёл до уровня моего мелкокалиберного интеллекта, и пояснил:
– Ну, мне они вообще не нужны, понимаешь? А тебе пригодятся. Говорят, от них прикуривать удобнее.
Я сделал вид, что это сомнительное утверждение меня вполне удовлетворило, и сунул коробок диковинных спичек в карман. Тем временем, за столом все уже пили водку, и говорили, как водится, на вечные темы – со дня сегодняшнего съехали на день вчерашний, затем ещё дальше, и ещё, пока не оказались в том далёком и бесконечно прекрасном прошлом, о котором даже ветеран сцены знал лишь по рассказам старших коллег, случайно подслушанным в дни его желторотой молодости. Я уже и сам пил водку, жадно впитывая истории о дирижерах от бога, о гастролях с заоблачными гонорарами и королевскими условиями, о Настоящих Личностях, которых теперь в оркестре почти не осталось- так, должно быть, деревенские дети, усевшись на лавки, забравшись на печи, слушали, разинув рты, бродячего старца-сказителя. И с каждой новой рюмкой все больше верилось, что сахар действительно в те времена был слаще, и солнце светило как-то совсем иначе. Время от времени, прерываясь на самом интересном месте очередной былины, от Настеньки требовали добавки, и та, пребывая в весёлом негодовании, всё-таки удовлетворяла просьбы изрядно захмелевшей богемы, грозясь, что на этом уж точно все. Разумеется, всерьез ее угрозы никто не воспринимал.
Вдоволь насытившись преданиями глубокой старины, взгляды наши устремились в зыбкое и туманное будущее. Несмотря на вялые протесты Настеньки, все как-то одновременно закурили- буфет заполнили тяжёлые клубы табачного дыма. Принялись пророчествовать- задумчиво и не громко, стряхивая пепел в пустые рюмки и блюдца. Предсказывали, как это водится, невозможную, но такую желанную смену Главного, повышение зарплат, гастроли в теплые края, и, конечно, смену поколений. Февраль мельком глянув на часы, предпринял смелую попытку подняться из-за стола, пошатнулся, и сел на место. Ветеран сцены, прижав к уху телефон, объяснялся с женой, трудолюбиво выговаривая длинные и сложные слова, но буксуя на простых и коротких, из-за чего легенда о том, что он застрял в нашем лифте и два часа не мог из него выбраться, а выбравшись, писал в дирекции некую объяснительную, трещала по швам. После, уже отложив телефон, он ещё некоторое время горестно вздыхал, и всеми силами оттягивал момент своего ухода, пока кто-то не вызвал ему такси.
– Анатольич, бедняга,– посочувствовал Февраль,– он и так у жены своей был на испытательном сроке, а теперь уж точно все, пиши пропало.
– Что, думаешь, она уйдет от него?
– Хуже. Приговорит к исправительным работам.
– За что ж она его так?
– А ты не знаешь?– Валерка, уже начавший было клевать носом, оживился,– поехали они с женой этой осенью картошку копать. Приезжают на поле, глядь- а картошки нет! Голая земля! Какой-то злодей в их отсутствие всю картошку выкопал! Ну, жена давай сокрушаться, мол, что ж это делается, и до чего дожили. Анатольич тоже сокрушается, да ещё громче. Эх, говорит, попался бы мне этот гад, я б ему ого-го! Он бы у меня эге-ге!
– Ну, и дальше что?
– А что дальше? Делать нечего- поехали домой. Жена уже вроде как успокоилась, а Анатольич все никак не уймется, и продолжает, мол, да где это видано, да как это понимать.
Валерка сделал паузу, долил остатки из рюмки в гортань. Все ждали, никто не смел поторопить рассказчика.
– А потом, уж и не знаю, как, но выяснилось, что картошки этой там не было и в помине. Никто ее не сажал, а просто прошлой весной Анатольич с Полпальцем на поле это бухать ездили. Мы, говорят, сами поедем да посадим. Чего, говорят, тебе жена с нами спину гнуть. Мужики справятся!
Грохнул дружный хохот.
Я потряс головой, стараясь разогнать таким образом сгустившиеся там тяжёлые тучи. Не вышло. Буфет уже давно плавал из стороны в сторону, как картинка на экране старого, не отстроенного телевизора, в ушах нарастал таинственный звон, чем-то напоминающий колокольный. Помню, как я неловко поднялся, побрел к выходу, по дороге стараясь поместить руки в рукава пальто, как столкнулся в дверях с Шурой, который, судя по виду, тоже уже слышал колокольный звон. Я похлопал его по плечу, невнятно пообещал:
– Все будет хорошо, Шурка.
– Хорошо-то все, конечно, будет,– спотыкаясь на каждом слове, ответил он,– только смысла от этого не прибавится.
Как добрался домой- не помню. Кажется, в ногу со мной брела зябкая осенняя ночь, и фонари пялились своими хищными желтыми зрачками из каждой лужи. "Может быть, идти домой- не самое лучшее решение?– вроде бы думал я о чем-то подобном,– может быть правильнее лечь на этом асфальте и умереть? Как бы это было созвучно всему тому, что вокруг…"
Отчётливо помню, как долго ворочал ключами в замке, как потом, уже попав в квартиру, не раздеваясь побрел на кухню, в надежде отыскать там пищу, которой, естественно, не нашлось. Помню, как водрузил на плиту кастрюлю, наполненную водой, как с пятой попытки разжёг под ней горелку, как сел на стул, на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл их вновь, вода в кастрюле уже кипела.
– Нужно поесть,– бормотал я, как заклинание,– вот сейчас я поем, и все сразу пройдет, все кончится.
Помню, как щедро сыпал в кастрюлю макароны, приговаривая:
– Сыпь побольше, побольше, чтобы наесться, чтобы обязательно лечь спать сытым и счастливым!
Я помешивал макароны столовым ножом, случайно попавшимся под руку, и раскачивался сам, словно бы и меня помешивал кто-то невидимый и всесильный, дабы я не пристал к стенкам своего трехкомнатного обиталища кастрюльного типа, не слипся со столом, стулом, холодильником, плитой и стенами. Однако, макароны, как назло, попались строптивые, и упорно не желали вариться, тем самым посягая на мое сытое и счастливое будущее.
– Ух, суки!– возмущенный их дерзостью, прошипел я, и сыпанул в кастрюлю ещё.
Теперь я помешивал свой будущий ужин в два раза усерднее и агрессивнее- из кастрюли с шипением стала выплескиваться вода. Бормоча витиеватые проклятия в адрес отечественной пищевой промышленности, я время от времени тыкал в макароны ножом, проверяя степень их готовности, и тихо постанывал от голода и разочарования.
Не знаю, в какой момент ночи я всё-таки отчаялся, выключил плиту, спотыкаясь добрался до своей комнаты. Стягивая с себя одежду, я продолжал шепотом сокрушаться:
– Бракованные макароны… Ну это ж надо… Подумать только- бракованные макароны! Нонсенс! Паноптикум, мать твою!
Потом, спустя семь или восемь часов нервного и душного сна, я встану, в одних трусах доковыляю сначала до ванны, чтобы плеснуть в оплывшее лицо холодной водой, а затем и до кухни, где буду минут пять с видом уставшего от жизни мыслителя стоять над кастрюлей, так и оставленной мной вчера на плите, и смотреть на плавающие в ней каминные спички…
Но это будет потом. Где-то совсем в другой вселенной. А сейчас я просто закрою глаза, и, несмотря ни на что, усну.
Глава 3. Не пилот.
В свой вполне заслуженный выходной, уже третий подряд, я с самого утра бесцельно шатался по пустой квартире, в поисках подходящего для такого прекрасного дня занятия. Раза два или три забредал на кухню, пил воду, смотрел в окно, возвращался в комнату, рассеянно переключал телевизионные каналы, листал какие-то книги, выдергивая первые попавшиеся предложения то из одной, то из другой, и вновь шел на кухню. Вместе со мной, шаркая и крехтя, по квартире шаталась хромая, горбатая и крайне недружелюбная совесть.
– Займись делом,– шамкала она своим мерзким беззубым ртом.
– Отстань,– огрызался я.
– Посмотри, на кого ты стал похож,– не унималась она,– любовь похерил, талант пропил, а денег как не было, так и нет.
– Отстань, говорят тебе!
– Ты всегда был раздолбаем, но с честью и достоинством. А теперь превратился в унылое серое чмо.
Вместо привычного для таких ситуаций матерного ответа, я оделся, обулся, вышел на лестничную клетку, запер дверь, и, с лёгкой стремительностью сбежав по ступеням, толкнув тяжёлую подъездную дверь, направился в ближайший магазин. " Должен же порядочный, уважающий себя человек иногда ходить в магазин?– думал я находу, напевая себе под нос что-то беззаботно мажорное,– и не в круглосуточный посреди ночи за добавкой или сигаретами, а, как и положено, за продуктами и прочими необходимыми для нормального, среднестатистического существования вещами". Мне было приятно осознавать, что, наконец, нашел правильное и хорошее дело- значит, найдутся и ещё. Выходной ведь! Столько можно всего полезного и правильного сделать!
Однако, войдя в магазин, я в растерянности замер, словно бы оглушенный пёстрым товарным изобилием. Мимо меня, неодобрительно косясь, скользили целеустремлённые хмурые люди, уверенно берущие что-то то с одной, то с другой полки, ибо, как и подобает взрослым и здоровым особям их вида, они шли сюда не просто из желания привнести в свой день правильности и полезности, а за вполне конкретными вещами, то есть по необходимости. Я же все стоял и горестно задавался вопросом- как определиться, чего хочешь в жизни, если не можешь решить даже, что тебе нужно в продуктовом? Ко мне подошла молодая девушка в униформе обслуживающего персонала, и недружелюбно осведомилась, не нужна ли мне помощь, от чего я окончательно стушевался, занервничал, схватил с первой попавшейся полки пару носков, суетливо расплатился на кассе, и побежал домой, чувствуя себя трусливым солдатом, дезертировавшим с поля боя.
А дома, разумеется, уже поджидала, сидя на пороге, ехидная старуха совесть.
В общем, после длительных душевных терзаний, я поехал на работу- заниматься. Добравшись же, долго курил у входа, обсуждая с каждым проходящим мимо коллегой последние новости, потом пил кофе в буфете, улыбаясь Настеньке и обсуждая с ней тяжёлые погодные условия наших широт, и лишь после этого дошел до гримёрки, разложил инструмент и принялся извлекать из него разнообразные звуки, долгое время ленясь приступить к работе над каким-нибудь серьезным и сложным произведением.
Дверь скрипнула, в гримёрку вошла Тамара- крупногабаритная дама того самого, изумительного возраста, маленькие радости которого ограничиваются удачной покупкой свинины, прополкой дачных грядок под задушевные завывания радиоприемника, и громогласным порицанием целующейся в общественном транспорте молодежи. Возможно, ее бы давно уже списали в тираж, если бы не боялись мятежа стада таких же, вроде бы борозды не портящих, но и давно уже особой пользы не приносящих старых кляч. Их терпели по привычке, как терпят наличие в доме какой-нибудь доисторической мебели, передающейся по наследству. Выкинуть ее- значит выказать свое приступное неуважение к семейному прошлому.
Я продолжал играть, а Тамара, грузно приземлившись на ближайший стул, принялась громко сопеть, вздыхать, кашлять, шумно рыться в своих многочисленных пакетах.
– Ой, голова!– вдруг особенно громко возопила она, и я всё-таки вынужден был прерваться.
– Что с вами, Тамара Васильевна?– осторожно осведомился я.
– Давление…– простонала старая ведьма, закатив глаза и прижав ко лбу ладонь,– виски ломит так, что мамочки родные!
– Так шли бы вы, Тамара Васильевна, домой?– со всей любезностью, на которую был способен, предложил я,– по дороге в поликлинику зайдёте, давление померяете…
– Да как же пойду?– она горестно всплеснула руками,– а кто ж работать за меня будет?
Дело явственно запахло керосином, на мой выходной надвинулась тревожная тень какой-то чудовищной по своим масштабам подлости.
– Не бережете вы себя совсем, Тамара Васильевна,– скороговоркой забормотал я, отложив виолончель и медленно двинувшись к дверям,– с давлением не шутят, вы же понимаете…
Проклятая паучиха, видимо почувствовав, что жертва пытается выбраться из сетей, вытянула свои толстые, туго обтянутые чулками ноги, перегородив ими выход.
– Вот так работаешь, работаешь, людям добро делаешь, а как беда придет, так никто руку помощи-то и не протянет,– ненатурально всхлипнула она, пытливо шаря по мне внимательным и плотоядным взглядом,– ничего страшного- поработаю. Даст бог- не помру… Ах!
В это последнее "Ах" было вложено столько глубинной боли, вызванной людской черствостью и тотальным непониманием, что прослезился бы даже камень, но я был тверд духом и вооружен спасительным цинизмом, иными словами, был почти неуязвим. И все же…
– Теперь и в сердце вот что-то закололо…
А заметив, что жертве уже никуда не деться, паучиха ринулась в атаку:
– Слушай, может подменишь меня сегодня? Ты же свободен?
– Но я даже не репетировал…
– Да что там репетировать? Концерт рядовой, играть нечего. А я бы хоть к врачу сходила. Выручишь, а?
Я никогда не переводил старушек через дорогу, редко подавал руку дамам, выходящим из общественного транспорта, часто позволял себе саркастические ремарки в адрес окружающих меня людей, не раз, и без всяких угрызений совести, извлекал для себя пользу из чужой беды- возможно, поэтому многие считают меня нехорошим человеком. Не злым, не корыстным, даже не безразличным, а именно что нехорошим. Наверное, это понятие объединяет в себе как вышеперечисленные, так и оставшиеся между строк пороки. Мои родители, насколько я помню, никогда не употребляли этого словосочетания, видимо желая привить мне с детства сомнение в существовании надёжной, нерушимой границы между хорошим и плохим, добрым и злым, правильным и не правильным, зато от чужих людей я слышал регулярно: "посмотри, вот это- хорошая тетя, а вот это- нехороший дядя". Однажды услышал от родной бабушки, когда мы возвращались с прогулки теплым летним вечером:
– Видишь, вон там, на лавке, сидит нехороший человек.
Я изо всех сил попытался разглядеть в темноте детали сидящей на скамейке фигуры, безобидно дымящей сигаретой, время от времени подносящей ко рту бутылку и совершенно не интересовавшейся окружающим миром- разглядеть не удалось. А спустя двадцать лет я сам буду сидеть, зябко ежась, на какой-нибудь лавке у детской площадки, курить и глотать крепкое спиртное в гордом одиночестве, стремительно теряя всякую связь с миром внешним, и напряженно прислушиваясь к миру внутреннему- кто-то покажет на меня пальцем и сообщит наивному чаду: "видишь, вон сидит нехороший человек". В сущности, этот кто-то будет прав. Но иногда всё-таки хочется, чтобы любили, гордились, ставили в пример… Иногда просто тянет побыть хорошим человеком- не долго, до первого крупного разочарования.
А хорошим людям по статусу положено совершать хорошие, правильные деяния.
– Хорошо, – сказал я, переборов тяжёлый, в меру страдальческий вздох,– поработаю сегодня за вас. Вы, главное, поправляйтесь.
Старой ведьме в миг полегчало- она резво подскочила ко мне, крепко обняла, обдав тошнотворной волной приторно сладких духов, горячо и щедро благодарила, пока собирала свои многочисленные пакеты и авоськи, а затем черезчур торопливо покинула гримерку- видимо, побоялась, что я передумаю.
***
Чем меньше времени оставалось до концерта, тем сильнее крепло во мне предчувствие неотвратимо надвигающейся катастрофы. Все коллеги, которых я встречал, были мрачными, напряжёнными, и больше всего напоминали приговоренных к расстрелу в день казни. На курилке Анатольич заговорщицким шепотом сообщил мне:
– Есть все основания полагать, что до конца сегодня не дойдем.
– В каком смысле?
– В самом прямом- развалимся посреди симфонии, да так, что костей не соберём.
Февраль, с которым я столкнулся в коридоре, выразился более туманно и кратко:
– Ебись оно все троекратно.
И лишь Шура, пойманный мной в буфете за руку, дал некоторые разъяснения относительно всеобщей паники, стремительно переходящей в глухую тоску и стоическую обречённость коров на бойне.
– Ты пойми,– говорил Шура,– за три дня до концерта пришел приказ от большого начальства- во что бы то ни стало добавить в программу симфонию, прежде нами не игранную. Вначале все подумали- ерунда, ничего страшного. За три репетиции сделаем, не впервой ведь. После первой репетиции стало ясно- дохлый номер. Вторая репетиция отменилась- Главный пропал. Потом выяснилось, что он то ли ногу сломал, то ли почки простудил, в общем что-то в этом духе- стало быть, жопу свою прикрыл, в говне не замарался. На третью репетицию махать его ассистент пришел- молодой, зелёный, руки трясутся, глаза бегают… Короче – совсем беда. Как выплывать будем- не представляю.
Ещё ничего толком не понимая, я вернулся в гримерку, где перед зеркалом уже стоял одетый в концертную форму Полпальца, придирчиво вглядываясь в собственное отражение. Увидев меня, он деловито осведомился:
– Ты что забыл тут, малый?
Я сбивчиво объяснил ему ситуацию с Тамарой. Полпальца присвистнул.
– Попал ты, малый. Капитально попал. Пошел по ахуенно тонкому льду. Тамара должна была сегодня концертмейстера нашего заменять- он, сука, на больничном. А теперь, значит, концертмейстер у нас ты. Понял, чем пахнет?
Я понял, и с размаху сел на удачно оказавшийся рядом стул. Сердце забилось часто-часто, ноги и руки одеревенели, в голове кто-то мгновенно навёл генеральную уборку, не оставив ни одной мысли и выключив свет.
В том, что происходило дальше, я словно бы и не участвовал, а так, как будто смотрел не слишком увлекательное кино с самим собой в главной роли, и отчего-то ленился переключить канал- вот я выхожу на сцену, вот сажусь во главе группы (руки трясутся, ладони потеют, в горле застрял исполинских размеров ком), вот выходит дирижёр (бледный, как покойник, с глазами засушенной рыбы), вот он поднимает руки…
***
Первой в бездну рухнула медь- просчитались, и как-то сиротливо, стеснительно пёрнули не туда валторны, попытались исправить положение, пёрнули снова, и снова не туда, после чего заглохли окончательно, видимо отчаявшись и умыв руки. В образовавшийся вакуум попробовал было влезть одинокий тромбон, коротко возопив умирающим слоном, однако, не почувствовав поддержки, почти сразу ретировался. Рыкнула туба, невпопад взвизгнули трубы, отчего струнная группа окончательно потерялась в пространстве и времени- пока первые пульты еще продолжали имитацию бурной деятельности, последние уже нежно поглаживали смычками воздух в сантиметре от струн. Дирижёр давно перестал отрывать свой печальный взгляд от партитуры, не переставая, однако, что-то деловито отмахивать и едва успевая утирать с белого, как мел, лба обильно струящийся пот. Тем не менее, симфония продолжала звучать, пусть и в несколько деформированном виде – лица у публики в зале были сплошь одухотворёнными и задумчивыми.
– Сто двадцать семь,– отчётливо произнес дирижёр номер такта, в котором мы, по его смелым прогнозам, уже должны были оказаться.
Идиот. Разве может остановить сошедший с рельс и несущийся под откос горящий товарняк человек, стоящий на его пути и бешено размахивающий руками?
Звучащая музыка все больше напоминала жуткий, многоголосый вой грешников в адских котлах. Громыхнули литавры, лязгнули тарелки, заныли кларнеты и фаготы в какой-то неопределенной, зыбкой тональности. Скрипки разродились долгим, пышным и траурным аккордом, альты несколько раз огрызнулись хищными трелями, внеся в общий хаос свою унцию безумия.
Полпальца, сидящий рядом со мной, лихорадочно перелистывающий страницы и уже давно не громко матерящийся в слух, выдал вдруг особенно тревожную нецензурную тираду, указав на несколько стремительно приближающихся строчек нотного стана- впереди дожидалось своего часа виолончельное соло. Я тоже ругнулся, но не так изящно, как мой сосед по пульту, чем, наконец, привлек внимание дирижера. Мы посмотрели друг другу в глаза. В моих отчётливо читался крик сорвавшейся в бездну души: "Ради всего святого, покажи, где вступить!". В его читалось тихое, извиняющееся: "Ничего, ещё немножко – и домой. А там все хорошо. Там жена, макароны по-флотски и холодненькие сто грамм. А лучше двести, что б спалось крепче".
Соло неотвратимо приближалось, Полпальца матерился все громче – мне подумалось, что его брань уже слышна зрителям, сидящим в первых рядах. Каждая группа уже давно вела свой собственный подсчет тактов, каждая находилась в разных местах произведения, каждая свято верила, что именно их тактоисчесление является верным. Настал момент истины – я судорожно схватил ртом воздух, до скрежета вдавил смычек в струну, заиграл что-то, по ритму и звучанию лишь отдаленно напоминающее прописанное в нотах партию солирующей виолончели. Дирижер вновь оторвался от партитуры, скользнул взглядом по мне – сквозь его глаза сочилась вселенская скорбь. Правая рука слушалась меня плохо, пальцы левой неуклюже ползали по грифу, но я солировал, и от одного только этого осознания поочередно пробирали ужас, тоска и стыд.
Как и чем все закончилось, я помню плохо. Вроде бы зал аплодировал стоя. Вроде бы даже кричали «браво», и дирижер несколько раз уходил со сцены, а затем возвращался обратно на дрожащих ногах. Впрочем, какая разница?
Как я добрел до гримерки – тоже не помню. Наверное, пошатываясь, будто пьяный, балансируя на грани обморока. Кто-то хлопнул меня по плечу, принял из моих рук инструмент, подвел к неприметному шкафчику в углу, открыл дверцу – там, на верхней, словно специально сооруженной для этого маленькой полочке, стоял высокий граненый стакан, до краев наполненный водкой. Рядом, на мятой розовой салфетке лежала засохшая и местами позеленевшая хлебная горбушка.
– Пей, – приказали мне.
Я покорно поднес стакан к губам холодными и дрожащими руками, зажмурился, шумно выдохнул, и выпил, после чего с минуту старался побороть в себе рвотные позывы. Потянулся за горбушкой, но меня одернули:
– Ты чего? Жрать ее собрался? Думаешь, она тут столько лет лежала, чтобы именно ты пришел и ее заточил? Ей занюхивать надо, дурачок!
Я прижал горбушку к ноздрям, и как-то сразу все понял.
Прям все. И прям сразу.
– Ну что ты? Что ты? – ласково спрашивали со всех сторон, а меня продолжало трясти – мы ведь не хирурги, не пилоты, даже не пожарники. От нашей профессии не зависят ничьи жизни.
Боже, как это верно. И все же…
***
И вот я уже сижу за барной стойкой, передо мной стоит наполовину полная, запотевшая пивная кружка, мир вновь постепенно обретает свои естественные цвета, пережитое отваливается от меня жирными, грязными пластами-струпьями. Я курю, вяло рассматриваю выпивающий народ, расположившийся в зале – очень хочется отыскать какое-нибудь особенное, не лишенное приятности женское лицо, и чтобы это лицо, едва бы я его заприметил, тут же оказалось рядом, за стойкой. Завязалась бы беседа. Меня бы спросили что-то о роде моей деятельности, дабы как-то наладить диалог, а я бы ответил:
– Пожарник. А еще хирург. И пилот, но это так, самую малость. Да-да, все в одном.
Наверное, мне хочется любви. Или нет, любовь – это слишком возвышенно, сложно, да и дорого. Любовь в подобных декорациях подразумевает покупку дорогой выпивки, закуску, и после – вызов такси. И все это не для себя, конечно, а для объекта приложения своей любви. Мне же хочется простой и бесплатной женской ласки, звучания обращенного ко мне женского голоса, и еще чего-то теплого, святого, материнского что ли…
Задумчивый лысый бармен возится с пивными кранами, люди пьют и закусывают, тихо общаются, тоже курят. Кто-то смеётся, кто-то расплачивается и уходит, на секунду задержавшись в дверях, чтобы накинуть капюшон или заранее раскрыть зонт. Я, покорно бредя на поводу у своих мыслей, принимаюсь воображать некую особу, которая вот сейчас войдёт, повесит свое пальто на вешалку в углу, сядет за ближайший ко мне столик, смахнет несуществующую пылинку с подола вечернего платья, и…
Слева от меня на высокий барный стул грузно водружает себя толстый бородатый мужчина, пахнущий потом, луком и перегаром. Он заказывает пиво, шумно сопит и вертит косматой головой из стороны в сторону. Наши взгляды встречаются.
– Что смотришь?– вопрошает он недружелюбно, сипло.
– Так…– отвечаю, неопределенно пожав плечами.
– Ну ладно,– соглашается вдруг бородач,– смотри. Музыкант что ли?
Киваю- это он по моему футляру, стоящему рядом, сдедуктировал.
– На чем играешь?
– На виолончели.
– Типа как Ростропович?
– Иногда даже лучше.
– А что играешь?
– Разное.
– Ну типа?
Снова пожимаю плечами, сминаю в пепельнице сигарету, подношу к губам кружку.
– Я тоже играл когда-то. На пианине,– доверительно сообщает бородач, давая тем самым понять, что мы с ним, как минимум, одного поля ягоды.
Я киваю. В таких беседах лучше полагаться на мимику и жесты, чем на слова – уменьшается вероятность обидеть собеседника явной пропастью между социальными классами.
– А Чайковского знаешь?
– Не то, чтобы близко, но так, соприкасались,– отвечаю.
– Хороший мужик был,– проигнорировав мой ответ, глубокомысленно изрекает бородач,– я знаешь, один раз слышал. Баба притащила. Думал- херня, а как заиграло…
Бородач щёлкнул зажигалкой, закурил, вдохновенно закатил глаза.
– В натуре, сразу пришло, понимаешь? Как током. Вспомнил, как пацаном был, как в деревне зимой бабушка меня в платки заворачивала и на печку ложила… Как сказки рассказывала. А за окном метель, холод сучий… Дед под окном лопатой снег мнет, а мне тепло и я на печке… Короче, так распидорасило меня, что чуть не зарыдал там, как малолетка какая, отвечаю. Это, бля, сила. В натуре понимал мужик, что и как по жизни.
Я не выдерживаю, и долго смеюсь- искренне, пьяно, взахлёб.
Вот она, поистине безграничная сила искусства. Вот оно, самое неопровержимое доказательство гениальности композитора, творениям которого, даже спустя полтора столетия, удается вводить в трепет любые, даже такие вот огрубевшие, пропахшие луком, потом и перегаром души.
А мы? Кто мы? Санитары? Горстка нищих и убогих фанатиков, на чьих плечах лежит тяжёлый, занозистый крест- донести до каждого усталого, ущербного, измотанного жизнью обывателя что-то великое, прекрасное, вечное?.. И что может быть правильнее, благороднее и почетнее этого?..
– Я не хирург, не пожарный и не пилот,– с трудом выдавливаю я из себя слова сквозь смех.
– Не пилот,– охотно подтверждает бородач,– ебаны в рот!
И дальше смеемся мы уже вместе.
Глава 4. Рабочий момент
Утро втекало в комнату лениво и постепенно, просачиваясь сквозь не плотно закрытые шторы, заливая унылой осенней бледностью столешницу с переполненной пепельницей, стул с наваленным на него ворохом одежды, пол, со следами чего-то, разлитого накануне, липкого и остро пахнущего. Так бывает- ещё не успеваешь как следует проснуться, открыть глаза, покорно, хоть и нехотя, шагнуть в новый день, а на душе уже тоскливо, серо и глухо настолько, что бормочешь, не узнавая собственного голоса: " Господи, неужели опять?..". К тому же ещё где-то там, снаружи, барабанит по ржавой жести подоконника редкий дождь. И не важно, лежит ли рядом с тобой уютно сопящая в ушную раковину полуголая женщина, или нет никого у тебя вообще, как в комнате, так и во всей вселенной – все равно ощущаешь внутри пустое, гулкое одиночество на фоне абсолютной тщетности своего существования. А если еще принять во внимание факт вчерашнего пьяного шабаша, учиненного без явного повода по просьбе глупой мятежной души…
Я с трудом сел на кровати, свесив ноги и с отвращением коснувшись пятками холодного пола – голова кружилась, по костям гулял немилосердный похмельный сквозняк, весь мир, казалось, смотрел на меня сейчас с агрессивным неодобрением. Сразу вспомнился вчерашний привокзальный кабак с теплым пивом, отдающей ацетоном водкой и недружелюбной официанткой, сыплющей матерными проклятиями и обещаниями вызвать стражей порядка по наши души. Потом еще какой-то двор, перепуганные коты, попытки раскурить сигарету с противоположного конца, мечтательно вещающий о плюсах коммунизма Толик, крепнущее желание продолжить. И, наконец, пакет портвейна, купленный на последние в круглосуточном, детская площадка, заблеванная нами при загадочных обстоятельствах, долгие поиски ключей перед входной дверью собственного жилья, прихожая с перегоревшей лампочкой, кухня с горой грязной посуды в раковине, попытки Толика исполнить на скрипке что-то сверх меры виртуозное, подтверждающее его гениальность, мои протесты, подкрепленные применением физической силы, некое подобие пьяной потасовки, два разбитых стакана, одна сорванная штора…
"Ничего,– пообещал я себе, постаравшись наполнить эту мысль максимальным количеством бодрости и позитива,– сегодня все будет совсем по-другому!"
Встав с кровати, я, зябко ежась, прошлепал мимо окна, краем глаза успев ухватить ярко жёлтые мазки древесной листвы на фоне серых домов и неба, вышел в прихожую, порадовался, что хотя бы здесь нам вчера удалось не нагадить, направился в ванную. Интересно, слышали ли мои соседи по жилплощади наш вчерашний барагоз? Ну разумеется слышали, ни к чему плодить лишние надежды. Они ещё выскажут все то, что побоялись или постеснялись донести до меня вчера, предпочтя не покидать своих комнат. Что-нибудь про то, что я здесь живу не один, что если хочу продолжать и дальше свои пьяные оргии, то вынужден буду съехать в какую-нибудь другую квартиру, а ещё лучше приобрести собственную, и так далее. Ладно, доживем – увидим.
Войдя в ванную, я обнаружил Толика- странно, что вопрос о его местонахождении не возник у меня в голове с самого начала- Толик лежал в ванне, закинув ногу на ногу, сложив руки на груди. Здорово. Интересно, он так же лежал, когда, к примеру, сюда заходил дядя Володя, школьный учитель математики, один из моих сожителей, каждое утро встающий раньше всех? Представляю выражение его лица, когда, войдя в ванную, он обнаружил это уютно похрапывающее тело, от запаха которого начинают слезиться глаза и тут же возникает подсознательное желание закусить. Должно быть, дядя Володя был не в восторге.
– Вставай,– сказал я, открывая кран, и с каким-то садомазохистским наслаждением втирая ледяную воду себе в лицо,– поезд дальше не идёт. Просьба покинуть вагоны.
Толик открыл глаза, грустно и как-то даже по-детски похлопал ими, достал откуда-то сигарету, поместил ее в рот.
– Курить хочу,– глухо прокомментировал он.
– Я тебе покурю!– выхватив сигарету из его бледных губ, пригрозил я,– давай, быстро, кости свои бренные собирай, и в себя приходи. Ты хоть помнишь, что у нас сегодня днём?
– Помню,– мрачно подтвердил Толик,– халтура. Детский праздник. Только вот…
И далее последовала затейливая матерная тирада, воспроизводить которую нельзя хотя бы из уважения к детям, коим, собственно, она и адресовалась.
– Но-но!– с фальшивым негодованием прикрикнул я на него,– дети-то чем тебе не угодили? Думай о денежных знаках, которыми их родители проспонсируют наше дальнейшее существование.
– Как сложно ты изъясняешься, аж тошно.
К сожалению, я не сразу сообразил, что это – не образное выражение. А когда, все же, сообразил, то едва успел подсунуть ногой зелёный пластиковый тазик, пылящийся обычно без дела здесь же, под раковиной. Толик с утробным клокотанием перегнулся через край ванны, в таз хлынула вонючая и упругая струя. Теперь замутило уже меня.
– Дети, это хорошо,– освободив желудок от неусвоенного алкоголя и вытерев рот рукой, глубокомысленно изрек Толик,– дети- это наше все.
– Ещё вчера нашим всем были портвейн и лапша быстрого приготовления,– ехидно поправил его я,– не теряй стиля, товарищ, не теряй стиля.
Потом, уже сидя на кухне, обжигаясь горячим кофе, с интересом патологоанатомов изучая лица друг друга и тихонько посмеиваясь, разговорились о насущном.
– Жить нужно в достатке,– говорил Толик,– особенно нам, с нашей тягой ко всему прекрасному, роскошному и аристократичному.
– Верно,– подтвердил я с тоской,– разбогатеть бы…
– Ага, попробуй. Думаешь, так просто? Только соберёшься как следует разбогатеть- то трусы порвутся, то сахар кончится.
– Верно,– я кивнул,– это наш крест. Наше проклятие.
– Наше призвание!– поправил Толик, погрозив пальцем.
– Призвание. Но зато…
На этом "зато" моя мысль забуксовала. Снова вспомнились портвейн, детская площадка, низкое и серое осеннее небо, маленький городок униженных и оскорбленных, квартира, которую приходится делить с чужими, настороженными людьми, долгие вынужденные лишения ради одного-единственного широкого жеста, и этот самый широкий жест, сталкивающий в темную пропасть голодной, угрюмой нищеты…
– Зато,– с трудом продолжил я,– мы нищие, но счастливые.
– Правда иногда бываем нищими и несчастными,– дополнил Толик, видимо, уловив минорную тональность моих раздумий,– хотя это, конечно, случается редко.
– Но никогда,– во что бы то ни стало решив закончить на чем-то бодром и жизнеутверждающем, подытожил я,– никогда мы не бываем богатыми и несчастными!
– Как это верно, коллега, как это верно!
Мы пожали друг другу руки и отправились курить на лестничную клетку.
***
Улица навалилась на меня многотонным сырым грузом- одновременно возросла громкость тошнотворного гула в голове, скрутило живот, зазнобило. Толик, прочитавший все по моему лицу, покорно замер у ближайшей урны, в которую я без колебаний излил остатки вчерашнего праздника вперемешку с недавним завтраком. Закурили.
– Может, не поедем?– с плохо скрываемой надеждой предложил он.
Я только покачал головой.
– Это все от того, что мы вынуждены любыми способами добывать средства к существованию. Ну подумай сам- разве перлись бы мы на какую-то третьесортную халтуру, если бы не нуждались в деньгах? Хрен там. Лежали бы сейчас в теплых кроватях, потягивали бы… ну, скажем виски, и беседовали бы о вечном.
Вместо ответа я жестом предложил продолжить путь.
– Знаешь, в чем наша главная беда?– продолжал вдохновенно вещать Толик, уже спускаясь в метро,– мы чертовски невезучи в финансовых делах. В своей профессии, к примеру, мы-фирмачи, в любви- тем более. А вот что касается денег…
Женщина за толстым и пыльным стеклом смерила меня тяжёлым осуждающим взглядом из-под опухших полуопущенных век, и, будто бы в наказание за все мои прошлые и будущие грехи, несколько минут пересчитывала предложенную ей горсть монет, прежде чем выдать жетон. Какой-то мужчина в военной форме, проходя мимо, ощутимо двинул меня плечом, всем своим видом словно заявляя: " Да у меня такие, как ты, зубными щетками ржавчину с танков соскребают!". Зато в глазах мента, стоящего у турникетов и с отрешенным видом античного мыслителя провожающего взглядом пробегающих мимо людей, я успел заметить теплый, не яркий свет истинно библейского сочувствия к ближнему своему- кажется, исполинская тяжесть выдавшегося утра нас роднила.
– У нас есть талант, есть харизма, есть стиль, в конце концов,– все не унимался Толик,– жаль только, что с финансовой независимостью все обстоит печально.
– Да что ты разнылся,– все-таки не выдержал я, когда эскалатор потащил нас вниз,– мы с тобой талантливые, молодые, здоровые, красивые, но без денег. А где-то там, на другом конце земли, или даже в параллельной вселенной, живут два старых, больных, никчемных урода, у которых, тем не менее, есть куча бабла. И кому, скажи, повезло больше- нам, или им?
– А ты молодец!– Толик с уважением кивнул,– понимаешь, однако!
В вагоне он сразу уселся на удачно освободившееся место, и задремал, меня же плотно прижали к холодному и шершавому поручню, отчего вновь дали знать о себе рвотные позывы. Я представил, какая зона отчуждения образуется вокруг меня даже в этом вроде бы битком набитом вагоне, взбреди мне в голову опорожнить желудок прямо здесь и сейчас, и улыбнулся. За стеклами створчатых дверей проносилась мимо грохочущая темнота, и на ее фоне дрожало мое мутное, зыбкое отражение- долговязый субъект в распахнутом пальто и капюшоне, закрывающем пол лица, положивший подбородок на руки, а руки на верхушку ободранного черного футляра. Красавец, нечего сказать. Таким бы детей пугать…
На каждой ненужной станции меня плотной, многолицей людской струёй выбрасывало на перрон, после чего я с трудом протискивался обратно в вагон, и лишь на нужной станции поток хлынул не изнутри, а наоборот, внутрь, и я вынужден был прокладывать себе путь к свободе, неуклюже работая локтями, словно пловец, изо всех сил гребущий против течения. Толик же преспокойно двигался за мной по проторенной колее.
Оказавшись на улице, мы снова закурили.
Кругом- пяти и шестиэтажные панельные хрущебы, несколько ларьков, где на вертелах висят груды чего-то бурого, съестного, истекающего жиром, ещё какие-то неясного назначения деревянные будки… К одному из ларьков подкатил роскошный черный мерседес с тонированными стеклами, из его кожаного, пропахшего дорогим парфюмом нутра вылез некто в строгом костюме и при галстуке, тут же негромко, но властно потребовавший у смуглого и сонного продавца кебаб.
– Правильно говорят, что у богатых- свои причуды,– тут же в полголоса прокомментировал Толик.
– Обычно, "причудами" у них зовётся то, что такие как мы привыкли считать долбоебизмом,– попытался сыронизировать я в ответ, но получилось грязно, грузно и глупо.
Вообще, меня уже постепенно начинал раздражать этот извечный лейтмотив голодных и обиженных прокаженных, к тому же я медленно но верно приходил в себя- томная похмельная муть в голове рассеивалась.
Двинулись дальше, уже молча.
***
На проходной, где за стойкой скучал перед бубнящим телевизором добродушный седой охранник, нас встретила тучная, шумно сопящая женщина бальзаковского возраста, в длинной юбке и белоснежной блузке, кокетливо расстегнутой так, чтобы можно было скользнуть взглядом по запрятанной в кружевной бронежилет груди, и тут же брезгливо отвести глаза.
– Ну наконец-то,– едва завидев нас и картинно всплеснув руками, заквохтала она,– а то я думаю- куда подевались, где искать… Как добрались? Как настроение? Может быть чаю? Или кофе? Кстати, есть пряники. Пока ждала вас, не выдержала, в магазин сбегала, и, представляете, таких пряников купила- прям высший сорт!
– Погода- дрянь,– выдавил я из себя с какой-то потусторонней хрипотцой, рассчитывая если не напугать словоохотливую курицу, то, хотя бы, прервать поток бессмысленной информации.
– А как вы думали? Не лето на дворе. Хотя и лето, прямо скажем, выдалось…
И пытка продолжилась. За время, пока мы поднялись в лифте на нужный этаж, миновали несколько коридоров и оказались в просторной, лишённой всякой мебели комнате, нам посчастливилось выслушать увлекательный рассказ о лете, даче, грядках, ценах на крупу, бензин и маринованную редиску, а так же о беспределе, творящемся в правительстве, о тяжёлых трудовых буднях, и, разумеется, о горячо любимых внуках.
Почувствовав, что я вот-вот совершу нечто непоправимое и уголовно наказуемое, Толик взял все в свои руки.
– Простите,– кротко прервал он порцию словесных излияний,– а не могли бы вы… Кстати, совсем вылетело из головы, как вас зовут…
– Софья Тимофеевна,– ничуть не смутившись, тут же ответила женщина.
– Простите, Софья Тимофеевна, а не могли бы вы нам в общих чертах объяснить, в чем заключается наша… Хм… Миссия?
– Ах, ну конечно,– спохватилась Софья Тимофеевна,– все очень просто, мальчики. Через час придут дети, и мы станем знакомить их с волшебным миром искусства! Правда, здорово придумано?
– Правда,– Толик улыбнулся самым очаровательным образом,– а если чуточку подробнее?
– Вначале мы ведём детей в актовый зал, где приглашенные актеры разыгрывают перед ними небольшую сказочную сценку следующего содержания: злой волшебник похитил и запер в своей темнице трёх фей, то есть три искусства- живопись, резьбу по дереву, и, собственно, музыку.
– Резьбу по дереву?– вдруг насторожился Толик.
– Ну да. Хотели сначала со скульптором договориться, но бюджет не позволил. Пришлось попросить нашего местного умельца дядю Пашу, он здесь кружок детский как раз ведёт. Резьба по дереву, это ведь тоже искусство?
– Безусловно,– подтвердил Толик.
– Так вот, сначала дети идут спасать живопись. Посмотрите, ребята, говорю я им, это живопись! Приглашенный нами художник проведет с ними интерактив, научит рисовать зимнее поле. Затем мы идём к дяде Паше. Посмотрите, ребята, говорю я им, это резьба по дереву! И дядя Паша выдает каждому ребенку по дощечке, на которых они, под чутким руководством мастера, вырезают свои имена. Ну и, наконец, мы приходим к вам. Я говорю…
– Посмотрите, ребята, это- музыка!– с выражением провозгласил Толик.
– Именно!– Софья Тимофеевна одарила моего коллегу взглядом, трещащим по швам от густого, медового обожания,– вы играете что-нибудь светлое и жизнеутверждающее, вас, вернее, фею музыки, освобождают из темницы волшебника, и после мы все вместе идём пить чай. Ну, как вам?
– Потрясающе!– не стал скрывать Толик,– я бы даже сказал грандиозно! Неужели вы все это сами придумали?
– Сама!– преисполненная гордости Софья Тимофеевна кивнула.
– Нет слов!
– Я считаю, что современным детям так не хватает духовного развития…
– Как это верно!
– Нам понадобятся два стула,– попытался вклиниться в диалог я,– и вы ведь, кажется, говорили что-то о костюмах?
– Да-да, конечно,– Софья Тимофеевна засуетилась,– Стульями и одеждой я займусь лично!
– И еще такой вопрос,– Толик понизил голос и позволил себе взять Софью Тимофеевну за локоть, от чего та вмиг покраснела и захлопала накладными ресницами, тем самым давая понять, что в душе ей до сих пор семнадцать,– не могли бы мы… Не знаю, как лучше выразиться… В общем, получить часть денег вперёд? Крохотную такую часть… Понимаете, у моего коллеги сегодня случилось обострение давней болезни, а лекарств купить не на что. Так я бы сбегал, пока стулья и костюмы несут…
– Что же вы молчали?– Софья Тимофеевна железной хваткой вцепилась в мое плечо.
– Не хотел ставить вас и себя в неловкое положение,– тоном оправдывающегося нашкодившего мальчишки объяснил я, глядя в пол.
– Сейчас сбегаю за стульями и заодно принесу денежку. Так сказать, аванс,– пообещала Софья Тимофеевна, и, бросив на Толика ещё один, полный страстной надежды взгляд, вышла из комнаты.
– Ты что, совсем охренел?– осведомился я, едва дверь закрылась и мы остались одни.
– а что такого?– Толик пожал плечами,– Алягер ком алягер, старик. К тому же, тебе просто необходимо лекарство, я ведь вижу!
Спорить было бесполезно, и, к тому же, не особо хотелось. Спустя пятнадцать минут томительного молчаливого ожидания, Софья Тимофеевна вернулась, притащив в каждой руке по стулу, и пестрый ком одежды подмышкой. Лучезарно улыбаясь и не переставая хлопать ресницами, она вложила в руку Толика несколько смятых купюр, произнеся заговорщицким шепотом:"на лекарства", после чего, задорно виляя задом, удалилась вновь.
– Одна нога здесь, другая- там!– по-военному отрапортовал Толик, козырнул, и вылетел вслед за Софьей Тимофеевной, напевая что-то о смертельных любовных ранах.
Я остался один. Некоторое время просто сидел на подоконнике, разглядывая сырую заоконную серость и по-мальчишески болтая ногами, потом спрыгнул, неторопливо разложил инструмент, расставил по пультам ноты, разобрал клубок принесённой Софьей Тимофеевной одежды, принялся переодеваться. С размерами дело обстояло так себе – блестящие панталоны жали, сорочка с кружевным жабо наоборот, больше походила на смирительную рубашку для великана, бархатный камзол жал в плечах и сильно пах нафталином. Водрузив на голову роскошный белый парик, я какое-то время повертелся перед зеркалом, привыкая к новому амплуа пропойцы-доходяги, черт знает как попавшего в эту пустую комнату прямиком из эпохи великих географических открытий. Костюм придал моему бледному и изрядно помятому лицу черты некой романтической таинственности.
– Выше нос, граф,– посоветовал я своему отражению,– замок Иф позади, держим курс на остров Монте-Кристо!
Повесив предназначенную для Толика одежду на спинку его стула, я вышел из комнаты, прошёлся по коридору взад-вперед, зачем-то завернул на лестничную клетку, где обнаружил сидящего на ступеньках и меланхолично покуривающего прямо под наклеенным на стене кружком с перечеркнутой сигаретой взлохмаченного мужичка в синем казённом халате. При виде меня он заметно приободрился.
– Слышь, князь,– без лишних прелюдий обратился он,– будь другом, помоги бревно вниз снести.
Я собрался было отказать, но просьба показалась мне интригующей.В общем, я согласился. Мы молча прошагали по коридору, мужичок толкнул какую-то дверь, и я с удивлением обнаружил самое обыкновенное бревно, лежащее посреди заваленной разным хламом подсобки.
– Имей ввиду, оно тяжёлое, блин,– словно бы заранее извиняясь, сообщил мужичок.
– Ничего, вдвоем осилим,– не слишком уверенно предположил я.
Взялись с двух концов, понесли- я спереди, он сзади. Коридор миновали пыхтя и покрякивая, вышли на лестницу, на несколько секунд задержались, собираясь с силами.
– Давай, не спеши, князь, помаленьку.
Помаленьку так помаленьку. Ступенька. Ещё одна. И ещё. Руки затекли, плечи налились свинцом. Кое-как преодолев один лестничный пролет, бревно, не сговариваясь, опустили, утерли со лбов пот, закурили.
– Внутри все, понимаешь,горит,– пожаловался мужичок,– всю ночь квасил, теперь, блин, хоть помирай.
– Знакомая песня,– подтвердил я.
Докурили, подняли бревно, понесли дальше.
На очередной ступеньке я вдруг оступился, нога поехала вперёд, ноша потянула вниз, мужичок коротко ругнулся, после чего у меня за спиной раздался глухой удар.
– Берегись, князь!
Я едва успел отскочить в сторону и вжаться в стену- бревно послушно и неторопливо покатилось вниз по лестнице. А в следующую секунду меня оглушил многоголосый детский визг- коротко переглянувшись, мы с моим товарищем по несчастью ринулись следом за упущенной ношей.
– Все живы? Никого не задавило?– выкрикивал находу мужичок, резво перепрыгивая сразу через несколько ступенек.
На лестничной площадке, расположенной этажом ниже, нас ожидала вполне предсказуемая картина- стайка перепуганных детей жалась к не менее перепуганной Софье Тимофеевне, а бревно преспокойно лежало здесь же, чуть поодаль. Какая-то девочка лет десяти тихонько плакала.
– Не бойтесь, дети,– севшим голосом произнесла Софья Тимофеевна, делая значительные паузы перед каждым словом,– это всего лишь наши феи. Фея музыки и фея… Фея…
– Фея резьбы по дереву,– подсказал мужичок, указав взглядом на бревно, и добавил, но уже чуть тише, будто бы самому себе- сами понимаете, рабочий, мать его, момент.
***
Вернувшись в отведённую для фей музыки комнату, я обнаружил стоявшего у окна Толика с полупустой пивной бутылкой в одной руке, и куском батона в другой.
– Хватит жрать, давай работать,– буркнул я с порога.
– А чего это мы такие мрачные?– поинтересовался Толик,– прими лекарство, старик- полегчает.
Он явно блаженствовал, и ничто не могло омрачить сейчас ему радость бытия.
– Мы мрачные, потому что бревна по лестнице таскали, пока вы, сударь, свой внутренний пожар за счёт общего аванса тушили.
– Какие ещё бревна?
– Тяжёлые.
– Ну что ж,– Толик с достоинством поправил кружевной манжет и смахнул крошки с рукава камзола,– это похвально. Физический труд облагораживает. Хотя, как видно, не всех…
Я принял протянутую бутылку, и на несколько восхитительно долгих секунд припал к пластиковому горлышку- с каждым глотком мир вокруг наполнялся добром, справедливостью и тихим, спокойным счастьем.
В коридоре зазвучали приближающиеся голоса детей.
– Пора, коллега,– Толик вздохнул,– как говорится, любишь кататься…
– Люби и катайся,– закончил за него я, закрыл бутылку и сунул ее в пустой футляр.
Уселись, взяли в руки инструменты, приготовились.
Скрипнула дверь, голос Софьи Тимофеевны, вернувший себе былую силу, произнес:
– Посмотрите, ребята, это- музыка!
Дети, не переставая лопотать звонким полушепотом, втекли в комнату и замерли в ожидании.
Мы заиграли- что-то светлое и жизнеутверждающее, как и было заказано. Лишь один раз я оторвал глаза от нот и, пробежавшись взглядом по трогательно напряжённым лицам, остановился на щуплом светловолосом мальчугане- тот рассматривал фей музыки с особенным любопытством. Ну, как тебе, дружище? Нравится? Вот она какая, музыка – бледнолицая, с мешками под глазами, голодная, нищая, подвыпившая… И где тот злой волшебник, который во всем виноват?
Но ты, главное, не бойся, старина. Это ведь всего лишь рабочий момент. Рабочий момент…
Гл. 5. Не о любви
– Хорошо бегут!
Окна главного зала дворца бракосочетаний выходили на школьный стадион, по которому наматывали круги смазливые школьницы в обтягивающих спортивных костюмах. День выдался на редкость светлый и теплый, над городом празднично голубело небо, лёгкий ветерок шуршал в жёлтых опавших листьях, собранных в аккуратные кучки прилежными дворниками. И было что-то невыразимо трогательное в этих бегущих девочках, в этой голубизне неба и в желтизне листвы, в этом дне, так похожем на прощальный поцелуй молодого робкого юноши, уходящего на войну, и знающего, что едва ли удастся вернуться назад.
– Что?– переспросил я, отвлекшись от приятного и бездумного созерцания.
– Хорошо бегут, говорю,– повторил Толик, не отрывая мечтательного взгляда от школьниц.
– Хорошо,– подтвердил я,– жаль только мимо.
– А мальчишки, наверное, где-то в другом месте в футбол играют. Или мячики кидают, знаешь, маленькие такие- кто дальше бросит.
– Ты, наверное, дальше всех бросал?
– Нет,– Толик покачал головой,– я вообще бросать ленился. Обычно врал физруку, что форму забыл, а потом сидел около стадиона, и смотрел, как девчонки бегают, прыгают, приседают… Как мало, в общем-то, изменилось…
Сзади подошел Февраль.
– Ну что, мальчиши-кибальчиши, вперёд? У нас ещё одна пара осталась, и все, можно отчаливать и начинать тратить награбленное у богатых буржуинов!
– Одна?– обрадовался Толик,– так значит, ещё до обеда управимся?
С самого утра мы женили людей. Вернее, принимали участие в образовании новых ячеек общества, за умеренное вознаграждение. Для тех, кто не в курсе, поясню: струнный квартет сидит в углу зала, и едва двери парадного входа открываются перед празднично одетой толпой родственников и друзей брачующихся, музыканты начинают играть что-то торжественное и жизнеутверждающее. Играют не долго- пока все не усядутся. Затем в центр зала выходят супруги- и музыканты снова играют, но уже что-то другое, выбранное заказчиками заранее. После этого выходит некое ответственное лицо- опять-таки музыканты играют. Звучат традиционные вопросы, мол, согласны ли вы на горе, радость и все такое прочее, а после не менее традиционных ответов, как вы уже, наверное, догадались, звучит музыка. Далее- обмен кольцами, короткий танец молодоженов, аплодисменты, и,наконец, толпа, вслед за супругами, покидает зал. Все это, разумеется, под музыку. После чего перерыв минут десять-пятнадцать, и все заново. После пятой или шестой пары голова наполнена уже совершенно посторонними мыслями, вроде преимущества вчерашнего обеда над сегодняшним завтраком, а после и вообще непроизвольно начинаешь пророчить самое мрачное будущее для тех или иных супругов, прикидывая, сколько пройдет времени с момента первой брачной ночи до начала бракоразводного процесса.
– Бодрее, парни, бодрее,– воодушевлял тем временем нас альтист Петька Солнцев, самый молодой из квартета, еще не распрощавшийся со счастливой порой студенчества,– подарим очередным молодожёнам ещё немножко счастья, и адьёс!
Мы вернулись на свои рабочие места, расставили в нужном порядке ноты, приготовились. Когда в зал повалил шумный народ- заиграли. В перерыве между клятвами в верности и обменом кольцами, я успел заметить, что невеста беременна, а жених вроде как едва сдерживается, чтобы не заплакать, и тут же машинально отметил про себя: "Брак по залету. Эх, бедняги…"
Спустя двадцать минут с последней церемонией было покончено, зал снова опустел, пожилая и удивительно некрасивая женщина-администратор расплатилась с нами, буднично поблагодарив и намекнув на сотрудничество в будущем. Короче, из ЗАГСа мы вышли счастливыми и в меру богатыми, с наслаждением вдохнули сладковатый осенний воздух, покурили у автомобиля Февраля, обсуждая всякие забавные глупости, и уже собрались было ехать…
– Парни, пассажира возьмём?– с усмешкой осведомился вдруг Толик, указывая куда-то за наши спины. Все тут же обернулись, и Февраль присвистнул, Петька хохотнул, а я заколебался в выборе реакции на увиденное, и, в итоге, ограничился тяжёлым вздохом- из окна первого этажа ЗАГСа неуклюже вылазил средних лет мужик в дорогом черном костюме. Вот, наконец, он спрыгнул на землю, оглянулся на окно, из которого только что выбрался, сплюнул себе под ноги, и довольно нелепой спортивной трусцой направился к нам.
– Им бы решетки на окна,– пробормотал Февраль,– чтоб женихи не бегали…
– Гуманнее нужно быть,– возразил Толик,– со второго этажа тогда ведь прыгать станут, а это переломы, в лучшем случае ушибы.
– Путь к свободе должен быть тернист,– глубокомысленно изрек Петька.
Тем временем беглец уже поравнялся с нами.
– Здорово, ребята!– с какой-то глупой, совершенно не сочетающейся с обстоятельствами его появления жизнерадостностью, поприветствовал он нас,– на хвост к себе возьмёте?
Мы, не сговариваясь, посмотрели на Февраля, тем самым давая понять, что решать будет хозяин автомобиля.
Февраль пожал плечами, вкрадчиво осведомился:
– Со свадьбы бежите?
Мужик улыбнулся, кивнул.
– Со своей собственной?
Ещё один кивок.
– А кто, позвольте узнать, у вас жена?– вдруг спросил Толик,– не думайте, я не из любопытства, а, так сказать, ради общей безопасности… Просто если она у вас, например, дочка генерала МВД, или, скажем, какого-нибудь крупного предпринимателя с темным разбойным прошлым…
– Вроде нет,– кажется, беглый жених немного растерялся,– баба как баба. Обыкновенная, без сюрпризов.
– Вроде?– с подозрением переспросил Толик, но Февраль уже жестом пригласил занять места в салоне.
Расселись. Поехали. Первое время молчали, а "украденный" нами жених ещё и ежеминутно оглядывался назад, словно ждал погони. Потом же как-то сама собой наладилась беседа. Выяснилось, что зовут его Семёном, что со свадьбы он бежит по малодушию, с которым, увы, ничего не может поделать, и что нас ему, несомненно, послало проведение.
– Не поверите, мужики, с утра проснулся, и все, вроде бы, хорошо, то есть знаю, что сегодня свадьба и все такое, но никакого страха, даже волнения нет. В ЗАГС приехали, а там родственники с цветами и подарками, жена красавица, аж пухнет от счастья, друзья с поздравлениями… И никаких нервов- подумаешь, ну штамп в паспорте, ну жить будем вместе… Чего в этом такого-то? Развели нас по разным комнатам, чтобы переоделись- жену в одну, меня в другую. Друзья вокруг суетятся, вроде бы даже нервничают немного, а мне- хоть бы что. Попону эту парадную напялил, перед зеркалом покрутился, и вдруг приспичило мне отлить. Зашёл, понимаете, в туалет, дела свои сделал, и тут дёрнул же меня черт в окно посмотреть. А как посмотрел, так прямо защемило что-то- там, понимаете, школу какую-то видно, стадион, девочки бегут, физрук на них покрикивает… И солнце такое, знаете… И небо. А я в туалете стою, без пяти минут женатый человек, и жизнь впереди такая серьезная, взрослая…
– Да вы поэт, батенька,– уважительно заметил Толик.
– Лет-то тебе сколько, поэт?– не отрывая глаз от дороги,поинтересовался Февраль.
– Двадцать девять,– с плохо скрываемой тоской в голосе признался наш новый знакомый,– полжизни уже как небывало.
Я повернул голову и посмотрел в окно- там стремительно проносились мимо какие-то люди, дома, вызолоченные осенью деревья… И отчего-то все никак не желали испаряться из головы простые, отливающие небесной голубизной мысли о пятнадцатилетнем мальчишке с огромным футляром за спиной, лёгким, пружинным шагом мечтателя прокладывающим путь сквозь весь этот печальный, но добрый город. Кажущаяся прозрачность жизни, будущее, наполненное великими свершениями, славой и успехом, томительно сладкие муки первой, и будто бы единственной любви, шоколадное мороженое в вафельном стаканчике…
– Куда едем-то?– деловито осведомился Февраль.
– В кабак?– предложил Толик,– обмыть внезапную свободу сбежавшего из-под венца товарища?
– Мужики, я ставлю!– провозгласил Семён, и все как-то сразу повеселели.
Спустя полчаса мы уже сидели в пустом, уютном и прокуренном баре, пили пиво, громко хохотали. Всем было легко и радостно- каждому мнилось, что именно он сегодня сбежал со свадьбы, и дух лихого, мятежного свободолюбия витал над нашим столом.
– А я, дурак, ещё год горбатился, с двух работ не вылезал, чтобы ее на курорт свозить,– жаловался Семён,– эх, если бы знал…
– И как там, на курорте?
– Хорошо! Горы- вот такие! Пляж- загляденье! Море- парное молоко! А у тебя, я смотрю, тоже загар что надо. Где пекся, признавайся!
– Это не загар,– отмахнулся Февраль,– это у меня воду горячую отключили…
И снова смех, снова звон пивных запотевших кружек. Как это обычно всегда бывает, в какой-то момент на столе самым мистическим образом материализовалась водка, однако никто словно бы и не придал этому особого значения- выпили, закусили, блаженно закурили.
– Прежде, чем в ЗАГС бежать,– с важностью заявил Февраль, задумчиво теребя тонкий золотой ободок кольца на своем безымянном пальце,– вы бы хоть обои вместе разок поклеили. Вот что действительно отношения на прочность проверяет…
– Нет, баба она, в общем-то, не плохая,– Семён вздохнул,– но лучше ведь, как заповедовал вождь, умереть стоя, чем жить на коленях, правильно?
– Правильно,– я кивнул,– только это Че Гевара заповедовал.
– А он что, не вождь?
– Ну, в каком-то смысле…
– Да если хотите знать мое мнение,– Толик даже привстал, дабы подчеркнуть значимость своего мнения,– мы живём в эпоху порнократии!
Скучающий за стойкой бармен дёрнулся, и с некоторой опаской посмотрел в сторону нашего столика.
– Сударь,– обратился я к Толику, и попытался усадить его, но тщетно,– чего это вы ругаться вздумали?
– Все верно!– неожиданно поддержал его Петька, и тоже вскочил, зачем-то подняв над головой полную рюмку,– а порнократия, это не ругательство, а термин такой научный. Эпоха правления блудниц в переводе с греческого. Первая половина десятого века.
– Ну сам посуди,– Толик предпринял вторую попытку донести до меня свою мысль,– вот, скажем, идёшь ты на свидание. Причёсочку там сделал, одежонку чистую погладил, букетик прикупил… А скажи, зачем ты туда идёшь?
Я пожал плечами, несмело предположил:
– Любовь?
– Или секс,– добавил Семён.
Толик кивнул, мол, таких ответов и ждал, и с серьезным видом ткнул указательным пальцем в потолок.
– А они? Они, ты думаешь, зачем? А я тебе отвечу- либо чтобы пожрать нахаляву, либо чтобы нужной себя почувствовать, эго свое, так сказать, потеребонькать. А некоторым тупо нарколог пить в одиночку не рекомендует. Вот, собственно, и все.
– Слушай,– не выдержал я,– ты что-то конкретное против всего бабского рода имеешь что ли?
– Ничего он не имеет,– Февраль хмыкнул,– и никого. К тому же, уже давно. А все туда же- я, мол, утонченная натура, я, мол, художник редкой душевной организации, я, мол, даже когда порно смотрю, о судьбе героинь задумываюсь…
– Ещё немного, и потребую сатисфакции!– запальчиво крикнул Толик.
– Молчу-молчу,– Февраль примирительно поднял руки,– только ты, дружище, не унывай. И на твоей улице праздник будет. Знаешь, как у них с годами требования к мужикам меняются? В десять лет им необходим принц со сказочным дворцом, в пятнадцать- рок-звезда, в двадцать- красивый, умный, богатый парень, в двадцать пять- просто умный и богатый, в тридцать- обыкновенный хозяйственный мужик, в тридцать пять- просто мужик, уже хоть бы какой. Ну а в сорок вместо мужика уже вполне сойдёт и кот.
– Или пылесос!– подтвердил Семён.
– Так что вам, сударь, нужно выбирать тех, что за пятьдесят,– подытожил я,– чтобы не так тяжело было с пылесосом конкурировать.
Толик ещё пытался что-то доказывать, размахивал руками, тряс головой, вещал звенящим от драматизма голосом, не забывая, при этом, время от времени опрокидывать в себя рюмки водки, но его уже никто не слушал. Февраль с Семёном вполголоса обсуждали какие-то тонкие, интимные моменты супружеской жизни, Петька, разомлев, клевал носом, изредка вяло кивая своим мыслям, я же с удивлением обнаружил на столе полную бутылку коньяка, и с азартом взялся за ее изучение.
"Мужики, бегущие со свадеб, детские праздники с брёвнами, ещё какая-то ерунда…– думал я,– так ли я представлял себе жизнь, когда сидел там, на краю школьного стадиона, и смотрел, как здорово бегут мои одноклассницы? Или это Толик сидел? Да какая разница… Алкоголизм и цинизм, прикрывающие вонючую мусорную кучу комплексов, как фиговый листок прикрывает срамное место, и ещё какие-то совсем уж безумные стремления, принципы… Раньше было любопытно сесть в первый-попавшийся трамвай, и ехать на нем, получая удовольствие от самого процесса, от неизвестности, от ощущения необыкновенного приключения, организованного самим для себя из ничего. А теперь, предположим, выйду я, пошатываясь, из этого кабака, сяду в незнакомый трамвай, и что? Буду ехать, прижавшись лбом к стеклу, и все повторять: "Куда же ты? Ну куда же?". А предположим даже, что конечная у этого трамвая- край света. Самый настоящий, с которого слонов, стоящих на черепахе видно… Ну здорово же! Только ехать мне туда уже нельзя. Ещё вчера, кажется, было можно, а сегодня все, уж извините, поезд ушел. Почему? Да потому что завтра с утра на работу, а рейса "край света-работа" небесными логистами не предусмотрено".
В одиночку изучив бутылку коньяка до половины, я тронул Толика за плечо, прервав, тем самым, какой-то очередной патетический монолог.
– Слушай,– говорю,– а тут где-нибудь поблизости трамваи ходят?
– Про трамваи не знаю,– Толик пожал плечами,– зато знаю один восхитительный магазин.
– А зачем нам магазин?– не понял я,– разве отсюда нас уже гонят?
– Просто мне кажется,что это место себя уже исчерпало. К тому же, у нашего сбежавшего из-под венца спонсора явно подошли к концу финансы. А радоваться жизни за свой счёт лучше и правильнее в магазине, а не в кабаке.
***
Весь остаток дня мы провели праздно, то есть пьянствуя безо всякой меры, и уж тем более без оглядки на завтрашний день. Петька очень быстро устал, сослался на неотложные дела и ушел- отряд не заметил потери бойца, лишь Февраль туманно высказался о тепличном подрастающем поколении, не нюхавшем жизни. Машина с инструментами была брошена у самого первого чекпоинта, и далее наш отряд перемещался исключительно пешком. Вкакой-то момент, уже под вечер, мы оказались у места нашей работы, ибо, как рассудил Толик, грешно будет не поглумиться над коллегами, которым ещё работать вечерний концерт. Сказано- сделано. Больше всех глумиться понравилось Семену- беглый жених вошёл в такой раш, что не стоило большого труда надоумить его обложить трехэтажным матом инспектора оркестра, курящего у входа. Инспектор, разумеется, удивился, но, как нам показалось, не сопоставил незнакомого пьяного хулителя с нашим дружным молодецким гоготом, доносящимся из-за угла.
– Молодец!– похвалил Семена Февраль,– наш человек! А у нас ведь как? Один за всех, и все…
– И все идут за коньяком,– закончил Толик.
Неожиданно стемнело. Обойдя ещё несколько магазинов и употребив колоссальное количество огненной воды, перед нами встал серьезный вопрос, требующий осмысления- в чьем жилище довести праздник свободы до логического завершения?
– У меня жена дома,– сказал Февраль.
– У меня тоже, к тому же, несостоявшаяся,– кивнул Семён.
– У меня бабушка после операции,– икнув, сообщил Толик.
– Что ты несёшь?– попробовал протестовать я,– какая, к хренам, бабушка?!
– Не веришь?– сразу оживился Толик,– а поехали- посмотришь? Знакомься, бабуля, скажу я, это мои коллеги, так?
– А что такого?
– Да ты свою рожу видел? Бабушка-то, святая душа, думает, что я в оркестре работаю, а на тебя посмотрит, и сразу догадается.
– О чем?
– Что я на ликероводочном заводе стеклотару фасую, вот о чем! Или что граблю круглосуточные магазины! Вот тогда пульс скокнет, старое тельце не выдержит, и бабке кирдык! А за похороны ты, что ли, платить будешь?
В общем, поехали ко мне. Во дворе на лавке сделали привал, отправив Толика в магазин, закурили.
– Слушай, а чего тебе жена не звонит?– поинтересовался Февраль.
– Звонит, наверное, но я телефон выключил,– ответил Семён.
– Мудро.
Ещё до того, как из темноты выплыла фигура Толика с распухшим пакетом в руках, до наших чутких музыкальных ушей донеслось знакомое бутылочное позвякивание.
– Одна не звенит, а две звенят не так,– глубокомысленно изрек Февраль,– молодец, Толян, понимает в жизни.
– Представляете мужики,– с грустью сообщил Толик, едва поравнялся с нами,– я все купил, расплатился, а продавщица, зараза, даже не поблагодарила за покупку! О времена, о нравы!
– Конечно,– Февраль улыбнулся,– за что же ей тебя благодарить-то? Ты в ее глазах алкаш, без роду, без племени, и может даже наркоман. За что ж алкашей и наркоманов благодарить?
– В принципе?– спросил я.
– В принципе,– подтвердил Февраль.
– В принципе, хотя бы за красивую музыку и хорошую литературу.
– Глубоко копаешь!– искренне восхитился Семён.
Вошли в подъезд, молча дождались лифта, втиснулись в крохотную кабинку, и пока она, поскрипывая, ползла вверх, я предупредил, что чаша терпения моих соседей уже давно переполнилась, и если никто из присутствующих не готов поделить со мной свою жилплощадь, шуметь не стоит. Разумеется, все отнеслись к моей просьбе с пониманием, что не помешало Февралю споткнуться в темной прихожей о брошенную кем-то обувь, и шумно рухнуть, опрокинув в падении ящичек с принадлежностями для чистки обуви, а Толику при входе в мою комнату грохнуть пакетом с бутылками о косяк так, что эхо жалобного звона, как мне показалось, долетело до соседнего района.
– За что пьем?– спустя несколько минут осведомился Семён, уже разливая по стаканам коньяк.
– За искусство ещё не пили.
– Значит за искусство!
– А за любовь? За любовь тоже ещё не пили.
– Тогда за любовь к искусству!
– И за искусство любви!
За окном игриво подмигивала фонарями ночь.
– Хотя о каком, к черту, искусстве может идти речь,– Толик пригорюнился, прижал стакан к щеке,– искусство уже давным-давно мертво, и мы же сами его похоронили.
– Да ты кто такой?– растягивая гласные, заплетающимся языком пробормотал Февраль,– ты щенок, птенец желторотый, а туда же. Искусство он похоронил, видите ли… Да когда ж ты успел его похоронить, если от сиськи мамкиной только вчера оторвался?
Я, заблудившийся где-то в своих мыслях, не сразу распознал назревающий конфликт, а когда всё-таки сообразил, к чему все идет- было уже слишком поздно.
– Ты сам-то кто такой, чтобы со мной так разговаривать?!– подстреленным мамонтом ревел Толик.
– Я?! Да я тебя, сосунка неблагодарного, в коллектив привел, опекал тебя, жизни учил! Без меня бы ты об искусстве с бомжами вокзальными философствовал!– хрипло вопил Февраль в ответ.
Я поежился, буквально физически ощущая проклятия, которыми щедро снабжают меня сейчас проснувшиеся посреди ночи соседи по квартире.
– Подставляй харю, сейчас я ее тебе ваксить буду!– Толик вскочил, отставил пустой стакан, и принял боксёрскую стойку.
– На!
Февраль тоже встал, широко развел руки в стороны, словно хотел обнять взбунтовавшегося коллегу, и действительно вытянул голову вперёд, подставляя лицо под удар.
– Отставить мужики!– рявкнул я, с размаху врезав кулаком по тумбочке.
Кулак пронзила острая боль, зато ребята одновременно повернули головы в мою сторону, забыв о рукоприкладстве.
– У кого пиписька больше выясним, когда на следующей неделе в баню пойдем,– уже не так громко добавил я, массируя ушибленный кулак,– а сейчас успокоимся и выпьем.
– Мужики, я домой поеду.
Теперь уже все повернули головы в сторону Семена.
– Мужики, вы очень классные. Вы настоящие! Но я люблю ее, понимаете? Мне к ней надо…
В повисшей тишине мне показалось, что я различил тихий, полный страдания стон математика дяди Володи из соседней комнаты.
– Хорошо подумал?– первым прервал паузу Февраль.
Семён кивнул.
– А как же умереть стоя, и не жить на коленях? Ленин, он ведь плохого не посоветует!– подал голос Толик.
– Это не Ленин, это Че Гевара,– тихо поправил я.
– Не знаю, мужики. Лучше на коленях- но с ней. Она ведь, наверное, сейчас волнуется, морги обзванивает… Вообще, она у меня такая замечательная…
– Да,– Февраль вздохнул,– и моя, наверное, волнуется. Слушай, Сема, давай-ка такси вызывать.
Я сидел на кровати, массировал кулак, и все никак не мог понять, что происходит, а на душе внезапно сделалось тоскливо и одиноко. И ещё нестерпимо захотелось вызвать такси и тоже поехать к кому-нибудь, кто волнуется и обзванивает морги.
Спустя пять минут мы душевно попрощались, и я запер за внезапно прозревшими мужьями входную дверь, после чего вернулся в комнату. Толик сидел на подоконнике, обхватив руками туловище, и по лицу его бродило выражение какой-то детской обиды.
– Слушай,– тихо и не слишком разборчиво обратился он ко мне,– давай ещё о чем-нибудь выпьем, ладно?
– Ладно.
– Только не о любви, хорошо?
– Хорошо.
И мы выпили не о любви. Молча и не чокаясь.
– Они вот к своим титькам уехали,– пожаловался Толик,– и сразу чего-то такого захотелось… Тепла какого-то что ли?
– Может, позвоним кому-нибудь?– предложил я.
– Кому? Три часа ночи. Знаешь, если есть, кому позвонить в три часа ночи, значит и жизнь не зря прожита. Только вот нам некому…
– Ну, я, например, тебе позвонить могу. А ты- мне,– я улыбнулся.
– Да, конечно,– Толик тоже улыбнулся, но как-то не весело,– а знаешь что? Давай падших женщин вызовем, а?
– Шлюх что ли?– я пожал плечами,– вызывай, если хочешь. Только я не буду. Понимаешь, не этого хочется, а другого…
– Ну, это будет как заменитель другого! Как более бюджетный аналог!
– Нет, Анатолий,– я зачем-то заглянул в пустой стакан,– не будет.
– Надо же, какие мы нежные и разборчивые,– Толик скривился,– нас, видите ли, метафизика интересует… А с физикой как быть?!
– Дурак вы, сударь.
Я развернулся,и, дав понять, что разговор окончен, вышел из комнаты, а когда уже закрывал дверь, до меня долетело:
– Так себе-то вызвать можно?
– Вызывай. А я на кухне посплю.
Пошатываясь доковыляв до кухни, я сел за стол, с минуту вертел в руках телефон, перебирая в уме номера друзей, подруг, и просто случайных знакомых.
Решился. Набрал. Приложил холодную трубку к уху.
Гудки- невыносимо долгие, однообразные, безразличные… И, наконец, тихое, сонное, но такое теплое, родное "алло"…
Я вдохнул поглубже, собрал остатки мыслей и чувств воедино, зачем-то закрыл глаза, и старательно выговаривая каждое слово, каждую букву, прошептал:
– Привет, мама. Это я…
Гл. 6. Первый снег.
Сижу, смотрю поверх пульта на дирижера. Приезжая знаменитость, прямиком из солнечной, винной Италии. Как звать-то его? Хоть убей, не помню. Какой-нибудь Джованни, или, например, Лоренцо – не все ли равно? Чуть ли не приплясывает на своей подставке, энергия плещет через край – то хохочет заливисто, то ругается, мол, о, мама Миа! Больше всего он напоминает мне Горьковского Данко – кажется, что вот-вот вынет из груди ослепительно пылающий комок своего сердца, и поведет вперёд, освещая дорогу вопреки всему. Однако, вести нас за собой, даже с пылающим сердцем в руках, ох как не просто, ибо на лицах моих коллег явственно проступает след сурового, нордического характера. "Италия, вино, круглогодичное солнце, загорелые, ослепительно улыбающиеся мужчины за столиками кафе, и женщины в коротких платьях, выгуливающие своих маленьких собачек, это, безусловно, хорошо,– словно говорят их взгляды исподлобья, торчащие, как дуло пулемета из амбразуры дзота,– а ты попробуй, поживи у нас, где холод собачий шесть месяцев в году, где от зарплаты до зарплаты дотягивает сильнейший, где, чтобы снарядить детей к новому учебному году, приходится брать кредит, а ко всему ещё и нужно за что-то есть, и, разумеется, пить, а так же кормить кота и заправлять машину. Поживи в наших широтах, старина, и посмотрим, так же ли ты лихо будешь доставать из груди свое сердце…"
Где и при каких обстоятельствах наш Главный отыскал этого Чиполлино – одному богу известно. Да и не ясно – зачем? Скорее всего, не обошлось без корысти и известной всему миру отечественной смекалки – вы, мол, подирижируете у нас, как приглашенный, а я, стало быть, у вас. Не знаю. Слухи, конечно, ходили разные, но кто, скажите, верит оркестровым слухам? Стоит тебе уйти с работы вместе с какой-нибудь миленькой коллегой, проводить ее до остановки, или, не дай бог, выпить с ней кофе, как на следующий же день всем будет известна точная дата вашей свадьбы, и, к тому же, свадьбы по залету.
Но факт есть факт – уже третий день мы репетируем с итальянцем программу, которую повезем в столицу на какой-то невероятно престижный фестиваль оркестров. Выезд сегодня. Степень готовности программы – на удивление приличная.
Чиполлино, перегнувшись через дирижерский пульт, продолжает что-то воодушевленно вещать по-английски – это наше руководство похвасталось, что оркестранты, не желая уступать своим европейским коллегам, владеют языком просвещенного Запада в совершенстве. Ну и, конечно, сэкономили на переводчике.
– Ничего не понимаю, что он там лапочет,– шепотом пожаловался я Полпальцу, сидящему рядом.
– А какая тебе разница, малый?– искренне удивился Полпальца,– бери в руки карандаш, и делай коня.
– Это как?
– Да вот так.
И Полпальца принялся энергично кивать.
– А ещё делай вид, типа отмечаешь в нотах что-то. Успех гарантирован!
Действительно, большая часть оркестра добросовестно и с самым серьезным видом делала коня, доставляя итальянцу искреннюю радость от полного взаимопонимания с коллективом. А что нам, жалко что ли?
– Вообще, малый, язык учить надо. Книжки, там, читай всякие, фильмы на английском смотри…
– Да я и смотрю.
– И что?
– Ничего,– честно признался я,– даже на сюжете сосредоточиться не могу. Сижу, смотрю, а в голове только одна мысль – какой же я дофига умный и прогрессивный, раз фильмы на английском смотрю!
Полпальца хрюкнул, подавив смех, и, поймав на себе удивленный взгляд дирижера, принялся делать коня с удвоенным рвением.
Позже, собравшись на курилке после репетиции и обсудив тесным кругом перспективы гастролей в столицу, мы перемыли итальянцу все кости, а перемыв, заговорили о насущном.
– Вчера к одной даме на день рождения заглянул,– горестно вздыхая, рассказывал Толик,– большие планы на нее имел, между прочим.
– И что?
– Что-что? Напился, как дурак, и пришла моя очередь тост толкать. Ну, я и толкнул. Анечка, солнышко, говорю,
с днём рождения! Ты такой добрый, такой светлый, и вообще очень хороший человечек! А хорошие люди, они ведь долго не живут. Поэтому каждый прожитый тобой год – это победа над естественным ходом жизни!
– И?
– Обиделась,– Толик презрительно цыкнул языком,– а что, спрашивается, я такого сказал?
– У меня тоже недавно было,– поделился Полпальца,– пришел в бар выпить, а там группа какая-то молодежная концерт даёт. И подсаживается ко мне баба – прям то, что надо. Титьки- во! Жопа- во! Разговорились мы с ней. Музыка эта, говорю, говно собачье. Я сам музыкант, я-то знаю, бляха муха! Она давай этих гавриков на сцене защищать, типа это модно, типа современно. А вы, спрашивает, что слушаете?
– А ты?
– Ко мне на "вы", мужики, понимаете? Типа я старый такой, и нихера уже не понимаю, что к чему.
– И?
– Я завелся, конечно. А она все не отстает – что слушаете, да что слушаете. Что-что, блядь… Ложкой в таз жестяной стучу, и слушаю. А ты, пизда тупая, иди, свое модное говно хавай!
– Макаронник этот задолбал,– поделился подошедший Февраль,– мало того, что я каждый день его рожу довольную видеть должен, так ещё и вызывает ни свет, ни заря. Ну нахрена, объясните, репетицию в девять утра делать? Который день уже не высыпаюсь, блин. И ведь лег, вроде, вчера раньше, а толку? Два часа лежал, ворочался, несколько раз курить ходил… Даже овец считал – все-равно не уснул, ни в какую.
– А я уже давно не овец считаю, а детей своих бывших одноклассниц,– поделился методом я,– знаешь, помогает.
– Хорошо, что не своих собственных,– Толик подмигнул.
– А дети, – Февраль раскурил новую сигарету,– их вообще хрен поймёшь. Вот моему пятнадцать недавно исполнилось – а он, дурак, все повторяет: "скорее бы восемнадцать". Меня так и подмывает иногда сказать ему: "сынок, ну что ты ведешься на все эти байки о взрослой, самостоятельной жизни? Все, что у нас, взрослых, есть – это алкоголь и экзистенциальный кризис. А иногда и алкоголя нет".
Так мы говорили ещё долго, меняли одну тему за другой, посмеивались друг над другом, зябко ежась и матерясь, когда налетал холодный ветер. Каждый бравировал своей иронией или цинизмом, играющим роль толстого панциря, под которым скрывалась такая трогательно уязвимая, мягкая душа, и каждый ощущал себя менее одиноким, менее несчастным, менее неудачливым в кругу таких же, как и он, одиноких, тоскливых неудачников. Калеки должны держаться вместе, иначе их съедят, задушат, раздавят… Держаться вместе, и тихонько посмеиваться над собой, а так же над абсурдным местом и временем, в котором им довелось обитать.
***
А вот уже и вечер все того же дня – я стою на платформе у своего вагона, жадно докуриваю, улыбаюсь симпатичной молодой проводнице, то и дело косящейся на меня, и тихо радуюсь предстоящей дороге.
Гастроли – это всегда приключение, пусть даже если длятся они всего несколько суток. Люди срываются с насиженных мест, на время забывая про семьи, про скуку ежедневного, приевшегося быта, серьезные беды и мелкие неурядицы остаются за спиной, и каждый несёт в себе крохотный огонек детского, непосредственного счастья. Когда же эти огоньки объединяются – вспыхивает весёлый пожар. Для многих это – единственная отдушина, чудом уцелевшая щель, сквозь которую ещё тянет упоительно свежим сквозняком свободы – да, пусть не на долго, но заглянуть в эту щель хочется каждому. Все на время становятся одной большой семьёй, вернее, одним табором, и лишь на гастролях может случиться нечто особенное, почти сказочное, чему никогда не будет места в обжитой и пресной вселенной долгих серых будней.
Весь оркестр уместился в четырех вагонах – музыканты курили на платформе, переходили из одного вагона в другой в поисках подходящей компании, кто-то уже выпивал – короче, царила привычная, вполне творческая суматоха. По перрону взад-вперед в панике носился наш инспектор, пытаясь сосчитать тех, кто уже занял свои места, и вычислить, кого ещё нет. Занятие, нужно сказать, не из простых – сосчитаешь ты людей в первом вагоне, вздохнешь с облегчением, переместишься во второй, а там не хватает двух человек. Пока будешь выяснять, кого же конкретно не хватает, окажется, что все в сборе, зато теперь в первом вагоне пропали четверо. Куда делись, черти? Ах, вот же они, перешли в третий вагон, и уже, ясное дело, распивают. Стоп! А почему в третьем вагоне по количеству людей все сошлось, если пятеро стоят и курят на платформе? Ага, вот в чем дело – Иванов и Курышев притащили в вагон каких-то пьяных, безостановочно смеющихся женщин. Женщин разогнать, Иванову с Курышевым сделать взыскание, выслушать душещипательную историю от Леонтьевой о том, что в детстве она упала с верхней полки, и теперь ездит исключительно на нижней. Объяснить ей, что нижняя уже занята Потаповой, а так, как Потапова уже без пяти минут на пенсии, с ней споры лучше не затевать – себе дороже выйдет. И снова в первый вагон, снова считать людей – опять-таки, количество не то, кого-то не хватает. Кого? Искать, попутно отмахиваясь от проводницы, жалующейся на то, что кто-то заблевал туалет. Нет, это не наши. Как не наши? А вот так, не наши – наши не блюют, по крайней мере до отправления. Кто же тогда? Да хрен знает… Наверное, какие-то диверсанты из других вагонов, не имеющие никакого отношения к артистам оркестра. А сам думаешь – может, и наши. Может и могли. Так кого же не хватает?..
Я, дабы не трепать нервы и без того находящегося на грани истерики инспектора, докурил, щелчком отправил бычок на рельсы, шагнул в тамбур. Надо же, в купейном едем! Гастроли на поезде – уже чудно для людей, привыкших перемещаться в автобусах, ибо экономию руководства на коллективе никто не отменял. А тут ещё и купейные вагоны! Благодать. Ясное дело – заезжему дирижеру пыль в глаза пускают. Ну и пусть себе пускают, если народу от этого только лучше.
Я, сверившись с билетом, дошагал до своего купе, и на всякий случай, вежливо постучал – мало ли…
– Входи!– раздалось из-за не плотно закрытой двери.
Вошел.
Первое, что сразу бросилось в глаза – четыре уже наполненных рюмки на столике, и на каждой по половинке огурца. Перевел взгляд на попутчиков – сидят на нижней полке рядком, молчат, ждут.
– Здарова, мужики,– говорю,– я сегодня с вами.
Своих попутчиков я знал не очень хорошо – мельком видел их лица на работе, но не более.
– Здарова!– радостно поприветствовал меня один из них,– а мы тебя давно ждём.
Ах вот оно что! Значит, трое коллег разлили водку по четырем рюмкам и теперь ждут, собственно, четвертого. Причем им совершенно не важно, кто этим четвертым окажется – про то, что с ними поеду именно я, они знать никак не могли. Любопытный подход. Хотя, чего удивляться…
Я уложил инструмент и кофр с концертным костюмом на полку для багажа, сел. По-быстрому, мимоходом познакомились – того, что так обрадовался моему появлению, звали Ярославом.
– Ну что,– заявил он,– теперь и выпить можно? Как бы за знакомство.
– Ещё же не поехали,– вяло запротестовал я.
– Да?– искренне удивился мой новый знакомый,– так выпьем за то, чтобы поскорее поехали!
Я кивнул – ломаться дальше было бессмысленно, да и не особо хотелось. Проглотили водку, покряхтели, закусили огурцами.
– Чувствую, дорога быстро пролетит,– поделился соображениями Ярослав,– кстати, мужики, рекомендую…
С этими словами он вытянул откуда-то из-под столика литровую банку с чем-то густым и бурым.
– Кисель!– торжественно представил он нам содержимое банки,– теща варила. Водку им запивать – одно удовольствие. Кстати, об удовольствиях…
Рюмки были вновь наполнены, и вновь опустошены.
По коридору загрохотали шаги, звучный инспекторский голос, в который уже раз, начал скороговоркой перечислять имена:
– Коля, Женя, Света, Вадим, Наташа…
– Наташа с нами?– громко и искренне восхитился Ярослав.
– Это не я с вами, а ты со мной, пьяная морда!– кокетливо донеслось с противоположного конца вагона.
– Дима, Стас, Петя, Ярик…
Услышав свое имя, Ярослав нахмурился, и крикнул:
– Хуярик!
Повисла пауза.
– Ты чего ругаешься?– настороженно поинтересовался инспекторский голос.
– А чего так не вежливо?
После недолгого молчания перекличка продолжилась, но до того я явственно расслышал инспекторский шепоток:
– Не оркестр, а зоопарк какой-то.
Судя по перечню имен, и последовавшим за ним вздохом облегчения, все, наконец, оказались на местах. А ещё через несколько минут вагон слегка тряхнуло, и перрон за окном лениво пополз прочь.
– Поехали,– констатировал Ярослав,– ну, в добрый путь.
***
Я сижу в купе Полпальца, Февраля и Анатольича, дослушиваю чей-то длинный и сумбурный тост, закидываю в топку очередную рюмку коньяка.
– Курим?– интересуется Февраль.
– Курим,– соглашается Полпальца.
Мы выползаем в тряский вагонный коридор, пошатываясь бредем по нему. Изо всех купе доносятся радостные пьяные возгласы, где-то вибрирует заливистый женский смех, кто-то уже мучает бог знает откуда взявшуюся гитару… Коллектив отдыхает. Коллектив набирается сил и вдохновения перед завтрашним концертом в столице.
В тамбуре, где, разумеется, курение было запрещено, мы, поколебавшись некоторое время лишь для проформы, извлекли сигареты, но закурить не успели – тревожно взвизгнула едва закрывшаяся за нами дверь, и в тамбур шагнула не молодая, хоть ещё и не успевшая растерять остатки былой привлекательности проводница.
– Хотите, чтобы я вас с маршрута сняла?– сварливо поинтересовалась она, елозя по нам полным негодования взглядом,– сейчас начальника поезда позову, и на следующей станции к херам собачьим…
– Ну что ты, что ты, милая,– Полпальца, опершись плечом о стенку и вальяжно закинув ногу за ногу, широко улыбнулся,– откуда ж ты у нас такая зубастенькая?
Я уже не раз слышал о колдовском обаянии серого кардинала виолончельной группы, но ещё ни разу не доводилось видеть его в действии – сейчас Полпальца предстал передо мной, по меньшей мере, коварным венецианским сердцеедом, чьим серенадам самозабвенно внимает с балкона какая-нибудь придворная фрейлина, а не малое количество выпитого лишь добавляло ему шарма – Дон Жуан, захмелевший от любви, это ведь так естественно! О, Донна Анна, будь же милосердна, впусти его в свою душу!
– А ну, марш в свое купе, и чтоб я больше вас не видела!– буркнула проводница, судя по всему, не слишком падкая на пьяных обольстителей, пойманных на месте преступления.
Делать нечего – пожали плечами, вернулись в купе, выпили ещё.
– По-моему- не ебабельная,– первым прокомментировал случившееся Февраль.
– Да что ты понимаешь?– тут же возмутился Полпальца.
Кажется, история в тамбуре его несколько опечалила – потерпевший фиаско идальго в разношенных штанах с лампасами и мятой, видавшей виды футболке, угрюмо смотрел в одну точку, машинально вертя в руках пустую рюмку и время от времени озадачено почесывая выдающийся живот.
– Не все ж коту масленица,– вполне мирно заметил Анатольич с верхней полки.
– Ну вас в жопу!
Полпальца резко встал, схватил со столика уже порядочно опустевшую бутылку коньяка, и, бормоча себе под нос что-то неразборчивое, покинул купе, громко хлопнув дверью.
– Во даёт,– восхитился Февраль,– белку поймал, что ли?
Я понимал, что дело обстоит несколько сложнее, да и все, думаю, понимали, но разбираться в этом сейчас совершенно не хотелось, а хотелось извлечь из хрусткого пакета под столом баночку пива, стремительно прикончить ее, бесстрашно и самозабвенно понизив градус, а после завалиться спать под уютный перестук колес. Лишь одно обстоятельство мешало реализации такого великолепного плана – пакет под столом был предательски пуст.
– В вагон-ресторан?– предложил Февраль,– коньячок пивалдой шлифанем, и в люльку.
Анатольич с грустью отказался, сославшись на возраст, а я, разумеется, согласился.
В вагоне-ресторане мы встретили Толика, чрезвычайно обрадованного нашим появлением – взяли пива, присели за свободный столик, разговорились, и все бы ничего, да только спустя полчаса выяснилось, что пить уже категорически нечего, а общая жажда праздника все ещё не утолена.
– У меня в купе вино есть,– сообщил Толик.
– Тащи.
– Если уйду, то есть риск, что уже не вернусь.
Пошли, стало быть, вместе.
Ну а дальше мир стал мягким, как суфле, таинственным, как сон шизофреника, и потрясающе незапоминающимся, как параграф из учебника по высшей математике. Толик и Февраль куда-то пропали, зато появился заспанный проводник, которого я тряс за плечо, в ожидании ответа.
– Стоянка пятнадцать минут, но я не советовал бы вам…
Перрон, сладковатый и свежий ночной воздух, я курю, тщетно стараясь сфокусировать взгляд на расплывающихся предметах – фонарный столб, синий бок вагона, окно вокзала, какой-то ларек… И надо всем этим – музыка. Величественная, прекрасная музыка. Кажется, Малер.
– Заходите в вагон, сейчас поедем,– долетает до меня голос проводника из соседней вселенной.
– Ага,– я киваю,– а ты музыку слышишь?
– Слышу.
– Как, и ты тоже?!
– Тоже.
– вот прямо сейчас?!
– Прямо сейчас. Заходите в вагон и коллег своих поторопите.
– Каких коллег?
– Тех, у ларька.
Я покорно, пошатываясь, как мне кажется, на ветру, дохожу до ларька. Действительно, коллеги – Ярослав, он же Ярик, с трудом удерживающий себя на ногах, перегнулся через прилавок и на вытянутой руке держит под ухом у пасмурноликого продавца телефон, из динамиков которого льется монументальная симфония.
– Это Малер, понимаешь?– втолковывает продавцу Ярик,– Малер, блядь! Гений, сука!
Я беру Ярика под локоть, тащу назад, к вагону, попутно слушая лекцию о великом, сука, наверное даже величайшем, так его перетак, композиторе.
А дальше – пробел. Черная дыра. Вакуум.
И голос будиста Шуры:
– Солист пропал, понимаешь? Это катастрофа!
– Какой солист, Шурка?– нехотя возвращаясь к реальности, бормочу я.
Оглядываюсь по сторонам – ага, я все ещё в поезде, все ещё куда-то еду…
– Как, какой? Да пианист, с которым мы Баховский ми мажорный концерт играем завтра.
– Куда пропал?
– Скорее всего сошел на прошлой станции, и все, с концами.
– Так,– я озадаченно почесал затылок, попробовал отыскать в голове хоть одну рациональную мысль, не нашел, расстроился,– и что делать будем?
– Нужно к инспектору идти.
Опять вагонные коридоры, опять вежливое постукивание костяшками о дверь чьего-то купе… Хотя, почему это – опять? К кому это я уже стучался? Ладно, после разберемся.
Инспектора в купе нет, зато есть Петька, арфистка Вика, и две пустых бутылки из-под красного сухого на столике.
– После его ухода из моей жизни я как будто дала трещину,– не обращая на мое появление никакого внимания, вещает Вика.
– Петька, где инспектор?
Петька лишь машет на меня рукой, словно отгоняя назойливую муху.
– Я как будто дала трещину…
– Петька, где инспектор?
Петька приобнимает Вику за плечи, одновременно с этим одарив меня красноречивым взглядом, мол, куда идти знаешь, а дорогу показать не могу – занят.
– Я как будто дала трещину…
– Что такое "как будто"? Дала, или нет?– интересуется он.
– Дала,– признается Вика.
– Ну и ладно,– ласково, хоть и не слишком членораздельно говорит Петька,– я не собственник. А этот Трещин, он из наших хоть? Или из другого оркестра?
Понять, шутит он, или просто уже в стельку, я не успеваю – кто-то подходит сзади, дёргает за рукав. Оборачиваюсь – передо мной стоит низенький, пухленький человечек, во фраке поверх красной вязаной кофты.
– Мужик, ты рано переоделся,– говорю,– концерт завтра только.
Человечек ещё какое-то время стоит, пошатываясь, явно ничего не понимая, а затем проворно ныряет в свое купе.
– Иди к себе, поздно уже,– вздыхает Шура.
– А инспектор как же? А солист?
– Это и был солист. Видимо – нашелся. Тебе бы поспать немного…
Пожав плечами, побрел назад, в свой вагон, спотыкаясь через каждые три-четыре шага. Миновав грохочущий тамбур чуть не врезался в Полпальца, избивающего кулаком ни в чем не повинную дверь купе проводницы.
– Милая, ты такая милая…– стонал Полпальца.
Диагноз был ясен – пьян до полной потери себя.
Пока я шел по коридору, Полпальца все повторял:
– Милая, ты такая… такая милая…
Кажется, наш идальго никак не мог подобрать подходящего эпитета, и от этого ужасно страдал. Однако, когда я уже шагал в свое купе, до меня долетело:
– Милая… Ты такая милая…Я прям хуею!
"Достойно,– почему-то подумалось мне,– если осаждаемая крепость не падет даже после такого, значит это зажравшееся, блядское человечество обречено".
В купе уже все спали – свет не горел. Я, не раздеваясь, лег на свою нижнюю полку, ещё какое-то время рассматривал силуэты пустых бутылок на столике и отблески проносящихся мимо полустанков в квадрате окна, а потом как-то незаметно провалился в тяжёлый, не слишком приятный сон. Сколько спал – не знаю. К яви же меня вернул страшный грохот. "Вот и все,– сверкнула перепуганная мысль в сонном и пьяном мозгу,– поезд сошел с рельс, сейчас все кончится. Боже, как не правильно я жил…". Однако, как следует вглядевшись в душную купейную темноту, я разобрал некий крупногабаритный предмет, лежащий на полу.
– Что это было?– донёсся до меня голос одного из попутчиков.
– Кажется, виолончель сверху рухнула.
– Не, это не виолончель.
Тут же мгновенно протрезвев и покрывшись холодным потом (сразу представился мой футляр, лежащий на полу, а в нем – груда щепок, бывшая некогда инструментом), я нагнулся, вытянул руку… Пальцы коснулись чего-то теплого. Ещё ничего не понимая, я поднес руку к лицу, и, в очередном коротком проблеске за окном, увидел на ладони кровь. В этот же самый миг другой мой сосед сообщил:
– Это не виолончель. Это Ярик со своей полки сверзился.
Я толкнул дверь купе, и внутрь хлынул тусклый коридорный свет, вырвавший из темноты кусок пола, с лежащим на нем телом. Из-под тела растекалась красная лужа.
– Покойся с миром, мастер,– изрек кто-то благоговейным шепотом,– все от синьки ебаной.
– Мужики, делать-то что?– меня накрыла волна тупого, животного ужаса,– нужно скорую!
– Для начала поезд остановить нужно. Беги в тамбур, дерни стоп-кран. Только все равно уже поздно. Так башкой шарахнуться – это ж надо…
Я выбежал из купе, на подгибающихся, ватных ногах проковылял по коридору до тамбура. Стоп-крана в тамбуре не обнаружилось, зато обнаружился Полпальца, ещё более пьяный, чем был. К тому же, не один – идальго одной рукой обнимал за талию ту самую проводницу, а в другой держал дымящуюся сигарету. Вид у них был такой, будто обоим по шестнадцать, и вот-вот должен случиться первый поцелуй, а за ним и все остальное, тоже первое.
При моем появлении проводница дернулась, а Полпальца раздражённо крякнул – идиллия была грубо нарушена.
– Где стоп-кран?!– ошалело вскричал я.
Проводница испугано пискнула, а Полпальца с самым спокойным видом поинтересовался:
– С хера ли он тебе, малый?
– У нас Ярик с полки упал! Насмерть!
Проводница опять пискнула – на сей раз уже громче. На лице Полпальца не дрогнул ни один мускул.
– Ярик, говоришь? Ну пойдем, глянем.
И уже выходя из тамбура, бросил проводнице через плечо:
– А ты, Галюсик, покури ещё, и к себе иди. Я тоже скоро приду.
Мы дошли до купе, Полпальца с вялым интересом заглянул внутрь, пожал плечами.
– Ты, малый, совсем дурак. Это не Ярик насмерть упал, это на тебя водка с коньяком и пивом насмерть упала. Спать иди.
Едва он отошёл, я сам заглянул в купе – Ярик сидел на полу, скребя в затылке, по его лицу бродило выражение той особенной растерянности алкоголика, оказавшегося хрен знает где, хрен знает как. Тем не менее, красная лужа на полу никуда не делась.
– Жаль,– грустно произнес Ярик,– хороший кисель был. Это я его, когда падал сшиб что ли?
Вдруг на лице его отразилось смятение, граничащее с паническим ужасом.
– А водку я тоже вместе с киселем сшиб?
Но услышав, что вся водка была им же и выпита ещё до того, как все улеглись – расслабился, и, как ни в чем не бывало, снова полез на свою полку.
***
Вот и утро – сырое и серое до тошноты. Вот привокзальная площадь – зябко ежащиеся, кисломордые менты, попрошайки обоих полов всех мастей, по привычке переругивающиеся между собой таксисты, перепуганными тараканами снующие туда-сюда люди с чемоданами, мятыми клеенчатыми сумками, пёстрыми баулами… Оркестр, больше напоминающий кагорту оживших мертвецов, грузится в автобус – на лицах скромных служителей муз ни единого проблеска мысли, лишь черная, глухая тоска. Я курю и потягиваю горячий химический кофе из подрагивающего в ненадежных руках картонного стаканчика, стараясь не обращать внимания на озноб, на сосущую пустоту внутри, на безликую, гадостную скуку снаружи. Здравствуй, столица. Здравствуй, ненасытная шлюха, всегда обещающая больше, чем можешь дать. Пусть идиоты и неудачники пропихивают в тебя свои детородные агрегаты, пусть обливаются потом и слюной, в надежде унять свой похотливый голод, и пусть платят, платят, платят, но не за банальную случку, а за возможность возникновения настоящей любви. Да-да, ты ведь не просто позволяешь им иметь тебя куда и как заблагорассудится, ты даришь надежду, что и сама можешь влюбиться, а это сводит с ума надёжнее, чем пошлая нагота или кроткая, покорная безотказность. И это вовсе не жестокость, а профессиональный цинизм наперсточника, раз за разом загоняющего шарик из хлебного мякиша себе под грязный ноготь, и честно, хоть и с некоторой долей печали, смотрящего в коровьи глаза доверчивого кретина, уже успевшего поверить в благосклонность пойманной за сосок гладкотелой фортуны.
И все же, здесь я взрослел. Вокзальная площадь ничуть не изменилась с того самого дня, когда на нее впервые вышел неоперившийся юноша, вчерашний мальчишка, с виолончельным футляром за спиной и гигантским чемоданом в руках. Он вышел, закурил, с искренним, большеглазым удивлением окинул взглядом незнакомое пространство, прикинул что-то в уме. Он прибыл покорителем и бунтарем, рыцарем без страха и упрека, с наивным вызовом смотрящим в лицо надвигающейся со всех сторон неизвестности. Нет, даже по прошествии стольких лет этот вызов никуда не делся, но стал куда как злее, грубее, реальнее… Вернее, тогда еще было и что-то кроме, какая-то вера, какие-то, пусть и робкие, глупые идеалы, а когда остался один лишь вызов – стало не столько грустно, сколько обидно. Город добросовестно мял мальчишку в своих жерновах, отсекал лишнее, как умелый скульптор, и все учил – дружбе, правде, любви, иронии. Учил и злости, выносливости, необходимой жестокости, хитрости, холодному расчету… Здравствуй, учитель. Ты по-прежнему намеренно неопрятен и хамоват, по-прежнему дурно пахнешь. Молодец, не изменяй же себе и впредь.
Я утопил окурок в недопитом кофе, бросил стаканчик, вопреки местным законам, в ближайшую урну, шагнул в автобус, уселся на свободное место, и почти сразу задремал.
Спустя час, отдав дань столичным дорожным пробкам, мы были на месте – выгрузились, дождались, пока откроют служебный вход, вязким потоком втекли внутрь скучного бледно жёлтого здания, сбросили верхнюю одежду и разобрали инструменты в артистических, покорно заняли места на сцене. Акустическая репетиция заняла не более двадцати минут – дирижёр взял несколько фрагментов программы, не слишком удовлетворился полученным результатом, вздохнул, пожал плечами и милосердно рассудил, что после тяжёлого переезда музыкантам необходим отдых. До вечернего концерта оставалось ещё по меньшей мере восемь часов, но так, как гостиницы оркестру не полагалось (все-таки у щедрот начальства имелись границы), отдых предполагался здесь же, то есть в двух артистических, в местном буфете, или на мягких пуфиках в просторном холле концертного зала – кому что по душе. Лично я совершенно случайно обнаружил в одном из коридоров роскошнейшее кресло, в котором и провел несколько часов, то проваливаясь в теплую, нежную полудрему, то с недовольством выныривая из нее, если мимо кто-то шумно проходил. Удовлетворив же потребность во сне, я наведался в буфет, скромно перекусил, и, почувствовав себя уже совсем хорошо, вышел из здания на улицу, привалился к стене у черной жестяной мусорки, закурил.
Меня окликнули. "Не отзывайся,– тут же посоветовал внутренний голос,– пусть решат, что обознались, и идут себе лесом. Так будет лучше". Но я не выдержал – обернулся.
Стоящего в нескольких шагах от меня мужчину я знал, вернее, лицо его было мне знакомо, хоть кроме него в памяти, вроде бы, не сохранилось ни имени, ни какой-либо другой поясняющей информации.
– Владик?– неуверенно предположил я.
– Дурак что ли?– мужик покрутил пальцем у виска,– совсем мозг пропил? Игорь я. Что, реально забыл, чертяка? Ну даёшь.
Я ещё даже не успел прикинуть, кем этот Игорь может мне приходиться (Бывший однокурсник? Собутыльник? Должник или, что вероятнее, кредитор?), а мужик уже радостно тряс мою машинально протянутую руку.
– Сколько лет, сколько зим! Куда пропал-то? Не звонишь, не пишешь…
– Да я так, то там, то здесь, понимаешь, замотался совсем…
Пока я нес эту и прочую бессмысленную чепуху, память все-таки сжалилась, и дала ответ на мой запрос.
Игорь… Да, кажется, был такой. Где-то мы с ним даже играли вместе, где-то пили, что-то обсуждали. Так уж сложилась жизнь, что во времена моего мятежного студенчества (словно чтобы подчеркнуть контраст со школьными годами), я всегда был номером один, всегда был первым. И все мои друзья тоже были первыми. Элита, сливки студенческого социума, признанные большинством, как самые талантливые, а так же самые привлекательные и разудалые. Да, с деньгами всегда было туго, но ведь авторитет не обязательно покупать – его можно заработать тысячей способов, никак не связанных с финансовыми вливаниями. У нас были самые лучшие педагоги, нас окружали самые лучшие женщины, мы играли на самых солидных концертах, и играли, надо сказать, замечательно – короче, мы все были первыми. Каждый- номер один. А Игорь всегда был вторым. Или даже третьим. Он тоже был виолончелистом, и старался подражать мне если не во всем, то во многом, копируя манеру игры, умение держать себя на людях, привычки, фразы, жесты, увлечения… Он при любом удобном случае выпытывал, какие фильмы я смотрю, какую музыку слушаю, какие книги читаю. Внимательнее всего Игорь наблюдал за моими взаимоотношениями с девушками, и когда я одерживал очередную победу над представительницей слабого пола, он старался повторить до мелочей весь проделанный мной путь к успеху, не редко даже с той же дамой, что и я, разумеется, дождавшись, пока номер один охладеет к ней телом и душой. Впрочем, все мои поражения на том же личном фронте (случающиеся, чего уж, не реже, а то и чаще побед), он анализировал с той же одержимостью. Если меня приглашали на халтуру в какой-нибудь оркестр, а я с важностью заявлял, что оркестр этот говно, и никакие деньги не заставят меня предать принципы – Игорь тоже не шел туда играть. Однако, когда на следующий день мое финансовое положение обрисовывалось несколько чётче, и оказывалось, что все выпито, съедено, скурено, и многое даже в долг – я соглашался на халтуру, и Игорь соглашался тоже. Шло время. И вот, совершенно внезапно, копирование кончилось. Нет, я по-прежнему являлся номером один, по-прежнему был образчиком непропиваемого таланта и бунтарского обаяния, но Игорь уже не подражал мне. Скорее – наоборот. Он бросил пить, устроился на тяжёлую, унизительную, и, к тому же, низкооплачиваемую работу, завел вполне серьезные отношения с одной мадам, и, в конце концов, съехал из общаги, сняв скромную комнату где-то в черте города. Он много и скучно работал, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице – я пил, гусарил, играл концерты в качестве солиста. Он женился, скопил на автомобиль, нашел вторую работу – я по-прежнему пил, играл в квартетах и камерных ансамблях с выдающимися музыкантами, просыпался и засыпал с разными женщинами, но чаще один. Его, наконец, позвали на место концертмейстера в неплохой оркестр – я, не изменяя себе, пил, планы на будущее становились все туманнее. Студенчество кончилось – он взял ипотеку и купил квартиру, я попробовал уехать за границу, но ничего путного из этого не вышло, пришлось вернуться. Он работал, получал премии два раза в год, его звали на халтуры – я устроился в гаденький третьесортный оркестрик, проработал там две недели, в порыве чувств нахамил дирижеру, и, не дождавшись первой зарплаты, ушел в детскую музыкальную школу, где отработал ещё неделю, уволился, полмесяца голодал, жил на квартирах то у одних, то у других друзей, играл на улицах и в подземных переходах, а потом плюнул на все, и сбежал в провинцию.
Теперь же вот мы стоим, смотрим друг на друга, разговариваем.
– Ты к нам поработать пришел, или так, в гости?– интересуется Игорь.