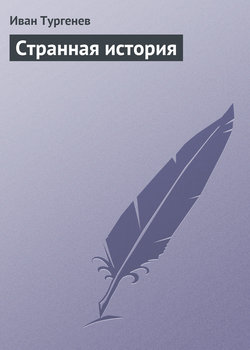Читать книгу Странная история - Иван Тургенев - Страница 1
Оглавление…Лет пятнадцать тому назад, – начал г-н Х…, – обязанности службы заставили меня прожить несколько дней в губернском городе Т…[1] Я остановился в порядочной гостинице, устроенной за полгода до моего приезда разбогатевшим портным из евреев. Говорят – она процветала недолго, что у нас весьма обыкновенно; но я застал ее еще в полном блеске: новые мебели стреляли по ночам как из пистолетов, постельное белье, скатерти и салфетки пахли мылом, а от крашеных полов несло олифой, что, впрочем, по мнению полового, человека весьма изящного, хоть и не совсем опрятного, препятствовало распространению насекомых. Половой этот, бывший камердинер князя Г., отличался развязностию обращения и самоуверенностию; ходил постоянно во фраке с чужого плеча и стоптанных башмаках, носил под мышкой салфетку и множество угрей на щеках и, свободно размахивая потными руками, произносил короткие, но внушительные речи. Он оказывал мне некоторое покровительство, как человеку, способному оценить его образованность и знание света; но на собственную судьбу взирал несколько разочарованным оком. «Известно, – сказал он мне однажды, – какое наше теперь положение? За хвост да и на солнце!» Звали его Ардалионом.
Мне предстояло сделать несколько визитов чиновным лицам города. Тот же Ардалион достал мне коляску и лакея, одинаково развинченных и потертых; но на лакее была ливрея, – а коляску украшали гербы. Окончив все официальные посещения, я заехал к одному помещику, старинному знакомому моего отца, с давних пор поселившемуся в городе Т… Я с ним лет двадцать не видался; он успел жениться, развести порядочное семейство, овдоветь и разбогатеть. Он занимался откупами, то есть ссужал откупщиков залогами за крупные проценты… «Риск – благородное дело!» Впрочем, и риску было мало. В течение нашей беседы в комнату нерешительными, но легкими шагами, словно на цыпочках, вошла девушка лет семнадцати, тоненькая и худенькая. «Вот, – сказал мне мой знакомый, – старшая моя дочь Софи, рекомендую; заменила мне покойницу; хозяйничает в доме, за братьями и сестрами наблюдает». Я вторично поклонился вошедшей девушке (она между тем молча опустилась на стул) и подумал про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Лицо у ней было совсем детское, круглое, с маленькими приятными, но неподвижными чертами; голубые глазки, под высокими, тоже неподвижными, неровными бровями, глядели внимательно – почти изумленно, точно они начали замечать что-то для них неожиданное; пухлый ротик с приподнятой верхней губой не только не улыбался, но, казалось, не имел этой привычки вовсе; на щеках нежными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь под тонкой кожей. Пушистые белокурые волосы висели легкими гроздьями с обеих сторон небольшой головы. Грудь дышала тихо, и руки как-то неловко и строго прижимались к узкому стану. Голубое платье падало без складок – по-детски – на маленькие ножки. Общее впечатление, производимое этой девушкой, было не то чтобы болезненное, но загадочное. Я видел перед собою не просто робевшую провинциальную барышню, но существо с особенным, для меня неясным отпечатком. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполне понимал и только чувствовал, что мне еще не удавалось встретить более искреннюю душу. Жалость… да! жалость возбуждала во мне эта молодая, серьезная, настороженная жизнь – бог ведает почему! «Не от земли сея», – думалось мне, хотя собственно в выражении лица не было ничего «идеального» и хотя в гостиную mademoiselle Sophie, очевидно, появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекал ее отец.
Он начал говорить о жизни в городе Т…, об общественных удовольствиях и удобствах, доставляемых ею. «У нас смирно, – заметил он, – губернатор – меланхолик, губернский предводитель – холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну и всю нашу интеллигенцию вы увидите».
Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностию, развивало в людях некоторое глубокомыслие.
– Позвольте спросить, вы будете на этом бале? – обратился я к дочери моего знакомого. Мне хотелось услыхать звук ее голоса.
– Папенька намерен поехать, – отвечала она, – и я с ним.
Голос у ней оказался тихий и медленный, и выговаривала она каждое слово, точно недоумевала.
– В таком случае позвольте пригласить вас на первую кадриль. – Она наклонила голову в знак согласия, но и тут не улыбнулась.
Я вскоре удалился, и, помнится, взгляд ее глаз, пристально на меня устремленных, показался мне до того странным, что я невольно посмотрел себе через плечо, уж не видит ли она кого-нибудь или что-нибудь у меня за спиною?
Вернувшись в гостиницу и пообедав неизменным «суп-жульен», котлетами с горошком и просушенным до черноты рябчиком, я присел на диван и предался размышлениям. Предметом их была эта София, эта загадочная дочь моего знакомого; но убиравший со стола Ардалион растолковал по-своему мою задумчивость: он приписал ее скуке.
– Оченно у нас в городе мало развлечения для господ проезжающих, – заговорил он с обычной развязной снисходительностию, в то же время продолжая похлопывать грязной салфеткой по спинкам стульев: это похлопывание, как известно, свойственно одним лишь образованным слугам. – Очень мало! – Он помолчал, а громадные стенные часы, с лиловой розой на белом циферблате, своим однообразным и сиплым чиканием тоже как бы подтверждали его слова. «О… чень! о-чень!» – щелкали они. – Ни концертов никаких, ни театров, – продолжал Ардалион (он ездил с своим барином за границу и чуть ли не побывал в Париже; он хорошо знал, что одни мужики говорят: киятр), – ни танцев, например, или вечерних приемов между господами дворянами, ничего этого не существует. (Он остановился на мгновение, вероятно, для того, чтобы дать мне заметить отборность своего слога.) – Даже друг друга видят редко. Сидит каждый у себя на тычке, как «ке́тик» какой. И выходит, что заезжим посетителям деваться бывает – просто некуда.
Ардалион глянул на меня искоса.
– Разве вот что, – продолжал он с расстановкой. – В случае, если имеется такое ваше расположение…
Он вторично глянул на меня и даже усмехнулся, но, должно быть, надлежащего расположения во мне не заметил.
Изящный слуга подошел к двери, подумал, вернулся и, помявшись немного на месте, нагнулся к моему уху и с игривой улыбкой промолвил:
– Не желаете ли вы мертвых видеть?
Я с изумлением посмотрел на него.
– Да, – продолжал он уже шёпотом, – у нас есть тут такой человек. Из простых мещан и даже безграмотный, а дела совершает чудные. Если, например, вы к нему отъявитесь и пожелаете увидать какого ни на есть покойника из ваших знакомых, он вам его беспременно покажет.
– Каким же это образом?
– Это уж его секрет. Потому, хотя он и человек безграмотный, прямо сказать, бессловесный, но в божественности очень силен! Большое от купечества к ним уважение!
– И всем это в городе известно?
– Кому нужно – знают-с; ну, а конечно, от полиции опасение соблюдается. Потому, что ни толкуй, дела все-таки запрещенные, и для простого народа – соблазн; простой народ – чернь, значит, известно – сейчас в кулаки!
– Вам он мертвецов показывал? – спросил я Ардалиона. Такого образованного смертного я не решался «тыкать».
Ардалион качнул головою.
– Показывал-с; родителя как живого представил.
Я уставился на Ардалиона. Он посмеивался и поигрывал салфеткой – и снисходительно, но с твердостью поглядывал на меня.
– Да это очень любопытно! – воскликнул я наконец. – Нельзя ли мне с этим мещанином познакомиться?
– С ними прямо никак нельзя-с; а через ихнюю мамыньку нужно действовать. Старушка почтенная; на мосту мочеными яблоками торгует. Если прикажете, я ее спрошу-с.
– Сделайте одолжение.
Ардалион кашлянул в руку.
– И благодарность, какую вы положите, небольшую, разумеется, тоже ей вручить следует, той самой старушке. А я с своей стороны ей доложу-с, что опасаться вас нечего, так как вы господин заезжий, барин – ну и, конечно, можете понимать, что сие есть тайна, и до неприятности ни в каком случае ее не доведете.
Ардалион взял поднос в одну руку и, грациозно виляя и собственным станом и подносом, направился к двери.
– Так я могу на вас надеяться? – крикнул я ему вслед.
– Будьте благонадежны! – раздался его самоуверенный голос. – Побеседуем со старушкой и ответ вам передадим в аккурате.
Не стану распространяться о том, какие мысли возбудил во мне необычайный факт, сообщенный Ардалионом; но готов сознаться, что с нетерпением ожидал обещанного ответа. Поздно вечером вошел ко мне Ардалион и объявил свою досаду: он не мог отыскать старушку. Я все-таки, в видах поощрения, вручил ему трехрублевую бумажку. На следующее утро он снова, и с радостным лицом, явился в мою комнату: старушка соглашалась на свидание со мною.
– Эй, мальчуга! – крикнул Ардалион в коридор, – мастеровой! Поди-ка сюда! – Вошел младенец лет шести, весь перепачканный в саже, как котенок, с остриженной, местами даже голой головой, в изорванном полосатом халате и огромных калошах на босу ногу. – Вот ты их проведешь, куда знаешь, – промолвил Ардалион, обращаясь к «мастеровому» и указывая на меня. – А вы, господин, как придете, спросите Мастридию Карповну.
Мальчик издал сиплый звук, и мы отправились.
Мы шли довольно долго по немощеным улицам города Т…; наконец в одной из них, едва ли не самой пустынной и унылой, мой вожатый остановился перед ветхим двухэтажным деревянным домиком и, утерев нос всем рукавом халата, проговорил:
– Здеся; направо ступайте.
Я вошел через крылечко в сени, толкнулся направо: низенькая дверь завизжала на ржавых петлях, и я увидел перед собою толстую старушку в коричневой, зайцем подбитой кацавейке и пестром платочке на голове.
– Мастридия Карповна? – спросил я.
– Она самая и есть, – отвечала мне старушка пискливым голоском. – Милости просим. На стульчик не угодно ли?
Комната, в которую ввела меня старушка, была до того завалена всяким хламом, тряпьем, подушками, перинами, мешками, что повернуться в ней почти не было возможности. Солнечный свет едва пробивался сквозь два запыленные окошка; в одном углу, за грудой наставленных друг на дружку коробов, слабо охал и жаловался… неизвестно кто: быть может, больной ребенок, а быть может – щенок. Я уселся на стул, а старушка стала прямо предо мною. Лицо у ней было желтое, полупрозрачное, как восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщин представляли одну поперечную; клок белых волос торчал из-под головного платка, но воспаленные серые глазки умно и бойко выглядывали из-под нависшей лобной кости; а заостренный носик так и выдавался шилом, так и нюхал воздух: плут, мол, я! «Ну! ты баба не промах!» – подумалось мне; притом же от нее попахивало водочкой.
Я объяснил ей причину моего посещения, которая, впрочем, как я заметил, должна была ей быть известной. Она выслушала меня, быстро помаргивая глазами, и только еще вострее выдвинула свой нос, словно клюнуть им собиралась.
– Так-с, так-с, – заговорила она наконец, – Ардалион Матвеич нам сказывали-с, точно-с; вам сыночка моего, Васеньки, искусство понадобилось… Только сумлеваемся мы, государь мой…
– Отчего же? – перебил я. – На мой счет вы можете быть совершенно спокойны… Я не доносчик.
– Ох, батюшка вы мой, – поспешно подхватила старушка, – что вы это? Смеем мы про ваше благородие такое думать! Да и доносить-то на нас с какой стати? Разве мы что грешное затеваем? Не таковский мой сыночек, батюшка, чтобы ему на какое нечистое дело согласиться… или каким колдовством баловаться… да сохрани бог, мать пресвятая богородица! (Старушка три раза перекрестилась.) По всей губернии первый постник и молельщик; первый, батюшка вы мой, ваше благородие! А это точно: милость его посетила великая. Что ж! Это дело не его рук. Это, голубчик мой, свыше; да.
– Так вы согласны? – спросил я. – Когда я могу с вашим сыном повидаться?
Старушка опять заморгала глазами и раза два перепихнула скатанный носовой платок из рукава в рукав.
– Ох, государь мой, государь мой, сумлеваемся мы…
– Позвольте, Мастридия Карповна, вручить вам следующее, – перебил я ее и подал ей десятирублевую бумажку.
Старушка тотчас схватила ее своими пухлыми кривыми пальцами, напоминавшими мясистые когти совы, проворно засунула ее в рукав, подумала немного и, как бы внезапно решившись, хлопнула себя обеими ладонями по ляжкам.
– Приходи сюда сегодня вечером, в восьмом часу, – заговорила она не своим обычным, а другим, более важным и тихим голосом, – только не в эту комнату, а прямо изволь подняться во второй этаж; и будет тебе дверь налево, и ты ту дверь отвори; и войдешь ты, ваше благородие, в пустую комнату, и в той комнате увидишь стул. Сядь ты на этот стул и жди; и что бы ты ни видел, никаких слов не произноси и не делай ничего; и с сыночком моим тоже не изволь разговаривать; потому – он еще млад, да он же у меня в падучке. Испугать его очень легко: затрепещется, затрепещется словно цыпленок какой… беда!
Я посмотрел на Мастридию.
– Вы говорите, он молод, но коли он ваш сын…
– По духу, батюшка, по духу![2] Много у меня сирот-то! – прибавила она, мотнув головою в направлении угла, откуда раздался жалобный писк. – О-ох, господи боже ты мой, пресвятая мать богородица! А вы, батюшка мой, ваше благородие, прежде чем сюда пожалуете, извольте-ка подумать хорошенько, кого вам из ваших покойных сродственников или знакомых – царство им небесное! – увидеть желательно. Переберите своих покойничков, и которого выберете, так уж его в уме держите, всё держите, пока сыночек придет!
– А разве я не должен сказать вашему сыну, кого именно…
– Ни, ни, батюшка, ни единого слова. Он сам в ваших мыслях откроет, что ему нужно. А вы только знакомца вашего хороше…енько в уме держите; да за обеденным столом винца выпейте – стаканчика два, три; винцо никогда не мешает. – Старуха рассмеялась, облизнулась, провела рукою по рту и вздохнула.
– Так в половине восьмого? – спросил я, поднимаясь со стула.
– В половине восьмого, батюшка, ваше благородие, в половине восьмого, – успокоительно отвечала Мастридия Карповна.
Я простился со старухой и вернулся в гостиницу. Я не сомневался в том, что меня собирались одурачить, но каким образом? Вот что возбуждало мое любопытство. С Ардалионом я поменялся всего двумя, тремя словами.
– Допустила? – спросил он меня, нахмурив брови, и на мой утвердительный ответ воскликнул: – Баба министр!
Я принялся, по совету «министра», перебирать своих покойничков. После довольно долгих колебаний я остановился, наконец, на одном давно умершем старичке, французе, бывшем моем гувернере.[3] Я выбрал именно его не потому, чтобы чувствовал особенное к нему влечение; но вся фигура его была так оригинальна, так не походила на современные фигуры, что подделаться под нее было совершенно невозможно. Он имел огромную голову, зачесанные назад пушистые белые волосы, густые черные брови, крючковатый нос и две большие бородавки лилового цвета посредине лба, носил зеленый фрак с медными гладкими пуговицами, полосатый жилет со стоячим воротником, жабо и маншетки. «Коли он мне моего старика Дессе́ра покажет, – подумал я, – ну, надо будет согласиться, что он колдун!»
За обедом я, по совету старухи, выпил бутылку лафиту первейшего сорта, по уверению Ардалиона, но с сильнейшим вкусом жженой пробки и с густым осадком сандала на дне каждой рюмки.
Ровно в половине восьмого я находился перед домом, в котором беседовал с почтенной Мастридией Карповной. Все ставни окон были заперты, но дверь была раскрыта. Я вошел в дом, взобрался по шаткой лестнице во второй этаж и, отворив дверь налево, очутился, как мне предсказывала старушка, в совершенно пустой, довольно просторной комнате; сальная свечка, поставленная на подоконник, тускло ее освещала: у стены, напротив двери, стоял плетеный стул. Я снял со свечки, которая порядком успела нагореть, уселся на стул и начал ждать.
Первые десять минут прошли довольно скоро; в самой комнате решительно ничто не могло привлечь мое внимание; но я прислушивался к каждому шороху, внимательно глядел на закрытую дверь… Сердце билось. За первыми десятью минутами прошли другие; потом полчаса, три четверти часа – и хоть бы что пошевельнулось кругом! Я несколько раз кашлянул, чтобы дать знать о моем присутствии; я начинал скучать, сердиться: этаким образом быть одураченным не входило в мои расчеты. Я уже собирался подняться со стула и, взяв свечку с окна, пойти вниз… Я посмотрел на нее, светильня опять нагорела грибом; но, отведши взоры от окна к двери, я невольно вздрогнул: прислонясь к этой самой двери, стоял человек. Он так проворно и без шума вошел, что я ничего не слышал.
На нем была простая синяя чуйка; росту он был среднего и довольно плотен. Закинув руки за спину и потупив голову, он уставился на меня. При тусклом свете свечки я не мог хорошенько разглядеть его черты: я видел только косматую гриву спутанных волос, падавших на лоб, да крупные, слегка искривленные губы, да белесоватые глаза. Я хотел было заговорить с ним, но вспомнил наставление Мастридии и закусил губы. Вошедший человек продолжал глядеть на меня, я также глядел на него и, странное дело! в одно и то же время я почувствовал нечто вроде страха и, словно по приказанию, немедленно принялся думать о моем старом гувернере. Тот всё стоял у двери и дышал усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднимал, а глаза его как будто расширялись, как будто приближались ко мне – и неловко мне становилось под их упорным, тяжелым, грозным взором; по временам эти глаза загорались зловещим внутренним огоньком; подобный огонек замечал я у борзой собаки, когда она «воззрится» в зайца, и, подобно борзой собаке, тот весь устремлялся своим взором вслед за моим, когда я «делал угонку», то есть пробовал отвести глаза в сторону.
Так прошло не знаю сколько времени: быть может, минута; быть может, четверть часа. Он всё глядел на меня; я всё ощущал некоторую неловкость и страх и всё думал о французе. Раза два я попытался сказать самому себе: «Что за вздор! что за комедия!», попытался улыбнуться, пожать плечом… Напрасно! Всякое решение во мне тотчас «застывало», – я другого слова подобрать не умею. Мною овладевало какое-то оцепенение. Вдруг я заметил, что тот уже отделился от двери и стоял на шаг или на два ближе ко мне; потом он чуть-чуть подпрыгнул, обеими ногами разом, и стал еще ближе… Потом еще… потом еще; а грозные глаза так и упирались во всё мое лицо, и руки оставались за спиною, и широкая грудь дышала усиленно. Мне эти прыжки показались смешными, но и жутко мне становилось, и, что́ я уже никак понять не мог, сонливость вдруг начала находить на меня. Веки мои слипались… косматая фигура с белесоватыми глазами в синей чуйке задвоилась передо мной – и вдруг совсем исчезла!.. Я встрепенулся: он опять стоял между дверью и мною, но уже гораздо ближе… Потом он опять исчез – словно туман набежал на него; опять появился… исчез опять… появился опять… и всё ближе, ближе – его трудное, почти храпевшее дыхание уже добегало до меня… Опять надвинулся туман, и вдруг из этого тумана, начиная с белых, кверху приподнятых волос, явственно стала вырисовываться голова старика Дессе́ра! Да; вот его бородавки, его черные брови, его нос крючком! Вот и зеленый фрак с медными пуговицами, и полосатый жилет, и жабо… Я вскрикнул, я приподнялся… Старик исчез, и на месте его я снова увидел человека в синей чуйке. Он подошел, шатаясь, к стене, уперся в нее головой и обеими руками и, задыхаясь как запаленная лошадь, хриплым голосом проговорил: «Чаю!» Откуда ни возьмись, Мастридия подскочила к нему и, приговаривая: «Васенька, Васенька», – принялась заботливо утирать пот, который так и струился с его волос и лица. Я было приблизился к ней, но она так убедительно, таким раздирающим голосом воскликнула:
– Ваше благородие! отец милостивый, не губите, уйдите, Христа ради! – что я повиновался; а она снова обратилась к своему сыночку. – Кормилец, голубчик, – успокаивала она его, – сейчас тебе будет чай, сейчас. Да и вы, батюшка, чайку у себя дома выкушайте! – крикнула она мне вслед.
Вернувшись домой, я послушался Мастридии и велел подать себе чаю; я чувствовал усталость – даже слабость.
– Ну что-с? – спросил меня Ардалион, – были-с? видели-с?
– Он мне точно показал что-то… чего я, признаюсь, не ожидал, – отвечал я.
– Великой премудрости человек! – заметил Ардалион, вынося самовар, – от купечества к ним – ба-аль-шое уважение!
Ложась спать и размышляя о случившейся со мной истории, я наконец вообразил, что добился ее объяснения. Человек этот несомненно обладал значительной магнетической силой; действуя, конечно, непонятным для меня способом на мои нервы, он так ясно, так определенно возбудил во мне образ старика, о котором я думал, что мне, наконец, показалось, что я его вижу перед глазами… Науке известны подобные «метастазы» – перестановления ощущений. Прекрасно; но сила, способная производить такие действия, все-таки оставалась чем-то удивительным и таинственным. «Что ни говори, – думал я, – я видел, своими глазами видел покойного моего гувернера!»
На следующий день происходил бал в дворянском собрании. Отец Софи заехал ко мне и напомнил мне приглашение, которое я сделал его дочери. В десятом часу вечера я уже стоял рядом с нею посреди залы, освещенной множеством медных ламп, и готовился выделывать немудреные па французской кадрили под громогласные завывания военного оркестра. Народу съехалось пропасть; особенно много было дам, и прехорошеньких; но пальма первенства между ними непременно осталась бы за моей дамой, если бы не несколько странный, несколько даже дикий ее взор. Я заметил, что она очень редко мигала; несомненное выражение искренности в ее глазах не выкупало того, что в них было необычного. Но сложена она была прелестно и двигалась грациозно, хоть и застенчиво. Когда она вальсировала и, немного перегнув назад свой стан, наклоняла тонкую шею к правому плечу, как бы желая отдалиться от своего танцора, ничего более трогательно-молодого и чистого нельзя было себе представить. Она была вся в белом, с бирюзовым крестиком на черной ленточке.
Я пригласил ее на мазурку и постарался разговорить ее. Но она отвечала мало и неохотно, а слушала внимательно, с тем же выражением задумчивого изумления, которое поразило меня в первое мое свидание с нею. Никакой тени кокетства в ее лета, с ее наружностию, и отсутствие улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные в глаза собеседника, – эти глаза, которые в то же время как будто видят что-то другое, чем-то другим озабочены… Что за странное существо! Не зная, наконец, чем расшевелить ее, я вздумал рассказать ей мое вчерашнее приключение.
1
… в губернском городе Т… – Место действия рассказа условно. Реальный случай, послуживший основой сюжета произведения, очевидно, произошел в Орле. Однако Тургенев, после некоторого колебания, обозначил как место действия город Т… и «С…кую губернию, находящуюся, как известно, рядом с губернией Т…ской» (с. 152), т. е. Тамбов и граничившую с Тамбовской (смежной также с Орловской) губернией Саратовскую губернию (см. выше творческую историю произведения – наст. том, с. 468).
2
По духу, батюшка, по духу! – Эти и другие слова Мастридии, тайна, которой сопровождается посещение ее дома, а также некоторые речи Василия дали основание Н. Л. Бродскому считать Мастридию, все ее окружение, а в конечном счете и Софью Владимировну Б. – сектантами (см.: Бродский Н. Л. И. С. Тургенев и русские сектанты. М., 1922, с. 25–38).
3
… я остановился, наконец, на ~ французе, бывшем моем гувернере. – Тургенев дважды до «Странной истории» и еще один раз после написания этого рассказа пытался создать образ гувернера эмигранта Дессёра. В списке действующих лиц не дошедшей до нас пьесы «Компаньонка» (1850) значится «M-r Dessert, бывший учитель Званова – 60 лет». Присутствует это лицо и в плане романа «Два поколения» (1852–1853). Здесь оно зафиксировано как «M-r Dessert, 60 лет, француз, бывший гувернер Д<митрия Петровича>». С. Т. Аксаков, читавший впоследствии уничтоженный текст романа «Два поколения», утверждал, что француз – лучший образ среди наиболее удачных второстепенных лиц произведения (см. его письмо Тургеневу от 4 августа 1853 г. – Рус Обозр, 1894, № 10, с. 482), В 1881 г. Тургенев включил в перечень лиц рассказа «Учителя и гувернеры», который по его замыслу должен был войти в задуманный им цикл «Отрывки из воспоминаний – своих и чужих», персонаж: «Дессёр старик. – Эмигрант».