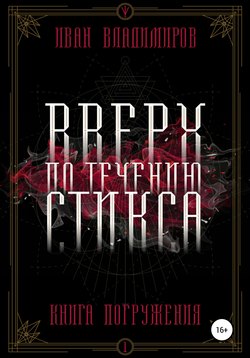Читать книгу Вверх по течению Стикса. Книга погружения - Иван Владимиров - Страница 1
ОглавлениеВещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли…
Я стою у тонкой иглы света, бьющего строго в зенит. Его хрупкость обманчива. Его мощь бесконечна. Стоит задержать взгляд, как он разрастается в гремящий поток белого ослепительного огня, кроме которого нет уже ничего. Мне осталось сделать шаг и исчезнуть в нем, и я шепчу свое заклинание, боясь потерять хоть слог: «Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли…». Так получилось, что эти слова – код, мои начало и конец, крошечное зерно смысла, взросшее и преумноженное во мне. Я постараюсь не возвращаться к ним слишком часто, но вся эта книга, в сущности, – порхание мотылька, вновь и вновь подлетающего к одной и той же теме, то притягиваясь, то пугаясь ее гипнотического света. Света, укрытого тьмой.
Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли.
Я закрываю глаза и пытаюсь найти понятный образ для этих шести слов. Почему-то воображение мое уносится на десятилетия назад, и я вдруг вижу уездный город, утопающий в зелени и пыли.
Сквозь этот город, сквозь не по-весеннему знойный полдень, на который указывают все восемь стрелок колокольни Троицкого собора, с торопливостью, которую вполне можно было принять за бестактность, спешит человек. Правой рукой он придерживает на бегу шляпу, словно заранее приветствуя и извиняясь перед всеми знакомыми, встреченными на пути. Движения его несколько комичны: могло показаться, что человек несет под шляпой стакан воды, боясь ее расплескать. В каком-то роде, все действительно так и было.
Дело в том, что некоторое время назад, проходя мимо того самого собора, человек почувствовал удар. Будто сорвавшись с позолоченного шпиля колокольни, в ум преподавателя арифметики и геометрии калужского уездного училища Константина Циолковского врезалась идея исследования мировых пространств реактивными приборами. Это был ослепительный миг, яркость и мощь которого он осознал лишь по его прошествии, словно идея была разорвавшимся метеоритом, изучать который теперь можно было лишь по следу на небе и кратеру на земле. И сейчас он спешил поскорее перенести эту вспышку в слова и цифры, пока она не угасла насовсем.
Для описания этого короткого мига абсолютной ясности Циолковскому потребовались тысячи слов и остаток жизни. Эти тысячи слов были потом многократно уточнены и умножены, и тысячи других жизней были прожиты ради создания ракет, но даже столетие спустя созданные с помощью этих слов вещи не всегда воплощают вложенный замысел.
Мне семь лет. Любопытными детскими глазами я слежу за прямым эфиром запуска ракеты. Она отрывается от земли, но ее траектория эманирует какую-то скрытую тревогу, о которую вдруг разбивается бравурный тон диктора. «Кажется… что-то идет не так…» Голос Владимира Абдель Салям Шахбаза дрожит. Ракета кренится набок, и в следующую секунду экран поглощает пламя. Созданная людьми огромная сложная вещь за несколько секунд превращается в дым и мем.
Что-то произошло со мной в этот момент. Что-то сдвинулось в голове. Я обнаружил, что мир словно бы идет по некой траектории всеобщих ожиданий. Иногда она дает сбой, обнажая всю хрупкость наших чаяний и приоткрывая бескрайнее пространство бессилия. Но мы ловко от него отворачиваемся и с преувеличенным вниманием следим за серебряным переливом рельс, по которым катит поезд нашей жизни. «Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками российской навигационной системы «Глонасс» на борту», – почти безэмоционально сообщает Абдель Салям Шахбаз, будто черные клубы дыма были изначально запланированы в сетке вещания. Но молчание, казалось, сделало бы эти вихри копоти еще чернее, поэтому диктор продолжает монотонно накладывать макияж из слов на эфир катастрофы. И что-то вновь екнуло во мне из-за этой тщетной попытки прикрыть наготу жизни, что-то промелькнуло тогда на экране, сочащемся огнем. Незнакомый голос позвал меня оттуда и произнес в моей голове: «Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли…»
Скорее всего, никаких слов никто не говорил и я придумал их уже потом, когда сам стал говорить этим чужим приглушенным голосом. Но их горячее эхо я различаю до сих пор.
**
Впрочем, может быть, я действительно расслышал тогда этот голос – как знать? Не все ли равно, каким ключом я отпер невидимую дверь в область, обычно избегающую человека. Куда важнее то, что именно за пространство открылось мне в дверной щели.
Я не случайно вспомнил пророка космической эры. Циолковский был не просто холодным умом, искавшим постижения необитаемых сфер в пределах чистой философии, но человеком, составившим практическую смету их будущего освоения (в общем-то, русский космизм и отличает такой утилитарный подход к решению сверхчеловеческих задач). Чем-то похожим занимался и я, тоже пытаясь попасть в пространство, недоступное человеку, – с той лишь разницей, что этот космос существовал не снаружи, а внутри него. Я говорю о смерти.
Звенья моей жизни смыкались так, что я стал нейрофизиологом, изучающим околосмертное состояние мозга. Выбор профессии был не столько следствием детского откровения (да и помнил ли я о нем?), сколько естественной оправой моей натуры, всегда, почти до безрассудства, стремившейся быть первой. Строго говоря, для науки все неизведанное есть космос, и она всегда стремится разглядеть, что за его краем, будь то рождение звезды или угасание человека. Однако даже в первом оно продвинулось дальше, чем во втором, и сегодня чернота космоса не столь плотна, как чернота смерти. Не это ли высший вызов для ученого?
Но что мы знаем о смерти? Далеко ли шагнули в ее понимании?
Да, мы смахнули со смерти флер сакральности. Даже средний обыватель способен сегодня объяснить естественными причинами старые суеверия вроде роста ногтей у мертвых. Человек с более широким кругозором может знать и о том, что эффект тоннеля во время клинической смерти вызван высоким уровнем углекислоты в крови. Но что же более? Даже сама клиническая смерть – термин, которому лишь несколько десятков лет. Мы совсем недавно нащупали эту переходную область – и ведем наступление на нее со всех сторон. Нам кажется, что мы продвинулись далеко вперед: совсем недавно смерть была грозным безудержным духом, жнецом, под чьим черным серпом безропотно склонялись колосья, или волчьей опричной стаей, без стука вваливавшейся в любой дом, разоряя его по своему произволу, а сегодня смерть больше похожа на террориста, захватившего Вавилонскую башню: враг силен, но здание оцеплено по периметру, лучшие умы думают о способах его нейтрализации, каждый его слабый шаг сужает кольцо вокруг.
Но такое давление не проходит даром. Быстро счистив шелуху, мы обнаружили твердую сердцевину, безупречный черный монолит, нечувствительный к воздействию извне. И чем больше человечество обживает околосмертные области, тем яснее ему становится недосягаемость того, что лежит внутри ее пределов.
Если продолжить сравнение, начатое двумя абзацами выше, то нетрудно заметить, что исследователь смерти заведомо проигрывает исследователю космоса. Космос – это открытая система, кокетливо позволяющая изучать себя, а смерть – это что-то вроде массивной черной дыры, поглощающей все, что приближается к ней на небезопасное расстояние. Представьте, что если бы каждый запуск ракеты с исследовательской аппаратурой был обречен на катастрофу, и наши знания о космосе равнялись бы лишь каталогу причин аварий? Но именно таков горизонт возможностей у каждого ученого, изучающего смерть.
Да и можно ли нас назвать исследователями? Все-таки этот статус обязывает к стремлению понять предмет своих изысканий. Вот только часто ли мы слышим словосочетание «понимание смерти»? В десяти случаях из десяти там, где оно было бы уместно, мы услышим нечто совсем иное: борьба со смертью.
Я хотел изменить этот подход.
В искусстве, пытающемся поднимать философские вопросы, есть один блуждающий сюжет. В ходе внезапного контакта земной и инопланетной цивилизаций человечество встает перед выбором из двух возможных реакций: агрессивной, не признающей диалога, и бесконфликтной, подразумевающей поиск путей к взаимопониманию. После того, как люди ценою многих потерь осознают бесперспективность первого пути, торжествует второй подход. Получается, что в теории мы знаем – путь ненасильственного постижения гораздо продуктивнее, а на практике – наращиваем арсенал средств для тотального уничтожения противников другого с нами порядка, к которым, несомненно, можно причислить и смерть. И поэтому нам очень не хватает посланника, который отважился бы сделать шаг в направлении неизвестности и ступить на борт ковчега, прибывшего из иного мира.
Этим посланником стал я.
**
Смерть не есть что-то чужеродное, противное нашему миру. Это не антиматерия, иначе бы после прихода смерти от человека оставалась лишь благостная пустота, но нет – как справедливо заметил тот же Циолковский, тело, пересекающее границу жизни, физически, как сумма атомов, в этот миг остается неизменно, лишь со временем распадаясь, растворяясь, раздавая себя другим. Однако же, если такая настройка оптики давала калужскому мечтателю повод радостно возвестить: «Смерти нет!», то я, чуть сместив фокус, возражу ему: смерть все-таки есть.
Смерть – это некий предел, новое состояние существа. Она словно вшита в нас, как вшиты рост, половое созревание, размножение, старение. И организм хранит в себе знание об этой последней стадии онтогенеза, иначе вокруг чего он бы выстроил охранную сигнализацию из инстинктов? Или, если быть точнее, всю нервную систему? В самом деле, с того первородного момента, когда жизнь отделилась от нежизни и больше не захотела в нее возвращаться, она конструировала и совершенствовала способности предупреждать и избегать смерть. Весь огромный клубок нервных клеток, включая и те, которыми вы сейчас читаете эти слова – это эволюционный нарост вокруг бесконечно малой черной точки, именуемой смертью. И проблема познания смерти в том, что наше собранное из праха тело знает о двух способах существования – живом и мертвом, а наше сознание – только о живом. Поэтому задача познания смерти решения не имеет. Или почти не имеет.
Муравьи, как и многие люди, хоронят своих сородичей на третий день смерти на специальном кладбище. Сигналом для погребальной церемонии служит запах олеиновой кислоты, который начинает источать мертвое муравьиное тело. Но если капнуть этой кислотой на живого муравья, то произойдет удивительная вещь: вполне активного муравья потащат на кладбище, и более того, если это некому будет сделать, он сам отползет на кладбище и будет лежать там, пока кислота не испарится. Однако, и гораздо более сложно устроенный человек порой ведет себя так же, полагая мнимую смерть овеществленной величиной. Существует так называемый синдром Котара, при котором больной считает, что уже умер, разлагается и бытие его давно прекращено. Сознание его опрокинуто в шизофренический крен, но его отчеты о стадиях умирания медицински точны даже у людей без образования. Откуда же мы знаем, что с нами происходит после смерти, если не пересекали ее предел ранее? Учимся ли мы у чужой смерти или держим ее образы в памяти? И что будет, если сделать наоборот: здоровое сознание поместить в некую искусственную среду, имитирующую смерть?
Проблема конструирования такой среды и была сферой моих научных интересов.
Я не буду утруждать скучным описанием медицинских и технических принципов, которые помогли мне достичь цели. Просто долгие годы шаг за шагом, ошибка за ошибкой, открытие за открытием я изобретал способ доставки человека за пределы мироздания, которые лежат отнюдь не в космосе, а в самом человеке. В чем-то мне помогли прорывы последних лет в изучении мозга, в чем-то – гипотезы, известные давно, но проверить которые на практике стало возможно лишь сегодня. Мне посчастливилось собрать команду фанатиков, одержимых жаждой грандиозных открытий. Мы готовы были неделями спать в нашем институте (а иногда так и было), готовы были лететь на другой континент ради того, чтобы первыми достать прорывные новинки медицинского оборудования, готовы были отказаться от семей (я так и не завел ее, к примеру – говорю это сейчас с сожалением) и жить без денег. По счастью, и с деньгами у нас не было проблем – спасибо спонсорам. Десять лет мы конструировали ракету для запуска человека в его внутренний космос, и, наконец, пришло время проверить, не зря ли мы прожили эти годы.
*
Итак, как и было сказано, вещь тяжелее слова, слово тяжелее мысли.
Для того, чтобы выйти в открытый космос смерти, не нужен весь человек. Нужно лишь его сознание. Весь наш космодром и центр управления полетом помещался в операционном боксе – чистом, белом и ультратехнологичном – как и все наши устремления. А они были в следующем.
Человеческое сознание не является какой-то точкой, расположенной в мозге, как считалось когда-то давно. Оно является сетью, разветвленным контуром, по которому блуждают волны активности. На гребне этой волны и находится то, что можно назвать нашим «я», но есть обстоятельство, мешающее найти этого серфера. Дело в том, что эти волны больше похожи на беспрерывные вспышки молний. На вспышки молний по всей Земле сразу, прокрученные в ускоренном воспроизведении, чтобы было понятно, о какой интенсивности идет речь. Поэтому наше «я» есть везде и нигде одновременно. Но в то же время оно многослойно и похоже на бутерброд из различных ролей и функций, работающих не во всем мозге сразу, а лишь в его частях.
Для нашего эксперимента важно было выявить некое исследовательское «я». Безусловно, это было сложно сделать, но за несколько лет мы добились успеха. Уже достаточно давно был создан так называемый атлас мозга: сложная компьютерная модель, описывающая или имитирующая все нервные клетки некоего усредненного человеческого мозга во всем многообразии их связей. Мы же были первой исследовательской группой, разработавшей персональный атлас. Для этого нам понадобилось несколько лет и вычислительные мощности настоящего центра управления полетами.
Этот атлас был слепком с моего мозга. Последний месяц его сканирования я провел лежа в кровати, точнее, в мобильной части электронного операционного подиума. Не по причине побочных эффектов – их, слава богу, не было – а из-за необходимости полного покоя, информационной стерильности вокруг. Требовалась предельно полная синхронизация мозга и его модели, поэтому создание новых нейронных связей нужно было минимизировать. По этой причине большую часть этого периода я провел в тестах разных фаз искусственного сна. Это была, наверно, самая лучшая часть исследования, но были и не столь приятные.
Весь этот месяц, помимо нейродатчиков, к которым я давно уже привык, к моей гладко эпилированной голове была надежно присоединена небольшая черная коробочка, делавшая меня до комизма похожим на ортодоксального иудея с тфилином на лбу. Разница была лишь в нескольких моментах. Во-первых, крепилась она не ремнями к подбородку, а непосредственно фиксировалась на предварительно микротрепанированном черепе. Во-вторых, внутри нее были не отрывки Торы, а микроскопический 3D-принтер, день изо дня враставший в мой мозг миллионами тончайших, толщиной с аксон, нитей органического полупроводника. В-третьих, связан он был не с Богом, как мне хотелось бы в глубине души, а с внешним интерфейсом, синхронизировавшим направление роста нитей с атласом мозга. Эти нити тянулись к тем участкам, которые были активны у моего исследовательского «я». Целью их было обеспечение автономной работы этих участков во время предстоящей операции. Хотя правильнее было бы сказать не «операция» (хирургическое вмешательство ограничивалось проделыванием микроотверстий в черепе и креплением принтера, о котором я уже говорил), а «эксперимент». Самый смелый, на грани безумия, эксперимент в истории человечества. Или, если все-таки быть скромнее, в истории моей жизни.
Идея его, собственно, была такова. После контрольной синхронизации мозга и атласа следовала отладка взаимодействия вживленной в меня сети и связанными с ней участками мозга (мы называли их «гарантированными», что послужило поводом для уймы шуток в нашей группе). Затем, когда контур связи с атласом, который управлялся по внешнему интерфейсу, был готов, наступала завершающая часть эксперимента. Мое тело должны были охладить до 33 oC и ввести с помощью анестетиков в искусственную кому. Предельное замедление метаболизма должно было касаться всего мозга за исключением участков, защищенных пророщенной сетью, которая молекулярно подпитывала вверенные ей клетки. Я должен был стать Трехглазкой из сказки про Крошечку-Хаврошечку – проследить позабытым, но не уснувшим (так и хочется сказать «не усопшим») глазом, как же все-таки Крошечка-Хаврошечка пролезает в одно коровье ушко и выходит из другого – и ненадолго поймать ее где-то посередине. Для этого нужно было обмануть тело. С помощью второй ветки сети, входившей в свод черепа за левым ухом, и нейродатчиков снаружи мы перехватывали и подменяли сигналы: вместо данных о коме в нервную систему поступало тревожное предупреждение об отказе органов и начавшемся некрозе тканей. Все, что мне оставалось потом – пережить свою псевдосмерть или, точнее, посмотреть бодрствующей частью мозга захватывающее представление о смерти, которое, как мы верили, помещено в каждую клетку любого живого организма на земле.
Долгие дни подготовки выстроились в протяженную потерну, разделенную тяжелыми дверьми, к которым требовалось последовательно подобрать ключи. Мы тестировали сеть и полный нейроконтур на сопротивление различным экстремумам, риски которых нужно было свести к нулю. Несколько раз мне даже полностью выключали «гарантированные участки», и я подолгу лежал, беспомощно утеряв некий внутренний ход жизни, сущность которого моментально исчезала из оперативной памяти. Это был не самый приятный личный опыт, но чем ближе был решающий день, тем больше мне хотелось, чтобы что-нибудь замкнуло у меня в голове, и я бы остался лежать в вегетативной простоте, обессмысленный, обездвиженный, захлебывающийся шумом крови в ушах – но живой. Тем с большей радостью я плюхался в искусственные сны, основным мотивом которых неизменно был бег, но эта радость закончилась, когда коллеги смогли отделить меня и во сне, где с тех пор поселился бесстрастный наблюдатель, изучающий свои сновидения, точнее, бывшие свои сновидения, ставшие чужими и местами слегка пугающими. Мое сознание, словно Дворцовый мост, медленно расходилось на две самостоятельные части, между которыми становилась видна морщинистая бездонная чернота внизу, пугающая своим голодным чмокающим плеском.
Наконец настал момент в нее прыгнуть.
*
Это был обычный, ничем не выдающийся день: без примет, знамений и даже, кажется, без солнца за окном. Это был просто день, когда все оказалось готово: операционная, оборудование, команда, я. А также, признаюсь, мое завещание.
Мы перекидываемся с ребятами парой ободрительных шуток, и они катят мобильный алтарь с жертвой богу науки в наш электронный храм. Щелчок, еще щелчок. Подиум готов. Я приподнимаю голову и помещаю ее в фиксатор, похожий на советский аппарат Илизарова. Несмотря на ужасающий внешний вид, внутри он достаточно комфортный. Датчики. Датчики приятно прохладные. Они передают мне какой-то медицинский гипнотический покой сами по себе, даже не будучи приведены в рабочую готовность. Едва заметный импульс во лбу дает знать об активации сети. По всему серебристому костюму, контролирующий температуру тела, тоже проходит чуть сдавливающая волна. Вот и все.
Коллеги обступают меня полукругом и глядят с нежностью и заботой. Я смотрю на их улыбающиеся лица, и мне хочется их обнять. Господи, ребята, как я вас люблю! Гена, Алик, Наташа, Саркис! Тимур, Таня, Леша! Я хочу им сказать «Поехали!», но уже не могу. Поднимаю большой палец правой руки и слегка трясу ей. Ребята кивают и расходятся по местам. Мои глаза закрываются. Сердцу становится холодно, словно в него входит игла. Голова начинает кружиться, и я превращаюсь в черную пластинку, нарезающую круги под ледяным острием. Что ж, послушаем, что споет нам тьма, из которой и сделан диск.
Вспышка. Затмение. Забытье.
Я очнулся через миг от какого-то рассредоточенного удара, словно от вхождения в воду после затяжного прыжка с вышки. Меня тут же скрутило студенистыми судорогами, как если бы я нырнул прямо в лагуну, полную медуз. Точнее было бы сказать, не в лагуну, а в водоворот, потому что я чувствовал вокруг себя увлекающее кружение, которое сдавливало и жгло. Но очень скоро я понял, что в его потоке можно было серфить, надо было лишь подобрать соответствующую скорость и следить за электрическими вспышками вблизи. Мне бы даже начал нравиться этот головокружительный слалом, если бы не пугало то, как неумолимо меня засасывает в невидимую воронку. Она все более ощутимо приближалась, колебля мое шаткое равновесие. Мнимый горизонт качнулся в стороны – и в тот же момент глубокая чернота накрыла меня сверху, как шляпа – циркового кролика. Я испугался, но подавил испуг, призвав себя не поддаваться фантомным впечатлениям и оставаться невовлеченным наблюдателем.
Все исчезло. Я почувствовал, что повис в невесомости. Вокруг была мягкая бархатистая тьма, от которой исходило вселенское спокойствие. Не было ни страхов, ни волнений, внутри и снаружи меня была абсолютно одинаковая безмятежность. И абсолютная легкость. Я плыл как космический челнок, сбросивший тяжелую разгонную ступень, и этой ступенью было мое тело. Словно я был человеком, всю жизнь проработавшим рекламной ростовой куклой – и вот теперь на меня свалился нежданный отпуск, и я вдруг вспомнил, что надетые на меня тяжелые, пыльные, неповоротливые доспехи, пошитые черт знает где, не есть я. Осознание внезапно обрушившейся настоящей свободы наполняло меня такой радостью, что ничего иного ни в этой жизни и ни в этой смерти уже не хотелось. Это чувство было такой силы, что оно захлестнуло меня, стало целиком мной. Оно начало говорить через меня, воссылая благодарность богу за его безграничную милость. И бог тотчас явился мне одинокой звездой, точкой, славшей луч откуда-то из недосягаемой вечной дали. Как только появился этот ориентир, я понял, что лечу к нему – и летел до этого, и, кажется, летел всегда – с невообразимо большой скоростью. Вокруг не было ни верха, ни низа, поэтому можно было почувствовать это ускорение и как вознесение, и как падение, надо было лишь приложить различные усилия ума – примерно как с оптической иллюзией балерины, вращающейся в разные стороны. Мне подумалось, что эта двоякость ощущения – при условии, что в том или ином виде она переживается каждым умирающим – является основой человеческих представлений о посмертном воздаянии. Внутренний счетчик грехов вшит в каждого вместе с культурным кодом, и подсознательно каждый из нас знает, насколько тяжел его балласт. Именно этот вмененный нам груз и влияет на кажущееся направление полета души, являющегося на самом деле произвольным. Тут я заметил, что отвлекаюсь, и вновь вспомнил, что одним из условий успеха эксперимента была максимальная концентрация. В хаосе смерти мозг вполне могло увлечь любое переживание, превратив меня из наблюдателя в участника с непредсказуемым итогом.
Я сделал усилие и сосредоточился на мыслях. Это не было сверхсложно, мысли были видны здесь, они отлетали от меня искрами, оставляющими сложные трассирующие следы, похожие на фейерверк – с той лишь разницей, что снопы обыкновенного салюта были примитивны по сравнению с объемными арабесками мыслительных вспышек. Я сконцентрировался и погасил их.
Сияющая точка приближалась ко мне, постепенно разрастаясь до пропорции привычного в обыденной жизни солнца. Свет, исходящий от него, распространялся не вполне естественно, заставляя мерцать опоясывающую его тьму так, что была видна дисторсия окружающего пространства. Оно было свернуто в классический тоннель, множество раз описанный людьми, пережившими клиническую смерть, который вот теперь увидел и я сам. Чем ближе я становился к этому белому солнцу, тем больше переливался игрой света трубчатый свод вокруг. Лучи скользили по нему, искривляясь и меняя скорость, как капли дождя на лобовом стекле мчащегося автомобиля. Тоннель пульсировал вбираемым им светом, и на это мелькание, сопровождавшееся растущим гудением, было уже больно смотреть. Так бывает, когда проезжаешь утром мимо какого-нибудь перелеска, и низкое солнце бьет по глазам огнестрельной очередью своих лучей сквозь мелькающие стволы и ветви. Я попытался зажмуриться и… влетел в этот перелесок.
Розоватое, набирающее рост солнце поливало огнем убегающие посадки за прямоугольником окна в массивной лакированной раме, наполняя веселой и яростной дробью света пустой отсек вагона – старого, советского, обогретого уютом детских воспоминаний. Когда-то давно такие вагоны возили меня к морю, вынимая почти на три дня из привычной, как бы одномерной реальности в реальность другую: протяженную, живую, ежеминутно меняющую свое содержимое перед взором маленького наблюдателя. Позабытые запахи, звуки, детали обрушились на меня сладкой ностальгической гаммой, в которой, правда, все-таки не хватало одной ноты – того самого ощущения беспричинного счастья, свойственного лишь детству.
Я посмотрел в вагонное окно и вдруг вспомнил, как раньше жадно впитывал в себя пролетающие пейзажи и города, потому что мог туда попасть, точнее, не знал, что не могу – в отличие от себя взрослого, безразличного к мелькающим видам, знающего, что вряд ли судьба сложится так, что ей придется переплестись с жизнью, пролегающей за окном. В детстве же каждая станция с длительной стоянкой, на которой я с родителями выходил размяться, была новым миром, слегка приоткрывающим себя и приглашающим стать его обладателем. Как-то на одной из таких привокзальных площадей я позабыл солдатика, и затем весь день думал о его судьбе, о том, что с ним стало и в чьи руки он мог попасть. Я придумал ему целую жизнь, сделав его своим маленьким послом, который теперь связывал меня с исчезнувшим городом, глядевшим навсегда изумленными окнами старого вокзала на проходящие перед ним поезда.
Мне захотелось встать и осмотреть вагон. Он оказался пуст. Тогда мне пришла в голову мысль разыскать мчащий его локомотив. По-моряцки расставив ноги (вагон заметно покачивало), я пошел в направлении головы поезда.
В тамбуре также никого не было, лишь шум колесного хода оказался предсказуемо громче. Шум был слегка странным – чуть более музыкальным, чем ему полагалось быть. Плотная джазовая партия ударных маскировала глубокие как горное озеро басовые ноты, которые исчезали, едва внимание теряло концентрацию. Я открыл дверь в межвагонный переход, и вот уже здесь музыка была чистой и явной.
Никогда мне не приходилось слышать что-то подобное.
Пение полотна, поднимающееся от земли, было растянутой модуляцией совершенно реликтового звука, умещавшего в себе всего одну ноту или даже гул и ангельское хоровое исполнение. Если Одиссей действительно слышал сирен, то они могли увлечь его лишь таким сладкозвучием. Музыка сверкающих рельс звенела абсолютной силой. Через секунду я понял, в чем она.
Когда-то в детстве мне попалось одно старое видео, клип каких-то передовиков электроники из прошлого. Вопреки тогдашнему канону жанра, ничего эпатажного в клипе не было, перед зрителем просто мелькал вид из окна движущегося поезда. Все было обыденно: столбы, провода, насыпи, семафоры. Но что-то необъяснимо приковывало внимание в этом видеоряде, некий подвох, который улавливался лишь спустя минуту или полторы. Дело в том, что типичный железнодорожный пейзаж был тщательно воссоздан с помощью компьютерной графики, причем сделано это было таким образом, что мелькание столбов и вагонов за окном точно соответствовало инструментовке звучащего трека. Музыка диктовала, сколько опор под мостом промелькнет сейчас, а сколько – через миг, и что будет за ними – заводские трубы или чахленькие кусты. И мне показалось, что тот поезд, в котором ехал я, тоже был порождением звучащей музыки. Дорога под ним, словно во сне, петляла с неестественной частотой, заставляя невидимый хор переливаться новыми нотами, выше и ниже. Железной громаде поезда оставалось лишь виться змеей в стремлении не отставать от этого древнего гула, который я уже, кажется, когда-то слышал… я слышал и вспомнил, что слышал и вспомнил, что слышал и вспомнил…
Дурная бесконечность придавила мое сознание. Я застрял в звуке рельс, тщетно пытаясь выдернуть себя из бешено бьющей дроби, рассыпавшей меня на фрагменты, которые приходилось собирать в разметавшем их гуле. Я вспомнил, что этот гул был эхом света в тоннеле, по которому я летел, потому что умер, или хотел умереть, или хотел о чем-то спросить у смерти, но теперь позабыл о чем, потому что отвлекся на громыхающий морок, несущийся сейчас по моему угасающему сознанию под откос или в какую-то бездонную пропасть, до которой расстояние длиной всего в одну песню, которую нужно теперь петь, петь и петь, не отвлекаясь ни на что – и поэтому я останусь здесь навсегда. А ведь я был кем-то – ученым… или маленьким мальчиком… но уже не было никакой возможности сосредоточиться и вспомнить. Мысли отпрыгивали от меня, исчезая со скоростью смерти, мир шарахался из стороны в сторону, не позволяя ухватить его. Стало так страшно и одиноко, что этого страха и одиночества хватило бы на целую новую жизнь. Мне захотелось помолиться или хоть как-то обратить на себя внимание бога, но я позабыл и молитвы, и вообще слова, прорастая внутри немотой. И тогда я почувствовал, как что-то приближается ко мне из глубины поезда. Что-то, не имеющее знак плюс или минус, а являющееся просто силой, способной влиять на человеческие судьбы. Вдруг я на секунду пришел в себя, выпал из оцепенения и выскочил, с лязгом захлопнув дверь, обратно в тамбур, а из него – в пассажирскую часть вагона.
Там по-прежнему светило солнце и было тихо. Золотистая пыль плыла и падала в негасимых лучах вечности, льющейся из окна. Я по-прежнему чувствовал себя потерянным, но теперь у этой потерянности был привкус сиротства, малолетней незначимости и детского повиновения большому миру. Поэтому я просто уселся на сиденье и впустил в себя окружающий покой и безмятежность. Память возвращалась ко мне, но теперь она будто намагничивалась на новый стержень. Я будто бы был ребенком, которому рассказывают, что его ждет впереди – вот, наверно, самое подходящее описание моего состояния тогда. Постепенно смятение внутри меня разгладилось и сразу позабылось, уступив место радостному спокойствию. Капля за каплей я наполнялся ощущением чего-то хорошего впереди, и когда в конце вагона открылась дверь, я уже не боялся ничего, что могло быть за ней.
В вагонном проходе появился человек. По виду из той исчезнувшей торгово-железнодорожной касты людей, что в мужской ипостаси продавали сканворды и лающих собачек, а в женской – пуховые платки. Он плавно приближался ко мне, точно не шел, а плыл на прозрачном плоту. На плече у него была сумка, довольно тяжелая с виду. Поравнявшись с моим отсеком, человек сбросил сумку и сел напротив.
Самым странным было в нем то, что ничего нельзя было сказать о его внешности. То есть совершенно точно у него было лицо, но его черты не подчинялись моей памяти, распадаясь на полпути к ней. Я как будто успевал забыть их прежде, чем они достигали моего сознания. Единственное, что мне удалось уловить – это посланная улыбка. Движения губ я не видел, но внутри меня возник эмоциональный отклик именно такой амплитуды, как если бы мне искренне улыбнулись.
Человек расстегнул сумку и принялся раскладывать ее содержимое на столе. Оказалось, что он нес игрушки. Ими очень скоро был уставлен весь стол. Машина, пистолет, неестественно живая барби с влажными глазами, детские карты, детское лото, набор юного доктора, резиновая уточка, восьмицветная ручка и даже солдатик – по виду тот самый, утерянный мной. Не помню как, но я понял, что мне нужно выбрать одну игрушку. Выбор должен был идти от сердца, «куда рука сама потянется», как говорили мне в детстве. Я почти схватил солдатика, но вдруг рука передумала и, словно нащупав настоящие нити наития, потянулась в иную сторону. Пальцы опустились на сетку, внутри которой лежала детская пирамидка – маковка, стержень, колечки. Она не будила во мне никаких воспоминаний, но было в ней что-то подсознательно притягательное для меня. Небольшая странность – игрушка была разобрана, хотя была новой (упаковочная сетка была целой, верх ее перехватывал нетронутый зажим). Я погладил ее. Игрушка ответила мне теплом. Она была похожа на птицу в клетке, точнее, в силках, глупых непрочных силках, из которых, тем не менее, она не могла сама выбраться. Для этого нужно было собрать ее, и вот тогда… Что будет тогда, я затруднялся ответить, но я чувствовал, что нужно собрать эту пирамидку, что в ней заключен весь смысл нашей тесной вселенной с ее разъезжающимися вкривь и вкось мирами. Откуда у меня возникла такая мысль, я не понял, но мне показалось, что ее может разъяснить человек, сидящий напротив. Я посмотрел на него, но он лишь одобрительно кивнул моему выбору, одним движением руки ссыпал, словно крошки, то, что осталось на столе, обратно в сумку, накинул ее и направился к выходу. Я попытался его догнать. Но сколько ни прикладывал я усилий, человек удалялся, плавно скользя сквозь расступающуюся тишину. Вагон словно растягивался в телескопический тоннель, колено за коленом следуя за ним, пока не стал тонкой трубкой, послушно перегоняющей незнакомца, словно шарик ртути. Трубку начало мотать, а я все пытался пролезть сквозь ее игольное ушко. Не помню как, но я дополз до тамбура, который теперь наполняло злое металлическое гудение. Стальная дрожь колотила вагон все сильнее, ручка следующей двери нервно тряслась. Я дернул ее – и меня сбило с ног звуковой волной, впечатав в стену. В следующую секунду, долгую, как ожидание казни, я услышал низкий трубный звук и многоголосый скрежет.
Поезд выгнулся на дыбы, словно от удара, и удавом обжал меня. Металл свихнуло в огромный клубок со мной в сердцевине. Я почувствовал, как потяжелел на целую вселенную, которая тут же начала меня со свистом утягивать куда-то вглубь. Где-то вдалеке ударил колокол, но звон его был странный, как если бы он был сделан из длинного ноя воздушной тревоги. Звук был страшно растянут: сначала по мне словно прошлось предчувствие этого удара, затем нарастающей волной накатился сам звук, от которого мне стало тесно в себе самом – и в следующий миг меня припечатала к земле свинцовая нота. Стало тихо, но я чувствовал, как в этой тишине копится новый звук, словно молния в туче. Разряд. Еще разряд. Мне будто вколачивали душу обратно в грудь огромным молотом. Я наливался болью и тяжестью, с каждым толчком отнимавшими у меня свет или подменявшими его на что-то другое – скорее всего, просто на самих себя.
Когда свет окончательно померк, меня на какое-то время просто не стало.
**
Возвращение в себя было долгим и мучительным. Я ненадолго приходил в сознание (уместнее было бы сказать – приползал), а затем вновь надолго отключался. Забытье походило на шум моря, сквозь который я пытался уловить знакомую мелодию жизни, но каждая новая волна беспамятства смывала нотные знаки, которые я успевал написать на песке. Иногда я чувствовал легкий зуд в голове – команда пыталась помочь мне импульсами по нейросети, и со временем это подействовало. Я открыл глаза и тут же зажмурился от резкого, какого-то химического света. К нему пришлось привыкнуть. Вроде бы наша операционная осталась прежней, но ее белоснежность теперь приобрела для меня какой-то едкий оттенок. Ко всему прочему, мне никак не удавалось вернуть четкость зрения – картинка плыла и двоилась, и это раздражало. Мне вообще было очень неуютно, я чувствовал себя человеком, вытащенным из-подо льда, беспомощно лежащим теперь в мокрой тяжелой одежде на холодном снегу с головой, разбитой о полынью.
Так прошло, наверное, около часа, и лишь спустя это время я смог почувствовать себя чуть более комфортно.
По телу мягко растекалось тепло. Вскоре к нему добавилась тонкая вибрация мышц – костюм включил функцию электромассажа. В меня словно вливали веселую пузырящуюся плазму, и я чувствовал себя счастливой лягушкой, вымерзающей весной изо льда, или космонавтом, после посадки заново вспоминающим свое земное происхождение.
Через четыре часа я уже чувствовал себя вполне сносно. Вся команда обступила операционный подиум, и я был настолько рад видеть эти лица, что едва не заплакал. Тимур, анестезиолог, улыбнулся и извлек невесть откуда бутылку шампанского, которая без промедления разошлась по стаканчикам коллег. Я видел, насколько они были измождены, но несмотря на это были страшно рады поднять бокалы. Отметить действительно было что – хотя бы моё возвращение. Но не только оно было причиной радости.
Если верить религиям и мифам, некронавты, успешно вернувшиеся из космоса смерти, были и до меня. Но я был первым среди них, кто вынес оттуда целый массив данных, объем которых должен был стать базой научных исследований на долгое время вперед. У нас все получилось, и это было настолько же чудесно, насколько и важно. Мы заранее заготовили модели анализа, и нам не терпелось приступить к изучению моего путешествия. Кстати, оно было не таким уж и долгим – всего семь земных минут, но трудно было представить, каково было их значение для меня, для нас, для всего мира. В то же время я очень надеялся, что эти семь минут прошли без каких-либо серьёзных последствий для моего здоровья.
Да, не все прошло так, как планировалось. Оказалось, что гормональные выбросы при таких экстремальных переживаниях не позволяют сознанию оставаться безучастным наблюдателем. Ум мечется словно живая искра по задыхающемуся мозгу, освещая и анимируя на своем пути сонмы образов. Не имея контакта с реальностью, он создает ее в качестве опоры заново из подручных материалов. Можно было бы сказать, что я посмотрел самый дорогой сон в истории человечества, но только это был не вполне сон. По характеру волн и участкам активности мозга то, что я пережил и увидел, было близко не к обычному сну, а к осознанному сновидению, lucid dream, но не вполне было и им. Кажется, мы открыли некое новое состояние сознания. Кто-то из ребят в шутку назвал его «управляемой шизофренией» – так мы и называли его затем внутри группы.
Дело в том, что энергия психики в момент переживания смерти теряет привычные русла и бьет напролом, как горный поток, который и повинуется случайностям встреченного рельефа, и преображает его. От обычной шизофрении этот поток отличает две вещи. Первое – он не растворяет нормы, человек отдает отчет в нетипичности происходящего. Второе – он не конфликтует с реальностью, так как реальность выводится за скобки этого переживания.
Все это мы открыли позже, а пока моя команда тихо радовалась моему возвращению. Такие отклонения можно было бы поправить при повторном эксперименте, но мы надеялись, что с тем объемом данных, который оказался у нас на руках, в нем долго не будет необходимости.
Вскоре оказалось, что мы просчитались.
**
Уже к концу первой недели стало понятно, в чем мы фундаментально ошиблись. У нас был огромный массив информации, но сам по себе он мало что значил. Ничего нового, что не было известно о стадиях умирания прежде, в них не было. Конечно, там хватило бы материала на несколько научных статей о динамике мозга, да и сам наш эксперимент был бы сенсацией в научпопе. Но иного выхлопа, кроме разогрева интереса к теме, которая волновала нас больше всего, это не давало. Все приборы давали показания о том, что здесь. Мы не смогли самого главного – ответить на вопрос, что там?
Мои видения были восстановлены на нескольких сеансах машинного гипноза. Но выяснилось, что время внутри видений было иным, и доподлинно сказать, как они соотносятся со своим синхроном на энцефалограммах, было нельзя. У нас было много догадок, обоснованность которых почти не вызывала сомнений, но это были всего лишь гипотезы – ровно такие же, что делались и до нас людьми, не обладающими ни сверхсовременным оборудованием, ни многомиллионными бюджетами, ни огромными вычислительными мощностями.
«В космос летал, бога не видел» – эту апокрифичную фразу приписывают первому космонавту. Гигантский аппарат пропаганды такого уже далекого советского режима неимоверными усилиями построил машину из боевых сплавов и человеческих жил, начинил ее своим гражданином и запустил в небо. Человек вернулся на землю и авторитетно заявил, что на небе бога нет. И это была безоговорочная победа государства с культом агрессивного атеизма, продлившая его жизнь на несколько десятков лет. Ценность этих слов стоила затраченных усилий.
Что же касается нас… Наш некронавт (здесь рука не желает писать о себе в первом лице), запущенный во внутренний космос – также, по сути, в поисках бога, – потерял сознание во время перегрузок и по прибытии обратно лишь разводил руками перед разочарованной общественностью. Возможно, я сейчас излишне жесток к себе, но по факту все обстояло именно так.
Нам нужно было изобрести что-то еще для четкого рапорта с того света.
И мы приступили к подготовке второго сеанса смерти.
**
Вещь тяжелее слова. Слово тяжелее мысли.
Тонкий луч падает в крошечное отверстие праматери всех фотоустройств – камеры-обскуры – и, рассеиваясь, немеет полуразмытой картинкой на ее противоположной стене. Что-то похожее – пусть сначала нечеткое и трудноразборчивое, но подлинно существующее – пытались получить и мы, обступив маленькую дырочку, проделанную в непробиваемой стене, за которой была вселенная смерти.