Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества
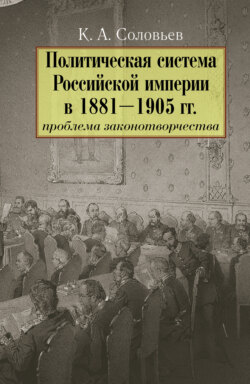
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Кирилл Соловьев. Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества
Введение
Глава первая. Понятия
Самодержавие[55]
Закон
Реформы
Глава вторая. Институты
Царь
Бюрократическая машина
Государственный совет
Труды и дни Государственной канцелярии
Комитет министров и прочие комитеты. Безвластное правительство
Министерства. Централизованная анархия
Комиссии. Искусство договариваться
Сенат. Хранитель законов
Глава третья. Практики
Законотворческий процесс
Законодательная экспертиза
Пресса и власть
Бюрократия и общественность. «Мы» и «они»
Заключение
Отрывок из книги
Март 1881 г. стал своеобразным рубежом российской истории. Это ощущали современники, это отмечают исследователи. Дипломат И.Я. Коростовец записал, «что теперь все, даже молодые, чувствуют, что со смертью государя [Александра II] они переступили какую-то грань, что теперь всякого ожидает что-то неведомое, новое…»[1] Многие в чиновничьей среде устали от предыдущего царствования, мечтали о ясности и определенности[2]. Их приводила в отчаяние «слякоть» прошлых лет. Дипломат Ф.Р. Остен-Сакен отметил в дневнике 2 марта 1881 г.: «Первый день нового царствования. Какие желания? Только одно: правды. Минувшее царствование представляется отвратительным сном. Его можно отметить только двумя словами: ложь и беспорядок»[3]. 29 апреля 1881 г. князь В.М. Голицын записал в дневнике: «Обнародован Манифест, где главная тема есть сохранение самодержавной власти. Это разрушает все конституционные грезы, так сильно смущавшие наши умы в это последнее время, внеся призраки Земских соборов.»[4] Как бы современники ни относились к предыдущему правлению, его неожиданное и драматичное окончание стало для них прыжком в неизвестность. Едва ли кто-нибудь с уверенностью мог сказать, что ожидало Россию за этим поворотом. Оставалось лишь предполагать, прогнозировать и предупреждать власти предержащие о новых перспективах и нараставших угрозах. 18 марта 1881 г. Б.Н. Чичерин писал К.П. Победоносцеву, что перед Россией открывались три пути: диктатура, если найдется фигура, равная М.Н. Муравьеву, которая при необходимости будет опираться на «темные силы»; законодательное (или, может быть, законосовещательное) представительство со всеми вытекавшими отсюда сложностями и одновременно возможностями или же обычная петербургская «размазня». Это означало бы «продолжать… нынешний порядок, при который каждый министр тянет на свою сторону и все сходятся только в одном – чтобы взапуски друг перед другом либеральничать и кувыркаться перед петербургской швалью. Это несомненно тот путь, который прямо ведет нас к погибели»[5].
1881 год так и не стал тем решительным поворотом, который ожидался в обществе. Однако он принес действительно новое: прежде всего это был отказ от животрепещущей политической повестки. Большие проекты государственного строительства отставлялись в сторону[6]. В то же самое время колесо правительственного аппарата совершало рутинные обороты в уверенности, что так будет всегда. В 1992 г. Ф. Фукуяма провозгласил «конец истории»[7]. Схожим образом ситуация виделась и многим российским бюрократам конца XIX столетия. В непрерывном течении бюрократического законотворчества усматривалось естественное состояние государственной жизни пореформенной России. Но человечество пока не знает perpetum mobile. Как писал в июле 1881 г. П.А. Валуев, «государственный механизм держится и полудействует силой инерции и импульсом старой заводки административных часов»[8]. В какой-то момент этого завода должно было не хватить.
.....
Представления о незыблемости закона в России вступали в противоречие с мифом о самодержавии, способном творить подлинные «правовые чудеса», не укладывавшиеся в голове у «заскорузлых» юристов. Царь своей волей мог нарушать прежде незыблемые правила[143]. Сам государь верил в этот миф самодержавия (впрочем, не отказываясь от идеи законности), а среди чиновничества публично оспаривать его было не принято. Председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич убеждал молодого императора Николая II, что он вправе подписать любой указ. А.А. Половцову оставалось только возмущаться: «Да где же тогда разница между монархическим и деспотическим азиатским правительством, разница, заключающаяся в том, что первое соблюдает, а второе когда угодно нарушает существующие в стране законы. Проповедовать такое учение государю, значит, вести его на путь императора Павла»[144].
Эта теория имела практическое применение. Император обладал правом издавать законы, касавшиеся частных случаев, которые шли вразрез с общими правилами[145]. Это могли быть уставы акционерных обществ или временные правила, фактически действовавшие десятилетиями. В любой губернии, уезде, городе и даже частной компании могли быть отменены нормы, применявшиеся по всей России. Некоторые сановники даже полагали, что сама идея общероссийского законодательства противоречила концепции самодержавия. Впрочем, следует иметь в виду, что и в этом случае император, принимая решение, не посовещавшись с Государственным советом, был поставлен в жесткие рамки. Все эти правовые акты – уставы или временные положения – принимались ведь не единолично царем, а после обсуждения в Комитете министров[146].
.....