Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
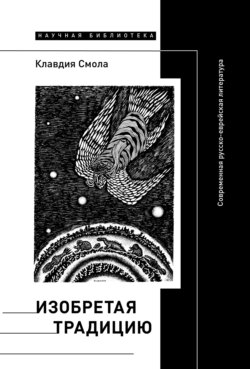
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Клавдия Смола. Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Еврейство и обновление традиции: текст и комментарий
Семантика постгуманной эпохи: современное (пере)изобретение еврейства
Культурно-семиотический контекст
Культурно-исторический контекст
Поэтика (анти)империальной (анти)ассимиляции
Часть 1. Направления исследований
НАУЧНЫЕ ТРЕНДЫ И НАУЧНЫЕ ДЕФИЦИТЫ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Монографии
Статьи и главы из книг
МЕТОД И ОГРАНИЧЕНИЯ
Над андеграундом
Смена парадигм в еврейских исследованиях
История литературы, поэтика и культурология
Выбор текстов: период и география
Часть 2. Современная русско-еврейская литература
РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК БИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ЕВРЕЙСКОЕ ДИССИДЕНТСТВО: АНДЕГРАУНД, ИСХОД И ЛИТЕРАТУРА
Советские евреи: факты, коллективные представления, мифологемы
Евреи-переводчики: литературная мимикрия
Еврейская контркультура и ее литература: обзор
Эмиграция, литературные институции и читатель
ПРОЗА ЭКСОДУСА
«Перевозбуждение памяти»: «Лестница Иакова» Эфраима Бауха
Мученичество отказа: «Герберт и Нэлли» Давида Шраера-Петрова
Мистика исхода: Эли Люксембург
«Третий храм»
«Десятый голод»
Воспитание нового еврея: «Присказка» Давида Маркиша
Романы эксодуса: поэтика и сообщение
Биполярные модели: сионистский и соцреалистический роман
ВЕКТОРЫ НОНКОНФОРМИСТСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Юз Алешковский: «Карусель»
Григорий Вольдман: «Шереметьево»
«Врата исхода нашего» Феликса Канделя и «Картины и голоса» Семена Липкина
Яков Цигельман: «Похороны Мойше Дорфера»
Юлия Шмуклер: «Последний нонешний денечек»
КОНЕЦ ДИХОТОМИИ: РАЗРУШЕННАЯ УТОПИЯ АЛИИ
Сионистские антисюжеты Эфраима Севелы
Роман-палимпсест Якова Цигельмана
МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В НОНКОНФОРМИСТСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ПЕРЕИЗОБРЕТЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Семиотика идиша и традиции еврейского (рас)сказа
Шлемили и плуты: «Легенды Инвалидной улицы» Эфраима Севелы
Старая еврейка в монологе с читателем: «Сарра и петушок» Филиппа Исаака Бермана
Идиш как цитата
ЗНАЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ КОНТРКУЛЬТУРЫ
Сионистское почвенничество: новейшие литературные проекции
Jewish Revival: возрождение еврейства
РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ КОММУНИЗМА
(Пост)мемориальная литература: палимпсесты, следы, придуманная традиция
(Пост)мемориальное еврейское повествование
Воспоминание как мания и фрагмент: «Родословная» Израиля Меттера
(Пост)мемориальная топография: «Сон об исчезнувшем Иерусалиме» Григория Кановича
Деконструкция империи
Архаический язык диктатуры: «Лестница на шкаф» Михаила Юдсона
Постколониальный mimic man: «Исповедь еврея» Александра Мелихова
Гибридная поэтика Олега Юрьева: «Полуостров Жидятин»
Постмодернистский мидраш Якова Цигельмана: «Шебсл-музыкант»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ436
Отрывок из книги
В этой книге я задаюсь вопросом: как современные еврейские литературы Восточной Европы – на примере русскоязычного культурного пространства – обращаются с еврейской традицией? Период после холокоста и десятилетий политики запрета при коммунизме ознаменовался для еврейской литературы в первую очередь потерей былого культурного контекста и живой связи с читателем. В период «постпамяти» [Hirsch 2008] главными оказываются приемы и практики, связанные, с одной стороны, с реконструкцией, с другой – с переизобретением1 прошлого. Тяга к фольклоризации и «виртуализации» [Gruber 2002] еврейства – неизбежное следствие растущей временнóй дистанции по отношению к ушедшей культуре – объясняет особую перформативность и авторефлексивность артефактов: искусство и литература сами становятся тропом, который диалектически отображает состояние традиции сегодня.
Хотя в еврейских литературах Восточной Европы наблюдаются очень разные поэтики (памяти), все они осмысляют разрыв культурной традиции в равной степени в качестве исходного пункта и чуть ли не условия своего существования: обращение к еврейству понимается или представляется как возрождение после разрушения, начало после конца. Однако невозможность «естественной» преемственности – это не только следствие исторических потрясений и катастроф, но и признак секуляризованного постмодерна2. В эпоху плюрализма взглядов на историю литература использует поэтические стратегии, демонстрирующие крах герменевтического понимания прошлого.
.....
За самоанализом Финкелькраута последовали работы о конструкта еврейской идентичности в публичных сферах, медиа, музеях, массовой культуре, а также в литературе и искусстве. Если попытаться свести итоги этих исследований к одному понятию, то окажется, что перформативность18 играет в них ключевую роль. Так, Стивен Д. Зипперштейн прослеживает, как в США 1950‐х годов изменяется восприятие жизни евреев Восточной Европы: тогда возникает светлый, непротиворечивый, подернутый ностальгическим флером образ еврейского прошлого и прежде всего уютных, печально-веселых и набожных штетлов. Этот образ стал для амбициозных и преуспевающих американских евреев знаком культурной преемственности («proof for continuity»), связывающей времена до и после катастрофы [Zipperstein 1999: 5 f., 16–39]19. Штетл предоставлял топографический миф для духовных нужд настоящего: миф канувшей в Лету идишской цивилизации – «…мифический дом, не тот, куда они (американские евреи) хотели вернуться, а тот, в существовании которого они хотели убедиться. Это был край еврейских духов и исчезнувших культур» [Aviv/Shneer 2005: 8]. В невероятной популярности всего еврейского в Европе последних трех-четырех десятилетий Рут Эллен Грубер видит тягу к альтернативной, а в Восточной Европе – часто нонконформистской самоидентификации. Еврейство стало одним из характерных элементов контркультуры, в то время как еврейская история и культура, а также сами евреи – предметом мифологизации, проистекающей из полузнания [Gruber 2002: 3–30]. Перформативная роль еврейства как универсализированного продукта чужих проекций выразилась в том, что оно являло и являет собой изменчивый, «метафорический символ», подходящий для многих трендов и явлений и долженствовавший заполнить пробелы («filling in the blank spaces») [Ibid: 9]20.
На излете коммунизма среди русских евреев было немало тех, кто стремился вернуться к тому очаровательно закольцованному, мистически-религиозному ощущению пространства и времени, которое их дедушки и бабушки отвергли в СССР первой трети XX века. В обоих случаях ими двигало, как показывают многочисленные биографические свидетельства, желание преодоления и освобождения. На смену стремлению вырваться из религиозного еврейского «мирка» в мировую историю, которое объединяло евреев в период революций 1905‐го и 1917 года [Krutikov 2001: 115–117]21, пришли разочарование, новый бунт и, наконец, реставрация 2000–2010‐х. При этом позднесоветский виток спирали коллективного поиска еврейского «я» / «мы» во многом был уже частью впитанной советской утопии.
.....