Неоконченная симфония Дарвина: Как культура формировала человеческий разум
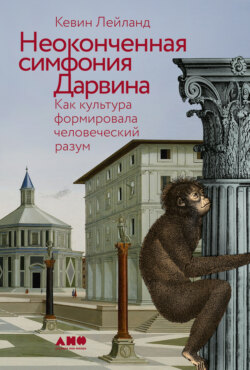
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Неоконченная симфония Дарвина: Как культура формировала человеческий разум
Введение
Часть I. Основы культуры
Глава 1. К родословной Homo Sapiens
Глава 2. Повсеместное подражание
Глава 3. Зачем подражать?
Глава 4. Повесть о двух рыбках
Глава 5. Истоки творчества
Часть II. Эволюция разума
Глава 6. Развитие умственных способностей
Глава 7. Высокая точность
Глава 8. Почему только у нас есть речь
Глава 9. Коэволюция генов и культуры
Глава 10. Заря цивилизации
Глава 11. Основы сотрудничества
Глава 12. Искусство
Эпилог. Восторг без смятения
Рекомендуем книги по теме
Литература
Отрывок из книги
Эта книга – плод коллективного труда. И хотя писал я ее один, в ней собраны и описаны результаты работы целой команды – сотрудников возглавляемой мной лаборатории и других моих коллег, с которыми мы вот уже 30 лет занимаемся гигантской научной задачей: пытаемся разобраться в эволюции культуры. Я надеюсь представить убедительное научное объяснение, как в ходе эволюции могли появиться человеческий разум, наши интеллект, язык и культура и как наш вид смог достигнуть столь невероятных высот в технологиях и искусстве. Но, кроме того, мне хотелось показать без прикрас и весь научный процесс как он есть – со всеми его пробуксовками, тупиками и фальстартами, моментами озарения и душевного подъема, взлетами и спадами, тот путь, который вел нас к открытиям. Я изложу в этой книге историю наших поисков; познакомлю вас с сотрудниками лаборатории Лейланда, бывшими и нынешними, и опишу наши попытки решить невероятно захватывающую загадку эволюционного происхождения человеческой культуры. Я не беллетрист, и, хотя старался рассказывать как можно более доступно, драматических поворотов, щекотания нервов и стремительного развития событий в моем повествовании не будет. Тем не менее, надеюсь, детективная составляющая в нем все-таки останется и читатель почувствует тот азарт, который охватывал нас, когда эксперименты и теоретические разработки приносили открытия, продвигавшие наше исследование еще на один шажок.
В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить исследователей, о работе которых я веду речь на этих страницах. Мне повезло объединить усилия с исключительно талантливыми людьми – наш проект безмерно выиграл от упорного труда, ценных идей, тщательно продуманных экспериментов и блестящих теоретических разработок множества студентов, дипломников, аспирантов и молодых специалистов, а также, конечно, сотрудников нашей лаборатории и коллег из других научных учреждений. В их числе Никола Аттон, Патрик Бейтсон, Нелтье Богерт, Роберт Бойд, Джиллиан Браун, Калум Браун, Ифке ван Берген, Джек ван Хорн, Майк Вебстер, Джефф Галеф, Стефано Гирланда, Льюис Дин, Элис Кауи, Дэниел Каунден, Ханна Кейпон, Джереми Кендал, Рейчел Кендал, Ронан Кирни, Ники Клейтон, Бекки Коу, Кэтрин Кросс, Люси Крукс, Изабель Кулен, Йохен Кумм, Роб Лаклан, Тим Лилликрап, Ханна Льюис, Шон Майлз, Том Макдональд, Анна Маркула, Алекс Месуди, Том Морган, Ана Наваррете, Майк О'Брайен, Джон Одлинг-Сми, Том Пайк, Генри Плоткин, Люк Ренделл, Саймон Ридер, Понтус Стримлинг, Салли Стрит, Эд Стэнли, Уилл Суони, Алекс Торнтон, Игнасио де ла Торре, Бернар Тьерри, Кара Эванс, Магнус Энквист, Киммо Эрикссон, Маркус Фельдман, Лорел Фогарти, Пол Харт, Уилл Хоппитт, Стивен Шапиро, Юнас Шестранд, Эндрю Уайтен, Клайв Уилкинс, Керри Уильямс, Натали Уомини, Эшли Уорд, Эндрю Уэйлен и Лаура Шуинар-Тули. Во всем, что касается вклада этой книги в научное понимание культурно-эволюционной проблематики, заслуга всех поименованных такая же, как и моя собственная.
.....
Пожалуй, область, в которой лучше всего наблюдается качественная разница между умственными способностями человека и других приматов, – коммуникация. У животных она представлена разными по типу знаками, касающимися выживания (тревожные сигналы, предупреждающие о приближении хищника, и т. д.), брачных игр и спаривания (набухание половой кожи у обезьян некоторых видов), а также прочими социальными оповещениями (например, демонстрацией доминирования){108}. У каждого из таких сигналов очень четкое значение, и они, как правило, относятся к текущим, сиюминутным обстоятельствам. Человеку же язык позволяет обмениваться идеями, касающимися ситуаций сколь угодно отдаленных во времени и пространстве (я могу рассказать вам о своем детстве в центральной части Англии, вы можете сообщить мне о новой кофейне в соседнем пригороде). За редким исключением, таким как танец у пчел, с помощью которого они сообщают о расположении богатых нектаром цветочных полян, коммуникация у животных не касается того, что не происходит «здесь и сейчас». Шимпанзе не делятся воспоминаниями о найденном вчера термитнике, гориллы не обсуждают заросли крапивы на другом краю леса. Да, и у животных вроде бы встречаются голосовые сигналы, символизирующие объекты окружающего мира: знаменитый пример – обезьяны верветки, которые водятся по всей южной Африке и, как утверждается, используют три разных сигнала для обозначения хищников – крылатых, млекопитающих и пресмыкающихся{109}. У приматов других видов тоже иногда предполагают подобное. И все же у приматов издаваемые звуки в основном состоят из отдельных не связанных между собой сигналов, которые редко комбинируются для передачи более сложных сообщений, а любые нетипичные составные сообщения возникают при очень ограниченном ряде случаев. Так, некоторые обезьяны могут одновременно информировать других и о наличии хищника поблизости, и о том, где именно тот находится{110}. Человеческий язык, напротив, ничем не ограничен и позволяет каждому овладевшему его символами производить бесконечный поток высказываний и комбинировать слова в совершенно новые предложения.
Романтики не оставляют надежду на то, что у животных, тех же шимпанзе, например, или дельфинов, все-таки есть свои сложные системы естественной коммуникации, которые человек пока еще не открыл. Многим из нас импонирует мысль, что «высокомерные» ученые поторопились отказать животным в способности общаться друг с другом, просто не сумев расшифровать загадочный набор посвистов и криков. Увы, обольщаться, судя по всему, не стоит. За столетие с лишним подробного и тщательного изучения коммуникации у животных проблесков предполагаемой сложности почти не обнаружилось. Напротив, представить убедительные доказательства, что сигналы шимпанзе или дельфинов обладают соответствующими свойствами, оказалось на редкость трудно{111}. Шимпанзе, безусловно, во многом смекалисты, но коммуникация у них определенно не богаче, а возможно, даже беднее и меньше похожа на язык, чем у особей остальных видов{112}. Это значит, что системы коммуникации нельзя расположить в виде непрерывного спектра из схожих форм, начиная с человеческого языка, к которому будет примыкать какой-либо высокоорганизованный животный протоязык, и так далее, постепенно снижая сложность от одной животной коммуникационной системы к другой, до противоположного края спектра, на котором окажутся, допустим, простые послания, улавливаемые органами обоняния. Языковые различия носят скорее качественный характер. Даже если вынести за скобки разницу между человеческим языком и прочими и ранжировать коммуникационные системы у животных от самой простой до самой сложной, то выясняется, что наиболее сложными естественными коммуникационными системами могут похвастаться вовсе не ближайшие к человеку виды{113}.
.....