Мысли и факты (1889). Первый том. Философские трактаты, афоризмы и исследования
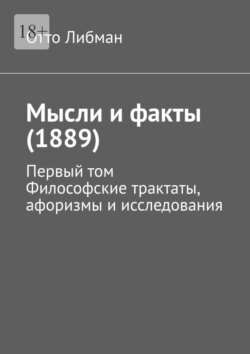
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Мысли и факты (1889). Первый том. Философские трактаты, афоризмы и исследования
Либман как эпистемолог
Предисловие
Мысли и факты, -Gedanken und Thatsachen
Первый том – Erster Band
Первый выпуск
Виды необходимости
Механическое объяснение природы
Идея и энтелехия
Второй выпуск
Первый раздел
Природа в целом
Второй раздел
Законы и их силы
Третий раздел
Атомистика
Четвертый раздел
Органическая природа и телеология
Пятый раздел
Овладение природой и духом
Заключение
Третий выпуск
Образы воображения
Осмысление времени. Парадокс47
Владение речью
Афоризмы в психологии
Отрывок из книги
Когда в 1865 году Либман выступил с лозунгом: «Мы должны вернуться к Канту», он выступил против метафизического догматизма как эпистемолог. И он оставался преимущественно эпистемологом, как по своим наклонностям, так и по направлению своих исследований, на протяжении всей своей научной карьеры.
Он не хочет, чтобы этот лозунг приписывался ему как личное достижение: с его помощью он лишь «дал точное выражение идее, которая в то время, так сказать, витала в воздухе» (A. 231).1
.....
VI. Вслед за Кантом Либманн видит главный аргумент в пользу априорности представлений о пространстве в той особой степени необходимости и всеобщности, которой обладают геометрии. С ее положениями связано «твердое убеждение, что объективные факты всегда и при всех условиях должны им соответствовать и что исключение из этого невозможно». В этом отношении они стоят в одном ряду с посылками арифметики и форономии, на которые опираются обе, а также с аналитическими принципами формальной логики. «Если (однако) наша геометрия обладает аподиктичностью только для тех интеллектов, которые выглядят в той же пространственной форме, что и мы, то аподиктичность общей теории величин, как и логики, распространяется на все интеллекты любого вида». Таким образом, они образуют системы законов для нашего, да и для всех познающих сознаний. Субъективно они отличаются от простых vérités de fait [истин веры – wp] «связанным с их пониманием убеждением, что эмпирически-воспринимаемые факты никогда не могут им противоречить», объективно – тем, «что в соответствии с субъективным предвидением это убеждение в фактах действительно всегда подтверждается и может быть опровергнуто только в том случае, если бы мир в одно и то же время совершенно не совпадал с нашим пониманием, если бы, например, он вдруг возник из мира трех вещей. Например, если бы он вдруг превратился из мира трех измерений в мир четырех». Соответственно, Либман резюмирует рассматриваемую проблему в следующих двух вопросах: «Откуда берется субъективное осознание необходимости, присущее этим аподиктическим [логически убедительным, доказуемым] законам? С другой стороны, как объясняется тот факт, что объективный опыт никогда не может им противоречить?» (A 253—6). По его мнению, наилучший ответ на эти вопросы дает априоризм (например, для геометрии – априорность евклидова пространства, а для форономии – времени), и поэтому он исповедует его как наиболее обоснованную, наиболее вероятную гипотезу (A 256—7). Прежде всего, я с удовольствием приветствую тот факт, что такая постановка вопроса гораздо острее, чем у Канта, схватывает проблему. Прежде всего, он ясно показывает, что мы имеем дело с умозаключением от существующего эффекта к его скрытой причине, и что (учитывая принципиальную неопределенность всех подобных умозаключений!) априоризм, поскольку рассматривается только эта проблема, носит лишь характер гипотезы. Эффект же, о котором идет речь, – это феномен сознания: то своеобразное чувство доказательности, которое связано с этими истинами. Это относится и ко второму вопросу, в котором я поэтому считаю, что слова «факт» следует заменить словами «убеждение». Я, безусловно, разделяю это убеждение и ни на минуту не сомневаюсь в его обоснованности. Но факт существования этого убеждения – это нечто совсем иное, чем факт соответствия действительности этому убеждению. Тот, кто отождествляет эти два понятия, путает данное и его гипотетическую интерпретацию. Второй (предполагаемый!) факт, что это убеждение, по выражению Либмана, «действительно всегда подтверждается опытом», предполагает, что весь опыт человечества (включая весь будущий опыт) будет открыт перед глазами тех, кто признает этот факт. Ведь поскольку речь идет о «всегда», то и знание, о котором идет речь, может быть получено только на основе обзора всех случаев, содержащихся в этом «всегда». Если только не будет установлена невозможность того, чтобы нечто было иным, чем оно есть на самом деле. А Либманн, по-видимому, имеет в виду именно последнее, поскольку, помимо ссылки на «всегда подтверждается», он оперирует также невозможностью противоречия объективного опыта этому убеждению или невозможностью его опровержения опытом. Но и это не спасает ситуацию. Ведь и эта невозможность не является фактом и не может им стать ни при каких обстоятельствах, какими бы тонкими ни были доказательства. Применительно ко всему «объективному опыту» мы никогда не сможем продвинуться дальше знания о сущем к его непосредственной реализации. Пока мы придерживаемся того, что в нем дано, мы, конечно, можем утверждать небытие вещи или процесса, но никогда – небытие-возможность или невозможность существования. Необходимость, необходимость, невозможность – это интерпретации, которые мы привносим в вещи и события, чтобы иметь возможность их понять. Это категории мышления, которые выводят нас за пределы непосредственно данного, с помощью которых мы пытаемся уловить внутренние взаимосвязи. Я твердо убежден, что в самих вещах и процессах опыта (а также в абсолютной реальности) тоже есть законы и необходимости, но мы не можем непосредственно распознать эту возможную необходимость в бытии, мы можем только предполагать ее, интерпретируя или «интерполируя» бытие в смысле необходимости, т.е. в смысле закономерной связи. Поэтому никакие необходимости или невозможности не могут быть даны мне непосредственно, кроме тех, которые относятся к индивидуальному психическому акту во мне и заключаются в чувстве очевидности, сопровождающем его содержание: в том, что я внутренне вижу себя вынужденным думать и смотреть именно на эту вещь, или что в других случаях я не могу осуществить эту мысль или этот взгляд. Таким образом, это ощущение является первоначальным психическим фактом, который должен стать основой и отправной точкой для рассмотрения всего интересующего нас вопроса. Как психический факт оно, естественно, является объектом исследования и для психологии, но задача этой науки сводится к его описанию и выяснению того, как оно возникает и исчезает в ходе психических событий, а также, возможно, к классификации ситуаций, благоприятствующих его возникновению, т.е. его случайных причин. Там, где заканчивается эпистемология, начинается эпистемология: она выясняет объективные основания и оправдания ощущения факта, его значение для познания, т.е. для наглядного или понятийного воссоздания (репрезентации) некоторой реальности; ищет, с одной стороны, ту глубинную причину, по которой он возникает в связи с тем или иным переживанием, а с другой – ту роль, которую он играет в общем организме познания. Эти глубинные причины можно искать либо в общей организации психики, либо в природе объектов познания, либо в том и другом. Но они могут и полностью отсутствовать: тогда ощущение доказательности оказывается обманом, а выдвинутые утверждения – необоснованными. Так обстоит дело со всеми метафизическими необходимостями мышления. Как субъективные феномены сознания, ощущения доказательности не могут быть оспорены и здесь: отдельный метафизик настолько убежден в своих догмах, что ему кажется совершенно невозможным думать иначе. Какой-нибудь Спиноза остался бы глубоко проникнутым безупречностью своих определений, доказательностью своих аксиом и необходимостью основанных на них выводов, даже если бы против него выступили сотни оппонентов. А ведь в этой области мы не можем говорить даже об объективно обоснованных вероятностях. Поэтому было бы очень неправильно с самого начала считать все чувства доказательства одинаково обоснованными и относиться к ним по шаблону. Даже если, как в случае с логическим чувством доказательства, принять за основу закономерности и необходимости в общей духовной организации, они не даны в самом сознании и поэтому не могут быть непосредственно осознаны и пережиты. Вся духовная организация никогда не входит в сознание, она всегда должна выводиться, причем путем умозаключения от следствия к неизвестной причине. Поэтому если нельзя даже говорить об осознании сущего, то, конечно, еще меньше можно говорить об осознании сущего. И менее всего допустимо, если взвешивать слова, говорить о необходимости того, что «объективный опыт» (или, для меня также: всякая реальность) всегда соответствует законам логики (или о невозможности, чтобы было иначе), чем говорить не только о реально существующем, но и о реально признанном. Мы никогда не сможем выйти за пределы твердой уверенности в существовании такого безошибочного соответствия; мы никогда не сможем его проверить, поскольку мы никогда не сможем ни обследовать всю окружность объективного опыта (или: реальности), ни непосредственно постичь его бытие-такое и небытие-другое. То, что это убеждение никогда не может быть обмануто, для меня так же несомненно, как и для любого другого здравомыслящего человека. Но его первоначальное основание не может быть найдено нигде, кроме как в логическом чувстве доказательства: из него выводятся определенные законы организации психики. Можно приводить различные аргументы в пользу этого убеждения, но в конечном счете и они черпают свою убедительную силу исключительно из логического чувства доказательства. Для меня само собой разумеется, что мышление переходит в бытие (реальность) постольку, поскольку в нем (или в ней) не может быть невозможности мышления. Но никто не может этого доказать, никто не может непосредственно пережить и постичь невозможность существования таких мыслительных невозможностей в самом бытии. Тогда наше мышление должно было бы стать самим бытием, чтобы свободно позиционировать бытие. Эта самоочевидность опять-таки есть не что иное, как другое название логического чувства доказательства. А последнее никогда не может ничего сказать непосредственно о самом бытии, а только о том, как мы должны мыслить (или смотреть) на бытие. В материальном плане я полностью согласен с Либманом в том, что аналитические принципы мышления в формальной логике, как и аксиомы чистой теории величин (арифметики и алгебры), являются априорными, т.е. отсылающими к неким высшим интеллектуальным законам и вытекающими из них. Основанием познания для последних является смысл доказательства, связанный с этими принципами и аксиомами: из него, как из следствия, выводится неизвестная причина (реальное основание). Общим для формальной логики и чистой теории величин является то, что они не содержат никаких материальных знаний об объектах, существующих вне нашего мышления. Логика устанавливает нормы, которым обязательно должно соответствовать наше мышление, если оно способно передавать реальное знание. Чистая теория величин имеет дело с самодельными понятиями, которые она может формировать только на основе материала, предоставляемого опытом, но так, что она вольна использовать его по своему усмотрению и включает в понятия только то, что она может и должна использовать. Эти понятия, которые, таким образом, в отличие от понятий опыта, допускают исчерпывающее, совершенно однозначное определение, он затем комбинирует самым многообразным образом по законам, изначально заложенным в нашей интеллектуальной организации. И в той мере, в какой объективный мир опыта соответствует этим свободно сформированным понятиям, т.е. применим к нему, результаты чистой теории величин также должны быть действительны во всем их объеме для объектов и процессов мира опыта. Если отдельный опыт подводится как частный случай под общую теорему чистой теории величин, то сразу же возникает логическое чувство доказательства, которое заставляет нас твердо убедиться в том, что последнее обязательно должно относиться и к первому. В отличие от логики и чистой теории величин, евклидова геометрия непосредственно связана с получением материального знания об объекте, существующем исключительно вне мысли, а именно о пространстве опыта и его свойствах. Даже если отбросить всякое пространственное содержание и оставить просто пространственную схему или представить геометрическую фигуру только с помощью воображения, все равно (в отличие от логики и чистой теории величин) необходимо выйти за пределы чистого мышления и воспользоваться его помощью для визуализации. Не может быть геометрии без пространства и пространства без визуализации (даже если оно существует только в воображении). Соответственно, геометрия ничего не говорит о свойствах и законах мышления, а скорее о свойствах и законах объекта восприятия. Геометрические аксиомы и предложения также имеют своеобразный смысл доказательства. И возникает сложный вопрос: как это можно объяснить? VII. Здесь я расхожусь с Либманом и, как эмпирик, не могу согласиться с его ответом. Либманн не является сторонником эмпиризма, он почти допускает его слияние с сенсуализмом, и Юма – один из немногих философов, к которым он не может отнестись с должным уважением. Априоризм и эмпиризм, на мой взгляд, вполне совместимы. Если бы это было не так, то эмпиризм должен был бы полностью исчезнуть со сцены, поскольку мы не можем избежать предположения, что вообще существует что-то априорное. Фактическими противоположностями являются эмпиризм и рационализм, как до, так и после Канта, причем основные спорные моменты касаются не изначальной природы нашей психической способности, а метода познания и критериев научности или степени достоверности человеческого познания, т.е. вопроса о необходимости и всеобщности. А что касается априорного, то и те, и другие могут спорить только о том, сколько его есть: рационалист будет иметь естественную тенденцию предполагать как можно больше, эмпирик – как можно меньше. Когда мне было 23 года, я критиковал Канта в своем издании «Критики чистого разума» (1889) с крайней эмпирической точки зрения, которую я уже не могу поддерживать сейчас, когда я повзрослел. Второе издание этой работы, давно вышедшее из печати, будет свидетельствовать об изменениях, произошедших за это время. Но я по-прежнему остаюсь эмпириком в той мере, в какой я прибегаю к априори только в случае крайней необходимости. Но здесь, как мне кажется, дело обстоит иначе. Теория геометрических аксиом возможна и без априоризма; более того, сторонник последнего ни в чем не опережает своего оппонента, поскольку именно в решающий момент его априоризм подводит его и ничего не может дать в объяснение. Я оставляю в стороне тот факт, что некоторые выдающиеся математики отрицают существование какого-либо смысла доказательства в геометрических аксиомах. Гельмгольц, например, утверждает, что «геометрические аксиомы, взятые в том смысле, в каком они только и могут быть применены к реальному миру, могут быть проверены, доказаны и, возможно, даже опровергнуты опытом» и что как законы природы они «естественно участвуют в единственной приблизительной доказуемости всех законов природы путем индукции» (Vorträge und Reden II, pp. 233 и 393, 1896). Я же, напротив, придерживаюсь точки зрения Либмана и рассматриваю чувство доказательства как реально существующее в геометрических аксиомах, даже оставляя в стороне тот факт, что оно не проявляется с одинаковой силой во всех аксиомах, а в аксиоме параллельных, где отношения сложнее, заметно слабее, чем в остальных. Но оставим это в стороне и обратимся к одному из наиболее благоприятных для априоризма случаев: аксиоме о том, что между двумя точками возможна только кратчайшая прямая. Как мы можем представить себе ее возможную априорную природу?
К сожалению, Либманн не указывает конкретно и ярко, как он представляет себе связь между априорной реализацией такой аксиомы и априорным характером представления о пространстве. Он ограничивается общими фразами типа: евклидов закон пространства есть фундаментальный закон геометрических истин (A 257), формальная природа и характеристики нашего пространства обнаруживаются как научно четко структурированная система, заложенная в евклидовой геометрии (A 185), пространство есть закон локализации, деспотически господствующий над нашим наблюдающим сознанием и включающий в себя всю аподиктическую законность геометрии (G II, 27). Я прекрасно понимаю, что, если исходить из априорности представления о пространстве, то его особенности и законы будут определяющими для всех объектов опыта. Я также понимаю, что имеется в виду, когда задача геометрии описывается как научное и систематическое изложение этих особенностей и законов. Но теперь начинаются трудности. Настоящая проблема заключается в следующем: откуда я знаю, что евклидова геометрия решает эту задачу правильно? Или: как я могу объяснить то чувство доказательности, с которым я и все остальные убеждаются в том, что это решение правильное? Априорный характер представления о пространстве приводил бы к фактической обоснованности евклидовой геометрии для всех объектов в мире опыта, да и то лишь при условии, что геометрия содержит правильную характеристику пространства. Но знание этой действительной достоверности, убежденность в ее необходимости и, следовательно, убежденность в аподиктической достоверности геометрии – это нечто совсем другое. Для меня непонятно, как это знание и убежденность должны вытекать из априорного характера представления о пространстве. Либманн считает, что геометрия «априорно авторитетна для всех эмпирических объектов или визуальных явлений по той же причине, по которой законы преломления и отражения, действующие в оптическом аппарате камеры-обскуры, априорно авторитетны для получаемых в ней изображений» (A 235). Конечно! Как только геометрия правильно отразит природу пространства! В остальном, однако, притча говорит против Либмана. Если бы камера вдруг обрела сознание, подобное человеческому, то она действительно увидела бы создаваемые в ней изображения, но создание их происходило бы бессознательно (как и создание пространственных ощущений у человека), и она не сразу узнала бы законы преломления и отражения, господствующие в этой бессознательной деятельности, а должна была бы сначала абстрагировать их из опыта. Точно так же и мы, люди, бессознательно локализуем или объективируем свои ощущения в различных точках пространства, повинуясь какому-то внутреннему, неведомому нам побуждению. Мне кажется, что познать возникающую таким образом форму сопоставления можно, только сделав бессознательно создаваемые и эмпирически обнаруживаемые нами отношения сопоставления объектом опыта и изучения. Речь идет о двух совершенно разных вещах: с одной стороны, о бессознательном действии, расположении в соответствии с неосознаваемой внутренней закономерностью, а с другой – об осознании особенностей пространственной формы, порождаемой этим бессознательным действием. Первое относится к трансцендентальному «я» Либмана, второе – к его индивидуальному «я» (см. выше). На это можно возразить, что это непрерывные закономерности нашего духа. Как Кант в своих высших принципах предполагает одну и ту же закономерность в функциях объективации наших ощущений в формах суждения, в основных понятиях чистого понимания, так и здесь существует закономерность, управляющая как этим бессознательным или предсознательным действием, так и нашим знанием особенностей пространства как продукта этого действия. Там она проявляется в необходимости локализации, здесь – в аподиктичности геометрических аксиом и предложений. Но эмпирику вряд ли удастся убедить себя в этом. Для него это две совершенно разнородные вещи. Он вполне может принять априорные функции, т.е. принуждение к тому или иному действию, к объективации, к локализации, но не априорные выводы о результате этого действия. Такое знание, по его мнению, может быть получено только через опыт, пусть даже внутренний. Он не видит моста, ведущего от необходимости действия к необходимости познания. Это как бы две совершенно разные области сознания. Он, конечно, способен убедить себя в существовании высших законов мышления, которые априорны, т.е. заложены в организации нашего интеллекта, но тогда мысль рассматривается только как действие, направляемое по определенным путям априорными функциями, а формулировка формально-логических основных принципов есть лишь саморефлексия на внутреннюю формальную законность всего нашего мышления, следовательно, также подчинена последнему и участвует в чувстве доказательности, с которым оно навязывает себя в целом. Совсем другое дело – геометрические аксиомы! Здесь в качестве общезначимой признается закономерность, которая вовсе не утверждается в нашем мышлении, а лишь в нашей бессознательной локализации и объективации. И материальное знание должно быть получено, относящееся к независимому объекту, отличному от мышления. Если бы, как это представляется в A 241, речь шла только о «наследственных способах зачатия в том же смысле, в каком говорят о наследственных, врожденных инстинктах животных или о наследственных болезнях», т.е. о локализации внушения таким-то и таким-то образом: тогда не было бы никаких трудностей. Но на самом деле требуется нечто совсем иное, а именно – априорное познание этих способов зачатия; только этим можно объяснить аподиктичность геометрических и то чувство доказательности, с которым они задумываются (если вообще пытаться понять последние таким образом!). Само существование способов представления объясняет лишь фактическую обоснованность геометрических аксиом для всего мира опыта, но не наше знание об этой обоснованности и не нашу убежденность в ее необходимости. В одном случае в качестве факта рассматривалось бы только бессознательное пространственное расположение наших ощущений, в другом – необходимость и невозможность в нашем восприятии, т.е. в нашем сознательном познании. По мнению Либмана, «существенное различие между априорным и апостериорным знанием, которое упускают из виду эмпиристы, заключается не в различной природе их психологического происхождения, а в принципиально различном способе доказательства; …в том, что априорная истина, например. 3 x 3 = 9, будучи однажды признанной, признается также с такой степенью уверенности, которая совершенно исключает возможность эмпирического опровержения и, следовательно, делает любое эмпирическое подтверждение совершенно излишним; с такой степенью уверенности, которой никогда не может достичь просто апостериорная истина» (A 240). Это «никогда и ни за что» является догматическим утверждением и содержит petition principii [ошибочное предположение – wp]: проблема заключается именно в том, не могут ли апостериорные истины при определенных обстоятельствах достичь такой степени определенности, какая эмпирически присуща геометрическим аксиомам. Исходным пунктом должно быть не понятие априорного и не произвольное его определение, в силу которого геометрические аксиомы могут и должны быть подведены под него без лишних слов, а ощущение доказательства, которое должно быть исследовано на предмет того, указывает ли оно на априорное или нет. А это исследование, на мой взгляд, можно провести, только детально проанализировав психологические факты. Тогда обнаруживается, что чувство доказательства включает в себя или рождает двойное убеждение: с одной стороны, что в данный момент я совершенно не могу поступить иначе, чем смотреть в ту или иную сторону, или что в моем созерцании невозможно сделать то или иное. Я могу провести между этими двумя точками более чем кратчайшую (прямую) линию; с другой стороны, убеждение, что такое же чувство абсолютной необходимости или невозможности возникнет и у всех других людей, находящихся в моем положении, и у меня самого в любой другой части пространства, как только я попробую или сделаю в ней то, что только что попробовал или сделал. Там речь идет о необходимости моего опыта, здесь – о его общей обоснованности. Может ли априоризм объяснить эти два явления или хотя бы одно из них более удовлетворительно, чем эмпиризм, и способен ли он вообще сделать это самостоятельно? Если бы то или другое было так, то его следовало бы предпочесть эмпирическому объяснению как более вероятную гипотезу (ибо и в этом случае оно останется таковым, поскольку речь всегда будет идти лишь об умозаключении от существующего следствия к его причине, что никогда не может быть доказано опытом). Но, как мы увидим, в отношении первого явления он ничем не опережает последнего, а в отношении второго терпит полное фиаско. Что касается необходимости моего опыта, то априоризм выводит ее из изначальной организации моего разума (априорной формы восприятия), который с тем же принуждением, с которым он заставляет меня объективировать свои ощущения здесь или там, заставляет меня смотреть в конкретный способ евклидова пространства, но делает невозможным для меня другие формы пространственного восприятия, хотя бы и в воображении, например, провести более одной кратчайшей (прямой) линии между двумя точками. Но даже эмпиризм не нашел бы затруднений в объяснении этого чувства необходимости. Конечно, он, вероятно, сочтет себя вынужденным принять метафизическую гипотезу о трансцендентной реальности евклидова пространства (3) и, соответственно, будет считать, что наши переживания и восприятия относительно нашего сознательного пространства также дают нам представление о пространственных отношениях и законах абсолютной реальности. Тогда необходимость или невозможность восприятия, которую я испытываю в себе, не будет субъективной необходимостью, а будет обусловлена необходимостью в Абсолютной Реальности. Не следует возражать, что мы даже не знаем этого Абсолюта-Реальности и не можем ничего сказать о его природе, не говоря уже о необходимости в нем. То же самое относится и к нашей духовной организации: она тоже нам не дана, мы не можем ничего о ней знать в строгом смысле этого слова. Мы оказываемся целиком в сфере гипотез; неопределенные выводы из данных следствий к неизвестным причинам должны вести нас. Что же касается вопроса о возможности или невозможности существования более чем трех измерений, то здесь я должен еще раз сказать: я не вижу ничего, что могло бы возразить против того, что испытываемые мною зрительные потребности имеют вполне объективную основу, что я не могу провести между двумя точками более чем кратчайшую (прямую) линию только потому, что это объективно невозможно по природе дела, как невозможны особенности и законы абсолютно реального пространства и всего пространственного существования вообще. Я никогда не смогу признать эту объективную невозможность как таковую, конечно, не смогу! Но вполне возможно, что только эта объективная невозможность делает субъективно невозможным для меня соответствующее восприятие, и, соответственно, ничто не мешает мне на основании субъективной невозможности моего опыта сделать вывод о том, что эта объективная невозможность и есть действительная причина. Мы ежедневно и ежечасно сталкиваемся с подобными визуальными возможностями аксиомы прямой линии: мне кажется невозможным, чтобы стол с книгами, стоящий напротив моей плиты, вошел в ее отверстие, чтобы крышка меньшего ящика закрыла больший и т. д. Неужели мы должны повсеместно опираться на якобы априорное представление о пространстве в качестве объяснения? Не разумнее ли предположить, что именно сами объективно реальные условия навязывают мне эту невозможность и реализуются в ней?
.....