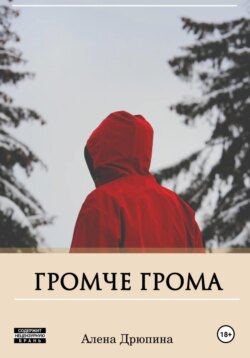Читать книгу Громче грома - - Страница 1
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
в которой интернат еще спит
Оглавление1
Справа и слева покачивался лес. Машина ехала тихо, шума колес почти не было слышно, и салон наполняло только тихое мурлыканье водителя и шипящие звуки радио. Митя не вслушивался, но иногда мозг вылавливал отдельные слова, и они всплывали – яркие, как вспышки, словно под веки сунули неоновую вывеску.
Он жмурился, пытался уткнуться носом сидение, но вспышки не были настоящими, и спрятаться от них помогла бы только таблетка аспирина, но сегодняшнее дело не тянуло ни на аспирин, ни даже на чашку крепкого сладкого чая, ему не на что жаловаться. Всего-то затянувшийся приступ мигрени, он справился за десять минут, три из которых потратил на то, чтобы уговорить пациентку, пожилую говорливую даму, закрыть неугомонный рот.
– Эй, парень.
Музыка стала тише, машина замедлила ход. Лес сменился невысокими постройками, мелькнула вывеска заправки. Водитель оглянулся, закинув руку на спинку своего кресла. Из-под козырька идиотской клетчатой шапки смотрели теплые сощуренные глаза.
– Давай, что ли, куплю тебе кофейку сладкого, а?
Митя разлепил глаза. Он идиот?
– Не надо. Нам нельзя.
– А, точняк. Ну, чаю? Или, не знаю, сок?
– Нет. Езжайте, пожалуйста, в интернат.
– А может, у них там молочка найдется?
А может, у тебя найдется немного мозгов, ну так, всякое случается? Митя выпрямился, поерзал. Куда они, интересно, дели предыдущего водителя? Тот не задавал идиотских вопросов, не включал музыку. В салоне пахло еловым освежителем, и от каждого движения тошнота подкатывала к горлу.
– Спасибо, что пытаетесь позаботиться. Но это лишнее. Прошу вас, езжайте в интернат. И приоткройте окно немного.
Водитель отвернулся, что-то забормотал – «как лучше ж хотел, что сразу так-то». Окно над передним сидением сползло вниз, и в салон ворвался теплый ночной воздух. От досады выкрутив музыку погромче, водитель вдавил газ, и за окном засвистели низкие постройки – магазины, дачные дома, заброшенные гаражи. Вскоре их снова сменил лес.
Интернат находился вдалеке от города, в экологически чистом поселке «Сосновый бор». В радиусе многих километров не было никаких заводов, предприятий, свалок – только сосны, поля, снова сосны, снова поля. В трех остановках автобуса было местное водохранилище, густо заросшее камышом. Рядом с ним гнили останки детского лагеря, закрытого в девяностые годы, разграбленного и оставленного умирать – одноэтажные домики, ржавый забор, кое-где выломанный с корнем, обшарпанные скульптуры уродливых пионеров, старые динамики на столбах.
Митя дернул головой, выныривая из дремоты. Вспоминать о том, как они с Антоном гуляли по этому лагерю, не хотелось, потому что не хотелось вспоминать об Антоне хоть что-то.
Водитель курил в открытое окно, высунув наружу руку.
– Уберите, – холодно приказал Митя.
Вздрогнув и ругнувшись, водитель швырнул окурок на дорогу. Дым еще гулял по салону. Митя вдыхал и представлял, как частички дыма вместе с воздухом попадают в его дыхательные пути, опускаются в бронхи, альвеолы вбирают в себя этот воздух, ядовитый, нечистый, и зараза растворяется в крови, и кровь уносит эту дрянь к сердцу, и спустя пару ударов это уже несется по кровотоку.
Машина затормозила у ворот, и Митя, резко щелкнув ремнем безопасности, распахнул дверь и вышел наружу. Свежий воздух не спас – через пару шагов его вывернуло в траву.
Сплюнув кислую слюну, он вытащил из кармана бумажный платок, промокнул рот и бросил водителю, который уже спешил к нему, взволнованно вытаращив глаза:
– Я доложу о том, что вы курили, и вас уволят. По статье. Ничего личного.
И, не дожидаясь ответа, он зашагал по тропинке, ведущей к корпусу. Пахло соснами и недавно растаявшим снегом.
– Ах ты ж, мальчишка! – прилетело ему в спину, но он не оглянулся.
2
Интернат состоял из трех кирпичных корпусов – жилых, и еще трех – административного, столовой и медпункта. В первом кирпичном жили младшие – дети от семи до десяти, во втором – средние, кому пока не исполнилось пятнадцать, в третьем – старшие. В каждом были свои порядки, но главным правилом считалось – не ходи в чужой корпус.
Ни в тот, из которого вырос, ни в тот, до которого не дорос. Говорили, в третьем корпусе совсем нет взрослых, и к телевизору и компьютерам пускают просто так. Митямечтал о третьем корпусе с того самого момента, как попал во второй. Второй корпус его раздражал – нелепое переходное звено, ты уже достаточно взрослый, чтобы ездить к пациентам самостоятельной, в сопровождении одного только водителя, но недостаточно, чтобы решать, сколько времени проводить за книжками, а сколько – на спортивной площадке.В одиннадцать это еще было терпимо, в пятнадцать казалось натуральным издевательством.
Митя вставал в семь тридцать. Эксперименты показали, что тридцать минут – именно то количество времени, которого ему достаточно, чтобы встать, одеться, провести все нужные гигиенические процедуры и выйти в холл, где каждое утро пожилая Алла Леонидовна руководила гимнастикой.
С 7.30 до 7.37 он лежал с закрытыми глазами.
С 7.37 до 7.40 перестилал постель, разглаживая складки, и стелил покрывало.
С 7.40 до 7.45 он чистил зубы – сначала щеткой и пастой, затем зубной нитью, и еще одну минуту полоскал рот.
В 7.46 он начинал принимать душ, чередуя холодную и горячую воду, трижды по двадцать секунд, и в 7.50 выключал воду.
Еще пять минут уходило на одевание, две – чтобы открыть окно и выйти в холл, три – чтобы расстелить коврик и привыкнуть к наличию рядом других людей. В восемь часов начиналась гимнастика.
Сегодня все пошло не так. В 7.39 Митя понял, что еще лежит, и понял, что ему как-то не так. «Как-то не так» было ощущением общим, не структурированным. Глядя в потолок, Митя попытался разложить по симптомам. Головная боль? Нет. Ломота в костях? Нет. Свербит в носу, першит в горле? Не першит. Температуры тоже нет, нет озноба, не жарко, не холодно. Он не вспотел. Может, не выспался? Но нет, ночью он не вставал, а лег в половину одиннадцатого, как и положено.
Может, он подхватил вирус, и латентный период еще не закончился? Поэтому нет никаких явных симптомов, только невнятное, дурацкое недомогание.
В 7.45 он усилием откинул одеяло, коснулся голыми ступнями пола, кое-как встал и доковылял до ванной. Горячая вода ударила по спине, к потолку поднялся пар, оседая мелкими каплями. По привычке он взялся за вентиль, чтобы сменить воду на холодную – и так и простоял несколько минут, не решаясь. Вода стекала кипятком, руки покраснели, дышать стало тяжело, но выходить не хотелось. Напротив – сесть на пол душевой кабины, закрыть глаза и проспать еще несколько часов.
В детстве он отказывался лезть в воду, если там не было пены. Обязательно ягодной, из бутылки с рисунком красного дракончика, показывающего большой палец. Дома у них была ванна, и пена поднималась над бортиком гигантским пузырящимся холмом, и Митя, подняв руки над головой, командовал: «Сади меня скорее туда!». Он помнил это только потому, что Антон потом много лет передразнивал, пищал своим дурацким голосом – «сади, сади меня туда!», и скакал, как чокнутый, и хохотал. Пена накрывала Митю с головой, мама задвигала шторку с голубыми дельфинчиками, и за шторкой начиналось настоящее веселье. Пена липла к потолку, к стенам, Митя делал корону, замок, нырял, брызгался, звал по очереди маму, папу, Антона, чтоб они поиграли с ним в аквапарк, рыбье царство или «в русалочку». Эту «русалочку» Антон ему тоже долго припоминал.
После ванны мама заворачивала его в огромное полотенце, относила в комнату и кидала на кровать, и вытирала так, что кожу даже немного жгло, и Митя визжал и вырывался. Потом были теплое одеяло, нагретое на батарее, мультики по телевизору с круглым выпученным вперед экраном, чашка молока с растворенным внутри кусочком шоколада.
Тогда Антон еще не начал исцелять соседок-старушек, и они жили, как все.
В дверь ванной постучали, и Митя различил голос Аллы Леонидовны:
– Митюша? Ты там в порядке, зайка моя?
Митя выключил воду. Тягучая дремота сползла, все вмиг стало ясным и понятным: он стоит в душе, как идиот, а гимнастика начнется с минуты на минуту. Боже, он ведь даже зубы не почистил. Когда он в последний раз себе такое позволял, в шесть?
– Прошу прощения. Я сейчас выйду.
– О, живой! – обрадовались из-за двери. – Не торопись, не торопись, гимнастика уже кончилась. Я так, проверить зашла, мало ли, приболел… Ну, одевайся.
Он застыл. С волос капало. Что значит – кончилась? Он что, пропустил гимнастику? Живот скрутило, к горлу подступила дурнота. Сколько времени?
Черт, черт. Сколько, черт возьми, времени?!
Наскоро вытершись, он выскочил в комнату и схватил с подоконника черный круглый будильник.
Восемь сорок пять.
Проклятье.
3
– Скажи мне вот, Корнеев, сколько у тебя было вызовов за последние две недели, а? Пять? Шесть? Корнеев, я с тобой говорю!
Митя поднял глаза от тарелки, где тонул в горячем месиве кусочек сливочного масла, расползаясь тошнотворной кляксой, и уставился на соседнее место так, словно на нем сидел не Леша Севастопольский, тощий, ушастый мальчик в толстых очках, а говорящее чучело.
Все знали, что Митя сидит один. На самом дальнем месте, за столиком, плотно придвинутым к стене и окну и подпертым с третьей стороны широколистным цветком в большом горшке. Там и стул-то один, и никому прежде не приходило в голову взять второй и подсесть. Но Севастопольский сидел – оседлав стул задом-наперед, подперев впалую щеку кулаком и злобно поглядывая из-за очков.
Лешу Севастопольского терпели, но не любили. Он был шумный, докучливый и вечно ныл. И никогда не уезжал на каникулы – как и Митя в последнее время, и когда все разъезжались, этот оставался – сидел над книжками, сновал по территории, юркий, мелковатый, похожий на вечно взволнованную ящерицу, надоедал уборщицам и медсестрам – «а у вас тут пыль», «а у вас градусник без контейнера», «а чего вы со шкафа не вытерли?». Митя избегал его как мог, но доставалось и ему – «а чего у тебя носки вчерашние», «а ты уже прочел «Анотомию» Синявского за 10 год? А я прочел!», «а ты вчера гулял час, а не два, как положено, режим нарушаешь, Корнеев». Митя привык его не замечать и даже немного жалел – тому, кто вынужден носить очки, не светило после выпуска ничего серьезного, и Севастопольский это понимал.
– Шесть, – помедлив, ответил Митя. – Как у всех.
Он уже десять минут гипнотизировал взглядом завтрак и глотал вязкую слюну, надеясь, что тошнит его от голода, а не от того, что он все-таки умудрился что-то подхватить. Отвратительным казалось все – каша, пресный хлеб, чай с белой пленкой, даже свежее яблоко вызывало оскомину, просто лежа на подносе.
Севастопольский задрал к потолку острый, до красноты намытый с утра нос, и воскликнул:
– Как у всех! Не рассказывай мне ни про какое «как у всех», потому что у меня было всего три! Ну, и расскажи мне, что у тебя там было? Сопли, прыщи, похмелье?
Митя крепче сжал ложку. Тошнота подступила к самому горлу.
– Нет. Мигрень, простуда. Пищевая аллергия.
– Мигрень! – Севастопольский присвистнул. Он изо всех сил пытался не выдать, как взволновал, но язык скользнул по пересохшим губам, и ножки стула скрипнули, когда он заерзал. – Да ладно, не придумывай мне тут, у тебя – и мигрень? Раньше восьмого года никому мигрень не дают!
– Мне сказали, мне уже можно.
Глаза за очками сощурились, узкое лицо скривилось.
– А я думаю, Корнеев, ты треплешь языком, и все. Седьмому году не дают мигрень! – он шмыгнул носом и упрямо повторил: – Не дают! Я пожалуюсь, если тебе дали мигрень, в «Положении о допуске к вызовам» это ясно написано, что никаких мигреней не могут давать седьмому году!
Митя отложил ложку и отодвинул поднос. Севастопольский еще что-то ныл – о том, что у Форсова на этой неделе было три человека, у первого – сложный перелом, там древний дедулька, иначе не срослось бы нормально, у второго – корь, температура за сорок, а у третьего вообще – пневмония, и у Солнушкина тоже трое: травма мениска у бегуна, симптоматический гепатит, скарлатина, а у Верушкина вообще – четверо, три по приглашению, один самотеком! Митя, не слушая, встал из-за стола, в последнюю секунду вцепившись в спинку стула, когда в глазах потемнело.
Подняв поднос, он медленными, гладкими шагами дошел до мойки, оставил нетронутый завтрак на решетчатой подставке. Севастополький с внимательным прищуром таращился ему в спину, пока он не вышел, скользя ладонью по шершавой стене и ничего уже не видя и не слыша.
В себя он пришел от того, что кто-то беспощадно хлестал его по щекам мокрыми ладонями. Разлепив глаза и сморгнув темноту, он увидел деловито засучившего рукава Севастопольского. Шумела вода. Митя смотрел прямо на толстую ножку раковины, упираясь ноющим затылком в холодную плитку пола.
– Я поставил тебе диагноз, – хлопки по щекам прекратились, и Севастопольский склонился над ним, высунув кончик языка. Что он надеялся отыскать на лице Мити, залитом холодным потом, предположить было трудно, но спустя несколько секунд он удовлетворенно цокнул языком и выпрямился. – У тебя, Корнеев, кишечная инфекция! Я позвал твоего воспитателя и предупредил в изоляторе, чтоб готовились. И уже начал составлять список тех, с кем ты контактировал и кто в зоне риска!
«Да ты же в нем первый будешь», – мысленно поморщился Митя и попытался сесть, но щуплая рука надавила ему на грудь, и Севастопольский изрек:
– Вставать нельзя! На, сначала пожуй кофеин и подними давление.
И он сунул Мите под нос бумажную упаковку с мелкими таблетками. Митя отреагировать не успел – знакомый голос вспорол воздух, как раскат грома:
– КОРНЕЕВ, КАКАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ, СДУРЕЛ СОВСЕМ?!
Грохнула дверь туалета, и внутрь ворвался Иван Ложкин, воспитатель седьмого года. Выглядел он так, словно примчался прямо из ванной – сырые волосы, клочки пены для бритья под ушами, криво натянутая камуфляжная майка. Нашарив ошалелым взглядом Митю, он нахмурился и шагнул ближе. Грубые руки подхватили Митю подмышки, поставили на ноги, шершавые ладони ощупали шею, лицо, приподняли веки.
– А ну высуни язык! Корнеев, оглох? Язык! Боже мой, да какая нахрен кишечная инфекция, ни одного симптома, Севастопольский, ты ошалел? Еще сказал бы – чума!
– Симптомы могут быть скрытыми! – оскорбился Севастопольский, но Ложкин уже за локоть выволок Митю из туалета, не церемонясь и громко разнося всех мерзких симулянтов и проклятых паникеров. В раздевалке напялил на него куртку, наорал за отсутствие шарфа и вытолкал на улицу – до медпункта еще предстояло идти по мокрому асфальту, горбясь под разгулявшимся ветром.
В медпункте Митю уложили на широкое медицинское кресло, сунули подмышку градусник, закатали рукав и стянули руку жгутом. Белые лампы жгли глаза, пахло корвалолом, спиртовыми салфетками и ментоловыми мазями. Локтевой сгиб протерли влажной ватой, игла вошла в вену.
– Он здоров как бык, – сказал Ложкин. Он сидел на кушетке напротив, недовольный и всклокоченный, из-под майки топорщились буграми невесть зачем накачанные мышцы. – Небось не пожрал ничего, вот и свалило. Ты хрен ли не жрешь, Корнеев? На диету, что ли, сесть решил? Так ты чай не девка, этой хренью страдать!
– Я не страдаю. Этим.
– Тогда что это за акция голодного протеста?
Митя пожал плечами.
Медсестра вынула иглу, наскоро намотана ему на руку бинт и отрезала:
– До результатов анализов – в карантин. Ты вчера в городе был, а там каждая шавка разносчик.
– Я принесу твои шмотки, – сказал Ложкин. – Сам дойдешь или отнести тебя, аки принцессу?
Митя ограничился укоризненным взглядом, Ложкин заржал и растрепал ему волосы – реакция подвела, увернуться Митя не успел, но заметил:
– Если у меня инфекция, неразумно инициировать физический контакт.
– Фигакт, – емко ответил Ложкин, но руку убрал.
До изолятора они дошли молча – почти. Ложкин насвистывал, вздыхал, прочищал горло, Митя старался морщиться не слишком демонстративно и отстраненно думал: если это инфекция, то какая? Явно не кишечная, уже была бы температура, а градусник показал тридцать шесть и восемь. Респираторная? Кашля пока нет, но может, это веселье – симптом латентного периода, переходящего в активный. А может, это все табачный дым?
– Водитель вчера курил при мне, – Митя сам не понял, зачем это ляпнул вслух.
Ложкин толкнул дверь палаты, пропустил его вперед и пожал массивным плечом.
– И чо?
– Может, у меня это все из-за дыма.
– Да не трещи тут, – войдя следом, Ложкин осмотрелся пристально – кровать, тумба, чистый подоконник, бактерицидная лампа, гудящая в углу, «Девятый вал» Айвазовского на стене. – Что тебе от того дыма будет? Хрупкие такие все, я не могу… Спортом заниматься потому что надо, Корнеев, а не йогой вашей дебильной. Ложись давай в кроватку. Подрыхни хорошенько – и нормально с тобой все будет. А там, глядишь, брательник твой вернется – совсем хорошо станет. Соскучился, небось?
Митя так и замер – на кровати, приготовившись снять правый ботинок. Тошнота накатила опять, стиснула горло, напустила в рот горькой склизкой слюны.
– Да твою мать, – вздохнул Ложкин, когда спустя мгновение Митю вывернуло прямо на пол – водой и желудочным соком. – Корнеев, все, упади уже в кровать. Сейчас позову уборщицу.
Он вышел, и Митя слепо уставился в незакрытую дверь.
Там, пришпиленный к ней булавками, кое-как ввернутыми прямо в дерево, висел календарь. Красное окошко показывало – 13 марта, четверг, и теперь, глядя на эту дату, Митя вспомнил – четырнадцатое.
Антона должны освободить четырнадцатого, спустя ровно год после приговора.
Завтра.
4
Он засыпал, ворочался, просыпался, глядел в потолок и засыпал снова. Спал беспокойно, комкая белую жестковатую простынь, подушка, по которой он елозил волосами, намокла от пота и стала теплой и противной. В одеяле было жарко, без – холодно, но хуже всего оказалось, что стоило ему закрыть глаза, как он видел дом.
Белая девятиэтажка, вывеска продуктового над третьим подъездом, пышная сирень, коричневые обшарпанные лавки – сначала тенью, в полубреду, потом – в мягком тумане сна. Асфальт, изрисованный меловыми каракулями, полосатые кошки, дремлющие на древних, изгрызенных ржавчиной «Жигулях», зеленая дверь подъезда, луковицы тюльпанов под окнами, обнесенные бутылочной изгородью. Спрятанный в объятиях дома двор, старые железные качели, вытоптанная клумба, желтые цветы акации, отцветет – можно делать свистульки из сладких стручков. Велосипедные дуделки, крики малышни, музыка из открытых окон.
Как-то во дворе появилась горка – огромная, с желтой «трубой» завитком. Был июль, везде лежал пух вперемешку с пылью и песком, солнце сменяли короткие жаркие ливни, и как-то раз они с Антоном укрылись от дождя в этой «трубе», лежали – Антон внизу, Митя наверху, и перекидывали друг другу то жвачку, то сухарики в масляной томатной приправе, и тогда им плевать было на гигиену. Мама, конечно, говорила им не есть с пола, мыть руки, потому что микробы, глисты, кишечная палочка, а Антон говорил – «что упало, то пропало» – и засовывал в рот уроненную чипсину, и получал от матери мокрым полотенцем по шее.
К осени в горке прожгли уродливую дыру, и скоро ее снесли.
К осени Антон обнаружил в себе дар, и жвачки, чипсы, сухарики ушли из их жизни. Попадать под ливни стало нельзя, ходить по лужам – тоже. Дома стало чисто, как в больнице, пахло спиртовыми салфетками и моющими средствами, на стене в прихожей появился график проветривания, на полках поселились иконы, а в речи матери стали проскальзывать слова «благословенный», «милость божья» и «спаси господи», и Митя долго не понимал, кого господи должен спасти и зачем, и почему все это происходит.
Ему снились теплые сентябрьские грозы. Они жили на одиннадцатом, и из окна видно было, как над рекой клубятся, перекатываются словно накаченные чернилами из гелевой ручки тучи. Люди ходили еще летние, в шортах, майках, ветер яростными рывками раздевал деревья, река бурлила. Мать выкинула резиновые сапоги в мусоропровод, и его, желтые, и Антона, зеленые, чтобы им даже в голову не пришло высунуть нос из дома. Митя стоял, дышал в стекло, пока Антон не подкрался со спины и не шепнул: «Мелкий. Пошли, пока мамка спит. Искупаемся». И скоро они мчались по склону, ныряли под мокрую листву поредевших кленов, месили ногами грязь и песок. Берег уже цвел, и приходилось отодвигать тину, чтобы добраться до чистой воды, Митя один ни за что не полез бы, но Антон говорил: «Не ссы, мелочь!» – и нырял с головой, и гроза расчерчивала темное небо над рекой.
Он всегда делал то, что нельзя. Поэтому в конце концов мать и отправила его в интернат.
Митя вспоминал это все жадными глотками – дожди, голую стену, с которой сняли уродливый ковер, чтоб не копилась пыль, мешок с плюшевыми игрушками, закончившими свои дни на помойке, как мать тщательно отмывала вечно извазюканные черти в чем кроссовки Антона, большой розовый контейнер с медикаментами, чайный гриб в трехлитровой банке – «профилактика, пей и не жалуйся!», иконы в золоченых рамках, освященное масло, которым надо смазывать виски, когда болит голова, как приходили женщины в платках, как одна сказала – «благодарите ежеутренне и ежевечернее», и на столе у Мити появились непонятные тексты непонятными буквами, которые надо было читать утром и вечером, и как отец говорил – «да хватит этого сектантства!», и как мать отвечала – «замолчи, прошу». Он вспоминал – заначку запрещенных сникерсов в антоновом ящике с носками, как Антон говорил «пс, Митька» и совал ему в карман жвачку в цветной обертке, как отец заявлял: «Никакого храма сегодня, идем в кино», и они шли, и ели там сырный попкорн из большого ведра, и как потом пришли тетки в строгих костюмах и что-то выговаривали отцу. Как отец скидывал вещи в коричневый чемодан в проплешинах. Как Антон сидел возле него и говорил: «Па, да брось, они просто все на голову того. Не уходи». Синяя «Волга» отца. Черный плеер Антона, тонкие нитки наушников, «ты испортишь слух!» – «или слух, мам, или психику с твоей этой шизой». Помятый гамбургер в шелестящей обертке, который Антон молча швырнул на митину кровать. Душная церковь, солнце в решетчатых окнах, трава под ногами и зычная проповедь – «вы – апостолы нового времени, ибо дал вам Господь дар исцелять наложением рук», в пятне солнца – постные лица мальчиков и девочек в белых одеждах, и мать шипит Антону – «иди к ним», а тот сидит в углу по-турецки, с «Тремя мушкетерами» на коленках: «Ага, бегу».
– Корнеев. Эй. Корнеев. Вставай давай.
Ложкин стоял у двери, скрестив руки.
Простынь сползла в ноги, одеяло оказалось выпростано из пододеяльника. Митя моргнул несколько раз, дернул головой, убирая со лба налипшую челку. Ложкин зевнул.
– Нет у тебя никаких инфекций, симулянт херов. Небось сожрал в городе вчера какую-то запрещенку и не признаешься. Балда. Вставай уже давай.
– Я ничего не ел.
– Да, да, – закатил глаза Ложкин. – Все вы так говорите. Ничего не ел, ничего не пил, как во мне оказались эти три Биг-мака, которыми меня стошнило, я знать не знаю, это волшебство.
Митя метнул в него тяжелый взгляд, но Ложкин опять зевал в ладонь и ни черта не заметил. Натянув кое-как штаны и рубашку, Митя опустился на кровать, всю сырую от пота. Тошнота еще дремала где-то в глубине живота, и голова шла кругом от каждого движения, словно он только что слез с карусели.
– Я не нарушаю режим, – наконец он поднялся, выдохнул и направился к выходу. – Никогда.
Ложкин хмыкнул ему в затылок.
– В этом-то твоя проблема и есть, пацан.
Митя замедлил шаг, недоверчиво обернулся. Ложкин пинком закрыл дверь палаты. Выглядел он поприличнее, чем утром – натянул на майку толстовку, тоже камуфляжную, и хотя бы перестал сверкать голым телом. Заметив его задержку, Ложкин звучно хлопнул его между лопатками широкой ладонью, и когда Митя качнулся вперед от неожиданности, придержал за воротник рубашки.
– Ты б чего нарушил уже, Корнеев. Покури, что ли, разок.
– Вы с ума сошли? – холодно осведомился Митя, выпутываясь из его рук.
В медпункте было тихо. Свет к вечеру приглушили. Влажно блестели недавно вымытые полы, пахло моющим средством и еловым ароматизатором. На сестринском посту никого не было, только тихо играло радио. Ложкин доковылял вразвалку до поста, наклонился, сделал запись в толстой тетрадке и только после этого, швырнув на стойку и тетрадку, и ручку, ответил:
– Не, Корнеев. Сумасшедших тут полно, но я не он.
– За ваши слова вас должны уволить.
– Ну пожалуйся. Вы тут это дело любите. Все, дуй отсюда, свободен. На ужин успеешь.
– Я не голоден.
– Да насрать мне, голоден ты или нет, НатальПална сказала отправить тебя ужинать. Чо ты там сказал – «не нарушаю режим»? Вот и не нарушай.
«Вы не можете использовать такую лексику», – хотел сказать Митя, но Ложкин уже сунул руки в карманы и зашагал прочь из медпункта. Радио зашипело, проглотило кусок композиции и снова зажурчало. Из помещения для персонала послышались торопливые шаги, и появилась толстая раскрасневшаяся медсестра. Светлые кудри, лоснящаяся кожа, огромный живот, толстые щиколотки, кое-как всунутые в туфли-лодочки ступни.
– Уже уходишь? – весело подмигнула она, и Митя вышел, ничего не ответив.
5
Сначала он услышал топот, потом – смех, потом – треск ламп в коридоре. Кто-то нажал на все выключатели одновременно, и теперь лампы ворчали, переключаясь с щадящего синеватого свечения, заливающего коридоры интерната по ночам, на ярко-белый, как в операционной, свет. Топот приближался, смех заглох.
Митя натянул одеяло на грудь и отвернулся к стене. Достали устраивать эти ночные забеги, опять кому-то неймется. Он уже закрыл глаза и уткнулся щекой в подушку, намереваясь игнорировать все, что последует дальше – крики «остановитесь немедленно!», вскрики, возню, плач или ругань, нотации громким шепотом, как всегда, – как вдруг его дверь ударилась о стену, распахнутая пинком.
Что-то ввалилось в его комнату, захлопнуло дверь и нырнуло под его кровать – Митя не успел разглядеть, у кого это настолько отказали мыслительные центры, только услышал частое дыхание и звук трения одежды о пол. Стало тихо.
И вдруг что-то пихнулось в матрас. Оттуда, снизу, из-под кровати.
Митя перевернулся на спину. Серьезно?
Пинок повторился, и следом раздался зловещий шепот:
– Кровавая Мэри пришла за тобой!
Послышался скрежет ногтей о деревянные ножки кровати, потом – сдавленное хихиканье, потом – снова шепот:
– Кровавая Мэри знает, что ты не спишь, мерз-с-ский человек. Кровавая Мэри съес-ст твое сердце, и твои почки, и твои легкие, и твой язык… Еще Кровавая Мэри сыграла бы с тобой в картишки, – шепот вдруг превратился в совершенно нормальный девчачий голос. – Если ты не выдашь Кровавую Мэри воспитателям, который сейчас набегут.
Несколько секунд было тихо, затем в матрас снова запинались.
– Эй, ты же не спишь. Если Кровавой Мэри надо спрятаться под другой кроватью, ты так и скажи. Я не смотрела, к кому забежала, если ты из нервных послушных зануд – прости, что потревожила, сейчас перепрячусь. Ау?
– Уходи, – выдавил Митя, и в этот момент в коридоре стало шумно.
Из-под кровати выругались.
– Не сдавай, пожалуйста. За мной желание.
Наружу выпросталась рука, нашарила край одеяла и стащила его вниз, закрывая как занавеской пространство под кроватью.
– Я верну твое одеяло, как только они уйдут. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помоги тупой Кровавой Мэри.
Шаги, шепот нескольких человек – и кто-то повернул дверную ручку и медленно, стараясь не скрипеть, открыл дверь. Внутрь хлынул свет, и Митя невольно зажмурился.
– Это комната Корнеева, – он узнал голос Ложкина. Ложкин явно был зол и хотел спать. – Можно тут дальше не задерживаться, этот детеныш – параноик, была б тут девчонка, он бы уже верещал.
– Хм? – задумчиво отозвался кто-то, а Митя сжал кулаки под одеялом. Параноик, значит? – Ладно, коллега, гляньте на всякий случай под кроватью, и идем дальше, пока мальчик не проснулся.
Снизу не доносилось ни звука. Митя понятия не имел, кто эта «кровавая дура» и что она натворила такого, что ее ищут посреди ночи по всем комнатам, и почему она не могла залезть под чью-то еще кровать, и у него не было ни малейшей причины ей помогать – но он почему-то откинул одеяло, сел и спустил ноги на пол.
– К вашему сведению, – сказал, – мальчик уже проснулся. Позвольте осведомиться, по какому праву вы нарушаете мой режим?
В дверях стояли Данилин и Ложкин, за их спинами маячили еще двое, но Митя щурился и не мог разглядеть. Ложкин по-лошадиному фыркнул.
– А то ты днем не выспался, Корнеев.
Отступать было поздно. Казалось, Митя босыми пятками ощущает встревоженное дыхание из-под кровати, теплое и прерывистое. Он встал и шагнул вперед, прямо к Ложкину, и уставился на него, задрав голову. Сердце разошлось и бухало в груди, как будто собиралось захлебнуться кровью прямо сейчас, но подлая эндокринная система уже впрыснула в кровь адреналин, и Митя ощущал неуместную бодрость и воодушевление – и старался не думать о том, что добавляет в список своих сегодняшних промашек еще одну, сознательную. Утром были камешки, а это, если подумать, натуральный булыжник.
Ложкин попятился, когда Митя уперся в него чуть ли не носом и заявил:
– Вы нарушаете нормы. Как несовершеннолетний обучающийся я должен спать от девяти часов в сутки, а мои индивидуальные физиологические особенности не позволяют мне быстро засыпать, если имело место стрессовое пробуждение. По вашей вине завтра я буду не в лучшей форме, а вечером мне предстоит ехать к пациенту. Качество оказываемой помощи может пострадать. Вы этого хотите?
К концу тирады он вдруг услышал, что голос у него дрожит, как будто он собрался разрыдаться. Данилин, склонив голову, глядел на него и поглаживал свою наполовину седую куцую бородку. Под его взглядом Митя ощутил себя так же, как утром – под взглядом отца Кирилла, и отвернулся, невольно ссутулив плечи. Господи, если они сейчас все-таки заглянут под кровать… Он ведь не сможет солгать, что не знал, что там кто-то есть, ему вообще не положено лгать, он же, черт возьми, «апостол нового времени», а апостолы не лгут.
И не укрывают под кроватями странных девчонок.
– Идемте, Иван Андреевич, – негромко уронил Данилин. – Дмитрий совершенно прав, нам не стоит мешать ему отдыхать. Дмитрий, мои извинения.
Дверная ручка щелкнула, снова стало темно. Свет сочился только из белой полоски под дверью, и Митя мог разглядеть разве что свои ступни. До него дошло, что он стоит босиком на холодном полу, и он отшагнул на массажный коврик у стены. В ступни впились резиновые пупырышки.
Несколько секунд – и из-под кровати показалась сначала коротко стриженная голова, потом – голые плечи. «Кровавая Мэри» шустро вылезла, отряхнула с коленок пыль и вдруг налетела на него, стискивая в объятиях.
– Вот это ты даешь! – она была выше на полголовы и шептала ему в макушку. – Настоящий боевой зануда. За мной долг.
– Отойди, – едва слышно выдавил он.
Она отступила на шаг, пихнула его кулаком в плечо. Он, сцепив зубы, отвернулся, медленно, на неверных ногах отошел к окну. Чертыхнулся, сдернул футболку, швырнул на пол.
Все тело казалось липким, облитым какой-то дрянью. Нужно в душ. Ему просто нужно в душ.
– Эй, ты чего? – хихикнули за спиной, и он рявкнул уже в полный голос, не заботясь, что их услышат:
– УБИРАЙСЯ!
Судорожно провел рукой по плечу, ногтями оставляя жгучие борозды, резко развернулся, хлопнул дверью ванной. Содрал с себя пижамные штаны и белье, выкрутил на полную кран с горячей водой, забрался в душ и выдавил на мочалку антисептический гель. Пар поднялся до потолка, вода обожгла кожу, но он не сдвинулся – напротив, залез под обжигающие струи целиком и принялся водить мочалкой по телу, не щадя. Запахло ванилью и медом.
В дверь ванной робко постучали, и даже сквозь рокот воды и шум крови в ушах он услышал голос этой гребаной девчонки:
– Эй. Ты что-то совсем психанул, я даже растерялась… Извини, если обидела. Я ничего такого не хотела. Эй?.. Ну ладно. Спасибо, что выручил. Я отплачу.
Он уткнулся лбом в стенку душевой и сухо, сдерживаясь, всхлипнул.
6
– …пристегнись, или я остановлю.
– Закрой свой рот и веди аккуратнее, тебе что, первый день права выдали?
– Я останавливаю.
– Упертый ко… Там канава, идиот!
– Заткнись, женщина, и застегни гребаный ремень.
– Дай я сяду за руль.
– Ты сядешь за руль, только когда я сдохну.
– Ты…
– ЗАСТЕГНИ СРАНЫЙ РЕМЕНЬ, СРАНЬ ГОСПОДНЯ, ВАЛЯ!
Машину качнуло и накренило, послышался приглушенный всплеск и скрип. Батя выматерился. Антон глянул в окно и узрел покачивающиеся стебли камыша. Батя таки влетел колесом в вонючее болотце, гниющее в канаве, и теперь там снаружи что-то тихо и лениво чавкало.
– Поздравляю, – мать, выглянув в окно, взбесилась еще больше. – Поздравляю, Николай, мы увязли. Я не пойду толкать твою машину.
– Жопу наружу выкидывай и делай что хочешь, – отрезал отец и глянул на заднее сидение. – Тоха, пошли.
Они вылезли наружу, на пустую дорогу, узкую и раздолбанную. Трава вырастала прямо из-под асфальтовых колдобин, качалась на ветру, желтая, мокрая от дождя. Воняло выхлопами и землей. Слева уныло дрыхли голые поля, справа темнели елки и клены, метрах в ста впереди ржавела древняя автобусная остановка. Батя саданул дверью, закатал рукава, сплюнул под ноги.
– Запомни, – сказал мрачно, когда они уперлись в массивный зад «реношки», – никогда не сажай рядом женщину, если ты за рулем. А если посадил – не вступай в переговоры.
Мать вылезла через водительское место, поежилась и, глянув на батю так, словно это он устроил тут посреди дороги октябрь и прохладный ветер включил лично, нажав на какую-то секретную кнопку, завернулась поплотнее в свою дебильного вида шаль с крупными дырками. Минувший год ничего не поменял – одевалась она все так же стремно, в длинные юбки и водолазки под горло, и наматывала на волосы убогие платки – сегодня, например, коричневенький, цвета засохшей блевоты. Мама, если твоему Иисусу такое нравится, что он поганый извращенец.
Они поднажали, и машина с готовностью нырнула глубже в канаву, подняв волну вонючих брызг. Антон утопил в канаве кроссовок, отец – два, и они синхронно изрекли:
– Да ебаный карась!
Антон заржал, отец зычно хмыкнул, мать опалила их взглядом, обещающим инквизиторский костер, сорок плетей и адское пламя, и уже открыла рот для гневной отповеди, которую Антон, к слову, мог предсказать до мелочей, – как батя осадил ее:
– Садись за руль и газони, иначе хер мы отсюда выедем.
Поджав губы, мать вернулась в машину. Двигатель коротко рыкнул и заурчал. Отец навалился на багажник мощным плечом, напрягся, жилы на шее надулись, лицо побагровело. Из-под колес полетела грязь, мокрыми комьями оседая на джинсах. Стиснув зубы, они толкали проклятую машину и месили ногами грязь, пока колеса не выползли на асфальт. Багажник выскользнул из-под рук, и Антон полетел бы на землю, если б батя не поймал его за локоть.
– Ша, – вернув ему равновесие, батя вдобавок хлопнул его по плечу. – Молодцом, Тоха.
– Ага, – оскалился Антон, – только выглядим мы теперь как два бомжа.
Переступив с ноги на ногу и полюбовавшись, как тухлая жижа лениво стекает на асфальт, батя смачно шмыгнул носом и сказал:
– Да похер. Залазь иди.
Устраиваясь на заднем сидении, Антон недоумевал: да как им вообще пришло в голову приехать за ним вдвоем. Что это – нехватка экстрима? Жажда скандала? Конкуренция «кто лучше выполняет родительские обязанности»? Ну, по поводу последнего Антон мог бы утешить их обоих: просасывали оба. Пока все детки в школе хвастались, что у них мама – врач, а папа – банкир, Антону оставалось только поведать, что его мамаша – сектантка, иисусья фангерл, «господи поцеловал тебя, сынок», да упаси все сраные демоны ада, а батя – ссыкло, удравшее с корабля в разгар шторма, и теперь у него новая тетка, новая тачка, новые дети.
Унылые пейзажи за окном сменялись такими же унылыми пейзажами – голые поля, дохлые кусты, лысые холмики, мрачные сосны стеной, опять поля. Мамка ругалась, требуя немедленно развернуться и ехать домой – «переодеть ребенка, он же выглядит, как чушка!», отец выкручивал магнитолу на максимум и повторял, что хрен ей и «где ты видишь ребенка, этому лосю семнадцать, сам постирает свои портки». Антон мог бы напомнить, что в интернате есть прачечная и тамошние детишки ничего своими ручками не стирают – вдруг, прости господи, надышатся мыльными испарениями и слягут, но чутье подсказывало, что его мнение, как всегда, никого особенно не интересует. Ха, как он мог забыть.
Ковыряя ногтем наклейку на спинке переднего сидения – какая-то дебильно улыбающаяся принцесска в желтом платьице, – Антон думал: хоспади, да как они к этому пришли. Едут из детской тюрьмы в машине лысеющего мужика, в которой он обычно возит своих новеньких дочек, которые лепят тут наклейки и крошат на пол печенье, вон, валяется под сиденьем, – едут, и предки срутся, как малолетние идиоты, и чужие они друг другу до тошноты, и единственное, что их сейчас объединяет – их сын-дебил, отбывший свой скромный срок. А ведь все было нормально – сколько, шесть лет назад? Не такая уж вечность, а смотрите, сколько всего просрали.
– Я просто не понимаю, почему ты сегодня так отвратителен, – мать дождалась, пока магнитола заглохнет, и горестно вздохнула. В зеркале ее узкое, сухое лицо казалось лицом старухи. – Ты ведь мог бы не ругаться со мной, а уделить время сыну. Поговорить, Коля. Наставить его на истинный путь. Ты же видишь, он сбился, Господи, Коля, он блуждает в темноте, а ты не хочешь протянуть ему руку.
– Ма, – не выдержал Антон, – какая темнота, я тебя умоляю. Называй вещи своими именами – я переборщил с наркотой и попался. Мой путь был светел, но неосторожен.
– Твоими устами говорят бесы.
– Моими устами говорю я.
– Я не желаю слышать эти глупости. Мой сын никогда не стал бы насмехаться над собственным грехом и горем.
Антон встретился с ней глазами в боковом зеркале, хмыкнул и сполз ниже на заднем сидении. Что ж, мам, ты хреново знаешь своего сына, что еще тут сказать.
– Возможно, я приемный, – он, конечно, тут же нашелся, что еще сказать. Отец отпустил руль, заложил руки за голову, потянулся до хруста и ничего не выражающим тоном возразил:
– Нет. Я проверял, ты кровный.
Антон засмеялся, но живо заткнулся, увидев, как скривилось лицо матери, став из старушечьего еще и серым и помятым.
Мать приезжала каждые выходные – он не успел соскучиться, полюбить ее заново или что там еще случается, когда ты с кем-то надолго расстаешься, но зато успел забыть, как часто его колола, выводила эта ее искусственная, ненормальная болезненность, эта выученная несчастность, и сколько раз он говорил – мама, мама, хватит дурить, возвращайся.
Тишина быстро налилась тяжестью, давила на плечи невидимым грузом, и молчать было невыносимо до зуда во всем теле. Мать уже отвернулась и скользила пустым взглядом по засыпающим землям. Антон поерзал, кусая губы и глотая раздражение, поскреб пальцами предплечья, унимая не существующую чесотку. Отец переключил волну, в динамиках затрещало, затем салон наполнился гитарными басами и звоном барабанов.
Так и не найдя слов, Антон прислонился лбом к стеклу. Нет, один из них определенно должен был остаться дома. Ладно, сколько там осталось этого пути – полчаса от силы, и все – привет, интернат, прощайте, мама с папой. И привет, Митька, единственный нормальный человек в этой семье.
7
Он опоздал на гимнастику снова и вышел в холл, когда все уже тянулись руками к потолку. Стараясь не привлекать внимания, он расстелил зеленый коврик, шагнул на него, скинув тапочки, и, выдохнув, повторил движение, закинув руки немного дальше головы и представив, что «очень надо достать что-то с самой верхней полки», как их учили еще в школе.
Он опоздал, потому что искал водолазку с достаточно длинными рукавами. Отеки за ночь не спали, и руки покрывали вздувшиеся красные полосы, усеянные крапинками там, где лопнули мелкие сосуды, и стоило ему только представить, что это кто-то увидит, как вспыхивало желание содрать кожу с рук вовсе. Зуд так и не прекратился, но утих, и после утреннего ледяного душа Митя хладнокровно перебрал три рубашки и три водолазки, прежде чем длина рукавов его удовлетворила – даже если он вытянется, никто не увидит, что он с собой сотворил.
Оставалось всего ничего – скрыть это и от врачей, прямая обязанность которых – не дать никому ничего скрыть, и добиться, чтобы ему поставили допуск на сегодняшний вызов.
После гимнастики Севастопольский нагнал его у дверей комнаты и, наклонившись, язвительно шепнул: «Накрылся твой сегодняшний вызов, лошара». Митя проводил его долгим взглядом. «Треснуть бы», – мелькнуло в голове недостойное, и Митя тут же тряхнул головой и толкнул дверь. Чушь. Севастопольский – завистник, это всем известно, и все его злость и язвительность замешаны на этой зависти, как цемент на извести. Если бы он выбрал вместо зависти упорство и скромность, ему давно бы начали доверять вызовы серьезнее насморка и синяков. Мама правильно говорила: «Господь не любит более всех гордецов и завистников». Часть про гордецов предназначалась Антону, про завистников – ему, Мите, но Антону всегда было плевать. Поэтому Антон и закончил в тюрьме, а Митя – одним из лучших в своей возрастной категории.
Он позавтракал овсянкой и сладким чаем, намазал тост медом, впихнул в себя половину яйца – их, как всегда, ужасно переварили, и желток походил на жеваную резину. На улице было тихо и мирно, деревья за окном стояли, не шевелясь, из-за тонких облаков иногда выглядывало солнце, чтобы тут же исчезнуть. Он допил чай одним глотком – и в этот момент за соседним столом вдруг засмеялись, зычно, словно бомба взорвалась. Он скосил глаза – девятый год. Самые старшие из второго корпуса, идеально опрятные, негигиенично таскающие с общей тарелки сырники, шумные. Кто-то уронил вилку, и она запрыгала по кафельному полу. Смех не умолкал, и Митя, отодвинув стул, поднял свой поднос и понес на мойку.
Одна часть его, слыша, что смех не умолкает, думала – праздные идиоты, неужели они считают, что они здесь одни, эгоисты. Вторая часть думала – даже если я захочу сесть с кем-то позавтракать и поесть сырники с одной тарелки, что само по себе дикость и бред, мне будет не с кем.
Грохнув поднос о медленно ползущую ленту, он дернул головой: о чем ты вообще думаешь.
Медосмотр начинался сразу после завтрака и длился до уроков. Митя вышел на улицу – в лицо дыхнуло дождем и землей. Постояв на крыльце и поглядев на очередь около корпуса медпункта, он поежился от прохладного ветра и подумал: нет. Если он хочет получить хоть малейший шанс обвести вокруг пальца опытных въедливых медиков, ему не стоит идти к ним сейчас – в начале осмотра, когда они, выспавшиеся и неторопливые, кружат по своим владениям, как голодные поморники. Надо подождать. Спустившись по лестнице, он направился не к медпункту, а за корпус – на заднюю, «дикую» часть территории, засаженную яблонями и не облагороженную ничем, кроме пары некрашеных скамеек и старой деревянной беседки.
Накрапывало. Куртку Митя оставил в раздевалке и щеголял в водолазке, и что-то подсказывало – это не очень умно. На «дикой» территории не было ни дорожек, ни тропинок, только прошлогодняя трава и грязь по щиколотку.
Стоило зачерпнуть ботинками старую траву – и носки промокли, и низ штанин тоже.
Придурь, идиотизм, халатность.
Что ты, господь тебя помилуй, делаешь.
В беседке пахло старым сырым деревом, плесенью и гнилью – под скамьями валялись кучки прошлогодней листвы, почерневшей за зиму. Он сел, поерзал на отсыревшей скамейке. Дождь тарабанил по крыше. Митя моргнул несколько раз, зевнул в ладонь и уставился в темный, затянутый рваными клочками паутины потолок беседки.
Два года назад он застал тут Антона – с сигаретами, чипсами и какой-то лохматой толстой девчонкой. Девчонка ерзала у него на коленях, хрустела чипсами, и они гоготали над каким-то видео в телефоне. Кончик сигареты тлел в сумерках рыжеватым огоньком. Митя потом не разговаривал с Антоном почти сутки, пока Антон не устал от этого и не вынес его на улицу, закинув на плечо, и не пригрозил кинуть в лужу, если он немедленно не поделится, какого черта дуется.
– Эй, булочка. Ты чего тут?
Он вздрогнул. Девчонка с копной светлых волос, опершись грудью о бортик беседки, смотрела прямо на него. Хитрые сощуренные глаза, громадная, совсем не ее размера джинсовка поверх свитера. Он не узнал ее саму, но узнал голос.
«Кровавая Мэри».
Дождь часто стучал по крыше беседки. Все вокруг казалось подернутым дымкой, стены интерната было не разглядеть – размытое пятно, и все. Сырость забралась под водолазку, было зябко. Митя был уверен, что не спал и не дремал, но последние – сколько, пять минут, полчала? – остались в памяти гулкой туманной секундой. Он обнаружил, что спина затекла, и повел лопатками.
– Прячешься от общества?
«Кровавая Мэри» вдруг подпрыгнула, закидывая колено на бортик, и ловко перелезла внутрь. Митя опомниться не успел, как она уже уселась напротив, тряхнула волосами, перекидывая их за спину, и наклонилась вперед, стискивая лавку ладонями.
– Я тут тоже иногда прячусь, – сказала доверительным шепотом. – От воспиталок и зануд. А ты от кого?
– Ни от кого.
Под рукавами водолазки зачесалось, как будто по коже забегали мелкие насекомые. На секунду Митя представил, что они и правда там – муравьи, или мухи, или мерзкие зеленые жучки, живущие в цветочных горшках, и не выдержал – запустил ладонь под рукав. «Кровавая Мэри» наклонила голову.
– Ты в порядке, булочка?
– Да, – выдавил он сквозь зубы. На коже, конечно, ничего не оказалось. Он натянул рукава пониже и сцепил пальцы в замок. – И я тебе не «булочка».
«Кровавая Мэри» помолчала – и вдруг спокойно, как о погоде, спросила:
– Ты что, режешь руки?
– Что, прости?
– Порезы, – повторила она, ничуть не удивившись, – ты оставляешь на себе порезы, когда взволнован или огорчен?
Дождь зашумел еще сильнее. Ветер разошелся и хлестал наискось, зашвыривая в беседку ледяные капли. У девчонки на лице не читалось ничего, кроме искреннего интереса – прохладного и деловитого. Она что, ненормальная?
– Ой, да ладно тебе, – она закатила глаза и улыбнулась, а потом вдруг закатала рукава джинсовки и вытянула руки. – Я так делала раньше, вон несколько шрамов осталось. Что такого-то?
Правое запястье перечеркивали несколько белесых выпуклых линий. Левое выглядело почти чистым. Если на нем что-то и осталось, то разглядеть это в сумрачной беседке было невозможно. И словно этого было мало, девчонка подняла ногу и подтянула повыше штанину. Прямо над резинкой желтого носка выпирал шрам в виде треугольника. Небольшой, размером с рублевую монету.
– А это мне просто захотелось, – весело поделилась она. – У моей подруги такой же, на том же месте. Это как парные кольца или что-то вроде того.
Отвести взгляд от аккуратного, вопиющего, ненормального этого шрама оказалось почему-то ужасно тяжело. Митя отчетливо представил: лезвие, кожа рвется с тихим, не слышным человеческому уху треском, кровь стекает на пятку, перекись льется на рану и вспенивается, и красноватая пена скатывается вниз. Насколько глубоко нужно резать, чтобы остался шрам?
– Эй, там же дождь, ты куда?
– На осмотр.
Дождь захлестал по плечам, по лицу, по голове. Водолазка промокла за несколько секунд. Сунув руки в карманы и ссутулив плечи, Митя зашагал к корпусу. Под ногами уныло и смачно хлюпало. Кое-где из-под земли показалась уже новая трава – светлая и упругая. Митя втаптывал ее в землю, не щадя.
Девчонка нагнала его уже у двери.
– Кстати, мы не познакомились толком. Я Маша Демидова. А как тебя зовут? Раз ты не булочка, наверное, у тебя есть настоящее имя. Ну?
– Никак не зовут.
Он толкнул дверь. Девчонка прошмыгнула в корпус вслед за ним. Фыркнула, затрясла волосами, стянула джинсовку, затем и свитер, оставшись в короткой мятой футболке. Стоя рядом с ней, Митя отметил, что она выше него на голову.
– Значит, будешь булочкой, – она подмигнула, и Митя, скрипнув зубами, отвернулся. В самом деле, какого дьявола он тут стоит. Перед глазами еще белел треугольник шрама на тонкой лодыжке, и хотелось плеснуть в глаза водой, чтобы эта дрянь вымылась навсегда.
Он двинулся к лестнице, и уже между первым и вторым пролетом его догнал веселый голос:
– Хорошего дня, булочка! Береги руки!
В комнате он стянул мокрую водолазку, кинул в корзину под раковиной и надел другую. Рукава были впритык, но времени привередничать не было. На часах было девять сорок, до конца осмотра оставалось пять минут. Митя умылся, наскоро вытер волосы полотенцем, зачесал назад деревянной расческой с частыми зубчиками, швырнул расческу на тумбу и вышел из комнаты.
В медпункте было пусто – только за сестринской стойкой, наморщив лоб, изучала записи молодая докторша. Митя попросил прощения за то, что опоздал, и поведал полную трагизма историю о том, как его приятель опрокинул на него тарелку с овсянкой, и ему пришлось переодеваться и мыть голову, и попросил разрешения все-таки пройти осмотр. Равно к концу его истории под потолком ожили динамики и издали мелодичную трель – звонок к первому уроку. Докторша наградила Митю суровым взглядом, как следует отчитала, а затем уточнила имя и год обучения и, наскоро выяснив, есть ли у него жалобы («Нет, только на остатки овсянки в моих ботинках»), поставила отметку в журнале и велела: иди.
Осознание, что он только что наврал доктору, причем намеренно, настигло его только у класса истории и отозвалось прилившим к щекам жаром. Поэтому, заняв свое место, Митя с готовностью нырнул в контрольную про французских средневековых правителей и их беды.
И все равно ему мерещился смех Антона и его искреннее «красава, братишка!».
8
Доехать до интерната без приключений не удалось. За десять минут до заветных ворот машина смачно кашлянула и заглохла, и батя ковырялся под капотом целую вечность. Грохотал ключами, матерился, сплевывал на землю. Мать стояла у него над душой, пока батя не наорал так, что задрожали верхушки скромных тонких сосен. Антон сначала валялся на заднем сидении, воткнув в уши плеер, потом уточнил все-таки у бати, нужна ли ему помощь, на что тот напомнил, что у кое-кого тут еще ни прав, ни мозгов, ни инженерного мышления и не пошел бы кто-то нахрен. Антон пошел – не нахрен, а прогуляться по шоссе. Мимо ковыляли тяжелые загородные автобусы, выпущенные с заводов еще в эпоху динозавров, и Антон еле отогнал крамольную мысль выпросить у матери полтинник и доехать своим ходом.