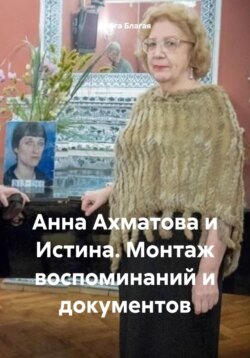Читать книгу Анна Ахматова и Истина. Монтаж воспоминаний и документов - - Страница 1
Глава 1. «Языческое детство». Знакомство с Гумилёвым
ОглавлениеЯ актриса театра и кино, выступаю с сольными чтецкими программами. Когда я составляла литературную композицию по воспоминаниям, письмам и стихам Анны Ахматовой, оказалось, что воспоминаний об Анне Андреевне написано чуть ли больше, чем о ком бы то ни было, но они разрознены и противоречивы.
Подруга детства Ахматовой, Валерия Сергеевна Срезневская, в своих воспоминаниях отмечала: «Истина, даже юридически, возникает из перекрёстных взглядов и мнений, а значит, каждый свидетель ценен по-своему – только бы он не лгал и не выдумывал фактов.»
Но, как говорится, «на всякий роток не накинешь платок». Ещё в 1964 г., столкнувшись с потоками вранья о себе, Анна Ахматова написала очерк «Мнимая биография»: «Невнимание людей друг к другу не имеет предела. И читатель этой книги должен привыкать, что всё было не так, не тогда и не там, как ему чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят “в основном” сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбережённых сплетен. (Мы до сих пор храним змеиное шипение Полетики о Пушкине!!!) Несогласных со мной я только попрошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе…»
В 2007 году появилась омерзительная книжка «Анти-Ахматова», в которой дефектолог Тамара Катаева собрала все гадости, которые были когда-либо написаны об Анне Андреевне. Ну как тут не вспомнить, что в таких случаях говорила сама Ахматова (в передаче Л.К. Чуковской): Анна Андреевна «рассказала про даму, обогатившую её при посещении целым ворохом сплетен. “Корить грех; это её органическое свойство; так, например, у всех людей существуют особые железы, выделяющие слюну; а у неё в придачу – железа, выделяющая злые гадости. Что же она может с собою поделать?”»
Я решила написать такую биографию Ахматовой, которая смогла бы послужить развёрнутым комментарием к её стихам. А исследую я жизнь Ахматовой, потому что она представляется мне чрезвычайно поучительной. Вот что пишет о её творчестве профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук М.М. Дунаев в книге «Вера в горниле сомнений»: «Можно утверждать, что внутренняя направленность творчества Ахматовой определялась преодолением плотского, греховного и тяготением к Горнему. К Богу.
Она поняла то, что не в силах понять ещё многие ныне: искусство религиозно по природе своей. Михаил Ардов в воспоминаниях об Анне Ахматовой утверждает: “Много раз при мне и мне самому она высказывала своё глубочайшее убеждение:
– Никогда ничто, кроме религии, не создавало искусства.”
Воспоминания относятся к последним годам жизни Ахматовой. К тому времени, когда она была несомненной христианкой, преодолевшей соблазны, столь заметные в раннюю пору у “царскосельской весёлой грешницы”.»
* * *
Из воспоминаний Ахматовой: «Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота.»
Из записи в метрической книге: «Родители её капитан 2-го ранга Андрей Антониев Горенко [с ударением на первом слоге] и законная жена его Инна Эразмовна [урожд. Стогова]. Оба православные.»
17 декабря 1889 г. Анну Горенко окрестили в Преображенском соборе г. Одессы.
Из воспоминаний Ахматовой: «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Её мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.
Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: “Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска.” Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. “Боже, как я плохо тебя воспитала”, – сказала она.»
«11-и мес. перевезена в Павловск на Солдатскую (первая фотография).»
«Годовалым ребёнком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.
Мои первые воспоминания – царскосельские: зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в “Царскосельскую оду”.»
«Для характеристики “Города муз” следует заметить, что царскосёлы (включая историографов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу именем Тютчева.»
В 1892 г. родилась сестра Ахматовой Ирина (Рика), которая прожила всего 4 года.
Из воспоминаний Ахматовой: «Одну зиму [1894 г.] (когда родилась сестра Ия) семья провела в Киеве… Там история с медведем в Шато де Флер, в загородку которого мы попали с сестрой Рикой, сбежав с горы. Ужас окружающих. Мы дали слово бонне скрыть событие от мамы, но маленькая Рика, вернувшись, закричала: “Мама, Мишка – будка, морда – окошко”, а наверху в Царском саду я нашла булавку в виде лиры. Бонна сказала мне: “Это значит, ты будешь поэтом.”»
«В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски.»
Из воспоминаний Валерии Срезневской: «С Аней мы познакомились в Гунгербурге, довольно модном тогда курорте близ Нарвы, где семьи наши жили на даче. Обе мы имели гувернанток, обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими «мадамами» на площадку около курзала, где дети играли в разные игры, а «мадамы» сплетничали, сидя на скамейке. Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихенькой и замкнутой…
Непокорная и чересчур свободолюбивая, она в семье была очень любима, но не пользовалась большим доверием. Все считали, что она может наделать много хлопот: уйти на долгое время из дома, не сказав никому ни слова, или уплыть далеко-далеко в море, где уже и татарчата не догонят её, вскарабкаться на крышу – поговорить с луной, – словом, огорчит прелестную синеглазую маму и добродушную и весёлую фрейлейн Монику.»