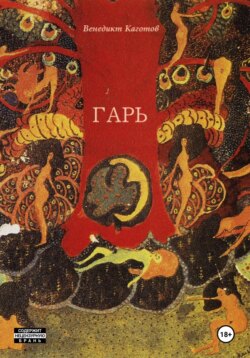Читать книгу Гарь - - Страница 1
Глава 1
ОглавлениеОт автора
Все описанные события действительно произошли в Москве в 2020-2021 годах. Автор лишь изменил имена некоторых героев и отдельные эпизоды, чтобы никому не навредить и сберечь добрую память об ушедших.
Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт?
Цицерон. Первая речь против Катилины
Пролог
Около восьми утра тучное небо над девятиэтажкой напротив треснуло. Сверкнуло майское солнце, ударило в газон и принялось запекать к завтраку жука на металлическом балконном парапете. Профессор Индриков в сотый раз подключился к шифрованному SPM-чату на телефоне. Как и час назад сообщение до контакта не дошло и удалилось. Дрожащими от волнения и бессонной ночи пальцами он повторил запрос, выставив код экстренной встречи: три эмодзи красного ежа и три белого яблока. Просто немыслимо, что чат пролежал мертвым всю ночь. Без оператора, без протокола. Верх идиотизма, и, конечно, показатель, как к нему относятся в конторе, как его, сука, ценят там. Время, между тем, быстро утекало. Оставаться в квартире становилось все опаснее.
В раздумьях профессор прижал ладонь ко рту, чиркая указательным пальцем по щетке усов, кое-где ещё искривших рыжим волоском. Вытряс очередную сигарету – британская пачка, чей-то завалявшийся подарок – и закурил, глядя на пустой старый двор. Как и вся Москва, Марьина Роща замерла в ковидном ступоре. От табака мутило. Вкус не просто бил натощак, но бил по всем пятнадцати годам тяжелой завязки.
Вспоминался вчерашний вечер, который все разрушил. Темнеющие повороты в глубинах Арбата, вой сирены со стороны кольца. Он вдавливает туфли в клумбы, чтобы налипла глина, чтобы каблук лишний раз не бил по собянинской плитке. Дурак, не подготовился. Он идет медленно, почти крадется, сжимает вспотевшей ладонью ручки портфеля, высматривает впереди спину в серой ветровке. Не верится. Ему еще не верится, что это правда Марат. Здесь. В самом центре столицы. В разгар пандемии. Однако ошибки быть не может. Только что этот неприметный человек в синей кепке, в чёрной антиковидной маске, объявился у дома, где живет отец Марата, где в далекие времена бывал и сам Индриков. Человек пробыл там час с четвертью и вот теперь петляет переулками. Человек, которому въезд в страну закрыт, которого тут ждут немедленный арест, приговор и многолетний срок.
Конечно, Марата нужно было просто разглядеть, удостовериться. Даже без фото, лишь опознать, а там бы уже пробили по камерам. Столько за ним идти было ни к чему. Но Индриков пошёл – сноровка давно не та, да и внешне по физике мало, что поймешь, тем более если не видел человека шесть лет. Индриков выдохнул дым. Удивительно, как легкие помнили привычку. Ни кашля, ни рези в носу. Только легкая дурнота. Он вытер платком лоб и взмокший хохолок между залысинами. Так что же было дальше? Вот он выглядывает из-за угла на безлюдную улицу. Ни звука. Серая ветровка испарилась в одном из двухэтажных усадебных корпусов. Шагов двадцать по тротуару – и никого. Сердце заходится в тахикардии, трясущаяся рука перехватывает портфель, как вдруг над головой что-то шаркает. Прямо над ним на балконе второго этажа стоит человек в серой ветровке. Всего в полутора метрах. Слабый фонарный свет выхватывает голову, скрытую кепкой и высоко натянутой на нос санитарной маской. Несколько секунд они смотрят друг на друга. И в этих обманчиво добрых под черными бровями глазах, на самом деле – пустых и безжизненных – он безошибочно узнает Марата. Как и тот – его. Марат медлит, поднимает большой палец правой руки, прикладывает ноготь к губам, целует. Жест, в известных обществах означающий поминание, прощание с умершим. Еще мгновение, опять шаркает ботинок, дребезжит стеклом балконная дверь. Наступает окончательная тишина.
Телефон на табуретке вдруг зашелся в жужжащей вибрации, и профессор вздрогнул. Недокуренная сигарета полетела за парапет. Скорее же! Ну! С третьей попытки скользящие пальцы набрали пароль. Одной строкой в чате висело:
– Была вне зоны, возвращаюсь через 2 дня.
Индриков выронил телефон на коврик. У него не было и двух часов. Если профессор не ошибался и Марата в Москву привезли те, кого он подозревал, то дело мрак. По его сведениям, тайный приезд беглому оппозиционеру, когда-то одному из главных архитекторов банковской системы страны, организовала гильдия, стоявшая за прошлогодними зачистками финансового сектора. А если так, то с ним, почти наверняка расправятся до конца дня. Но главное. Не будет ни разговоров, ни стрельбы, потому что профессор человек воцерковленный, а для от таких гильдия избавлялась особенным образом.
С трясущейся головой Индриков сел на табурет. То, что в гильдии росла новая сила, было понятно давно, но ее возможности, ее волевой зловещий фанатизм… Когда же это вскрылось? Да, там потрясли правление Мосбиржи. Два простеньких не привлекших широкого внимания суицида. Потом директор «БелИнвеста» в Витебске с заточкой в горле. История тоже понятная. А вот потом случился Смоленск. Демонстративная казнь директора банковского холдинга вместе с сыном десяти лет, нарочно обставленная халтурной бытовухой: якобы под кайфом зверски зарезал сына, после опомнился и вспорол себе живот на манер харакири. Чудовищные кадры. Бывалых оперов рвало.
Плюя на все предосторожности, профессор написал в ответ:
– Саша, у меня двух дней нет!
Перечитал. Поднял взгляд на кривые клены в завязавшихся почках и судорожно облизнул губы. Нет уж. Истерить не позволительно. Он стер напечатанное, подхватил брошенные на балконе галстук, жилет, пиджак от тройки и вошел к себе в кабинет.
Портфель собрал быстро. Отершись не высохшим после ночного душа полотенцем, переоделся. Папка с бумагами, паспорт, второй телефон, зарядка. Профессор засунул руку за большую икону и вытащил два медных с ладонь триптиха. XV век, старинная семейная реликвия. Кошелек, маска с перчатками. Что еще? Таблетки. В бега так, в бега. Придется брать целый набор, упаковку и четыре банки. Плюсом ингалятор, баллончики с аэрозолем. Подумав, он запихнул в портфель еще и небольшой винт-штопор. На случай. Сел в кресло и прислушался. В квартире лишь постукивали часы.
Теперь главное. Индриков выбрал из стола остальные документы, взял ноутбук, бутылку виски и, аккуратно скрипя паркетом, вошел в уборную. Под нараставший гул вытяжки он открыл над брошенным в раковину ноутом горячую воду, бросил ворох бумаг в ванную и кинул вспыхнувшую спичку. Горело долго, даже с виски, а тянуло неважно. Пришлось разложить под дверью смоченное полотенце, чтобы дым не вырвался в комнаты. Кое-как от всего избавившись, он смыл пепел, оттер от черноты эмаль и направился в коридор. Плана пока не было, профессор лишь понимал, что нужно как можно скорее покинуть дом.
Елена Павловна еще спала. В приоткрытой двери виднелось, как она сладко куталась и сопела в одеяло, все такая же соня, как и в институте. Слышала ли она, как он вчера вернулся за полночь? Индриков сжался. Навернулись слезы. Вот так ее оставить, не попрощавшись, возможно навсегда. Он наскоро написал в блокноте, стараясь выдержать ровный почерк: «Дорогая Елена Павловна, уехал в сад работать над книгой. До среды, целую. О.».
Ругая себя, за то, что, как дурак, жег бумаги в новой одежде и теперь провонял, Индриков спешно запер дверь. Держа в одной руке портфель и мусорный пакет с ноутом, он посмотрел в пролет наверх и вниз, вызвал лифт, а сам стал спешно спускаться по лестнице. На улице нужно было провериться. То, что его не ждали прямо тут, ни черта не значило. Может, хотят поводить его по городу, чтобы срисовать контакты или пару адресов.
Где-то в сквере по направлению Бутырки, минутах в пятнадцати, кажется, работал фонтан – там можно было попробовать скинуть ноут. Вариант не лучший, память вытягивали и из мокрого железа, но откладывать до путей казалось слишком опасным.
Вскоре по дороге попалась детская площадка, огороженная домами, с шлагбаумами на въездах. Кроме футбольной коробки тут стоял облупленный игровой домик с горкой, откуда просматривался весь двор. Место хорошее. Профессор достал свой обычный рабочий телефон, кинул вещи в домике и двинулся дальше, вызывая на ходу такси. Почти сразу на заказ откликнулся Зейнал Хасай оглы, который должен был подъехать минут через одиннадцать со стороны Сущевского Вала.
На углу дома, за шлагбаумом Индриков сковырнул дерн, спрятал под ним трубку в беззвучном режиме и вернулся к домику. Сгорбившись внутри у окошка, в резком мочевом аромате он смутно представлял, что делать дальше. Может и на самом деле стоило добраться до дачи? Всего сорок минут от Савеловского вокзала. Переждать там два дня до возращения Саши. А потом? Черт его знает. Накатила злость. Сволочи. Ведь это из-за их безалаберности и полной безучастности он оказался в таком дерьмовом положении. Почти год как подал большую записку с наблюдениями по гильдии и уже тогда писал, что первые роли там явно сменились, что кто-то рвется в Минэк и Росэкономмониторинг, что состав рабочих комиссий сразу по двум якорным законопроектам обновился на треть. Тогда его не послушали. Убрали записку в стол. Не послушали и в ноябре, а что получили в марте? Сразу три якобы ковидные смерти в Минэке, и вот на должностях – знакомые лица. Но самое печальное не это, а то, Саша категорически ему не верила. Даже не просто не верила, а относилась снисходительно, насмешливо, как к неуместно увлеченному старику, мнительному, отставшему от реалий фантазеру. А ведь ее, пожалуй, могут убрать сразу после меня, подумал с грустью Индриков.
Размышления прервала машина, завернувшая с улицы к шлагбауму. Профессор достал второй телефон с защищенной связью, осторожно настроил камеру и стал ждать. Водитель немного посидел, потом, судя по силуэту, стал набирать номер. Наконец, дверь открылась. Из салона вышел спортивный мужик лет сорока в брюках и рубашке. Хрена лысого ты – Хасай оглы. Мужчина оглянулся, прошелся по улице, осмотрелся во дворе. Позвонил еще, сначала, видимо, на номер Индрикова, а потом уже на другой и, минуты две поговорив, сел обратно в машину. Такси еще постояло и вскоре уехало.
Изучая на фото водителя, Индриков сделал два глубоких ингаляторных вдоха и принялся разбирать противоречивые мысли. С одной стороны, тип, понято, непростой, и, значит, его точно ведут. Но, с другой стороны, тактика оказалась совсем не та, какую он ожидал, – слишком осторожная. Следовало отсюда только одно. По какой-то причине хозяева Марата охоту на него не открыли, а такой расклад оставлял шанс на маневр. Первым делом сейчас требовалась связь со вторым, резервным контактом. Встретиться можно здесь же на Совке, всего в получасе ходьбы. Передвигаться куда-то по Москве – самоубийство. На подходах к метро, к вокзалам он будет как на виду. Разве только автобусом, но это крайняя мера. Нужно только решить с ноутом и уйти с прямых пустых улиц.
За тем, как хрустит корпус и крошится в дробилке монитор его нового серого Asus, Индриков наблюдал в провонявшей маслом и пловом шиномонтажке Фархода. Недалеко от путей. Шел наудачу, не зная, но, догадываясь, что старый знакомый наверняка заливает ковидную грусть в том же железном бараке, где промышляет кустарной утилизацией покрышек. Не ошибся. Ротор продребезжал минуты три, уничтожив ноут, а затем и рабочий телефон. Лишь маленькая зеленая плата выскочила на память к его ногам.
Отписав своему второму контакту, налегке с одним портфелем Индриков двинулся к вокзалу через гаражи и дальше через рынок. Несколько раз попадались на глаза такси. Те это были машины или не те, но ощущение полного окружения, усиливалось. В одной из подворотен он свернул к черной двери и негромко постучал, повторяя «Дай ла джи-а-о, су». Сначала с той стороны слабо зашептала девушка, видно, не понимая, чего он хочет, а затем дверь открыл пузатый коренастый в полной санитарной экипировке хозяин Ван Донг.
– Профессор! Завтракать? – глаза пугливо разглядывали проулки за спиной гостя – Мы готовить в одиннадцать.
– Ничего, я пока чая выпью. Пустишь?
За ярким столиком вьетнамского кафе с играющими в одном из углов детьми пришло, наконец, небольшое облегчение. Щебетание малышей рождало теплые образы юности, ежегодных студенческих каникул в Ханое у отца, который лет пять руководил разными инженерными проектами.
Теперь можно было собраться с мыслями, сосредоточиться. Индриков умылся, нормально причесал всклоченные волосы на висках и затылке, затер на рукаве курки свежее пыльное пятно. Черт возьми, подумал он, прибавлю я за сегодня седины.
Резервный контакт с ответом тоже не спешил, и в ожидании чая профессор, чтобы немного перезагрузиться, пообщался с Ван Донг. Говорили о бизнесе, о жизни закрытого рынка, о поставках продуктов. Забавно, но в возбужденном состоянии вьетнамский давался куда свободнее, чем обычно. Видимо нейронка отрабатывала лингвистику на адреналине. Мелькнула вдруг и хорошая идея:
– Ван, а племянники еще держат охранный бизнес на «Садоводе»?
– Так точно. Держат – в голосе вьетнамца отозвалась гордость – На Садовод держат. На Люблино – рынок – тоже держат.
– И почем сейчас сутки с охраной?
– Нужно знать… Узнавать. Для профессора?
– Да – Индриков поправил усы – На «Садоводе». Три ночи, пару бойцов. Еще машина понадобится с водителем.
– Сделаю тогда.
При мысли, что можно ведь, и правда, залечь в Москве, в самом этническом нутре, где хрен кто найдет, стало еще легче. Даже охватил восторг от такого бойцовского варианта.
Раскладов по позициям гильдии среди мигрантов Индриков достоверно не знал, но догадывался, что если таковые и есть, то в среднеазиатских диаспорах. Еще исторические связи. Так что пробиться через «Садовод» маратовским хозяевам будет не очень просто, а вьетнамцы его просто так не выдадут. Хотя, понятно, тут пятьдесят на пятьдесят.
Главной задачей, впрочем, было понять сейчас тактику Марата, его мотивы. От этого зависело, на что вообще рассчитывать. Возможно, Марат и не рассказал гильдии о вчерашней встрече, не хочет расправы над ним. Может, подонок боится за себя – подставился по глупости, когда всего-то нужно было добраться до нужного адреса. А, может, и за отца боится. Может, намерен что-то узнать. Зачем он вообще приехал в Москву, зачем так рискует? Проблема в том, что Индриков планы Марата понимал интуитивно. Сначала по анонимной наводке почитал его эссе по экономической теории. Под псевдонимом, в карикатурном либертарианском журнале «Anarchie du marché». Узнаваемые по стилю опусы внушали опасения за психическое здоровье автора. Марат рассуждал о «конце экономики», о «мире свободного от людей рынка», «инфляции гуманизма» и прочей ереси.
Нет, требовалось все-таки подать водки. Застенчивая вьетнамка поставила на стол острую капусту, лягушачьи ножки в панировке и штоф змеиной настойки, и, как только ушла, Индриков спохватился, что налички-то у него нет, а светить старую симку с привязанными картами теперь опасно. Но ничего. В последний раз отдохнуть можно и за счет заведения, а если сегодня повезет, долг и отдавать не придется – такой обед, прощальный, перед роковым событием называют «угощение судьбы», ханойская примета.
Выпив несколько рюмок, профессор совсем отошел от волнительного озноба. Он вспомнил, как долго искал следы Марата, пока накануне пандемии тот не засветил в инсте свое турне по общинам американских мормонов. Его роль связного, а может и эмиссара гильдии в Северной Америке не удивила – они в последние годы активно восстанавливала контакты с идейно близким зарубежьем по всему миру. Но вот то, что они рискнули вытащить Марата в Москву, стало ударом грома. С одной стороны – отличная возможность для Индрикова ткнуть контору в свою правоту. С другой – четкий сигнал, что бить по всей системе начнут с многострадальной родины. Профессор вздохнул – зря он решил когда-то подключить к работе своих аспирантов в Москве и Питере. Теперь, видимо, сильно парней подставил. Особенно Глеба, которого он начал посвящать в детали и даже планировал представить Саше. Теперь все это повлечет смертельную опасность. От огорчения Индриков выпил разом еще несколько рюмок.
У бара вдруг засуетились вьетнамцы. К столику быстро подошел озабоченный Ван Донг.
– Пришел мужчин, говорить хочет видеть профессор Индриков.
– Куда пришел?! – рука профессора нервно метнулась в портфель и схватилась за штопор.
Ван Донг показал на главные двери.
Индриков дернулся было к черному выходу, но сообразил, что раз стоят здесь, то уж, наверное, обошли кафе и задами, а, раз, культурно стучатся, то вряд ли собираются тут всех положить. Ну ладно, плюнул он и подошел к дверям. В кривом глазке ниткой вытянулся мужчина с седой челкой-ежиком и бордовым, наверное, от водолазки горлом. Так вот кого выбрали в переговорщики. Профессор в предположении не ошибся – резать его пока не собирались. Собирались торговаться.
– Камеры у тебя тут работают? – спросил он Ван Донга – Тогда подожди и открывай.
Не спеша, Индриков вернулся за столик, выпил еще рюмку и кивнул хозяину.
Провернулся замок, и в кафе неуверенно с видимой в походке брезгливостью вступил высокий красногорлый мужчина лет за пятьдесят. Повернув голову к Индрикову, он самодовольно улыбнулся, развел руками и тяжело проговорил в нос.
– Приветствую-приветствую!
– Ну, здравствуй, Лександр. Откуда же тебя выдернули, что так быстро подорвался?
– Да, вот в Москве, видишь ли. Приболел… А тебе, вышло, что, повезло. – мужчина начал медленно подходить – Пригасишь за стол?
– Зачем это? – Индриков резко выпрямился и сунул руку в портфель, что сильно напугало мужчину, который непроизвольно отступил.
– Поговорим?
– Нам и пары минут хватит. Предлагай, и на выход.
– Ну, это к лучшему… – мужчина громко со вздохом высморкался и продолжил – В общем, чего тут разводить… Вчера, конечно, вышел прокол. Марат Сафарович приехал по семейным делам, отец тяжело болен. Фактически попрощаться приехал. В общем, не хотелось бы огласки… по-человечески…
– Неужели? – грубо оборвал его Индриков – Ну ты это Следственному Комитету на пресс-релиз подкинь: «У СК к Сафарычу претензий временно нет. Данное лицо папашу хоронит»!
– Господи – мужчина капризно всплеснул руками и уселся за столик у входа – Зачем ты вечно усложняешь… Черт возьми, неужели и я подхватил этот ковид…
Индрикова действительно захлестнуло эмоцией от наглости этого давнего университетского знакомого, от собственной будто бы беспомощности. Он разом отбросил все варианты бегства и решил ударить в лоб.
– А ты думаешь я не в курсе, что Марат у вас на контракте? Вот только он же всегда сучьим эгоистом был. Сунулся к отцу… всем рискнул, всех подставил. Черт, да я думаю, он там просто что-то заныкал на квартире перед своим бегством. Плевать ему на старика…
– Очень любопытно – ухмыльнулся красногорлый – В таком ты виде, значит, отчитываешься? Неудивительно, что твои справки давно не читают…
– Короче – вскипел Индриков и демонстративно посмотрел на часы – Я пока еще жду нормальное предложение.
– Предложение к тебе простое – не делать глупостей. Союзников у тебя давно нет, вот и сегодня докладывать некому – красногорлый неприязненно окинул взглядом зал – Пьешь по подвалам… В общем… Готовы тебе гарантировать безопасность. Тебе и Лене, конечно.
– Ну и ты мразь! – профессор рубанул кулаком по столку, грохнув посудой – Ты же на юбилее ее был, в доме нашем!
На шум из кухни за спиной переговорщика показался Ван, который медленно крался к его столику с чем-то в руке. Индриков, растерявшись, испуганно уставился на вьетнамца и этим выдал. Красногорлый резко оглянулся, вскочил. Ван сразу взметнул руки, выкрикивая что-то призывно, типа «стреляйте, стреляйте». Зазвенело, отскакивая от пола, железо, кажется, половник.
– Шутки что ли шутим, Олег?! – крикнул он Индрикову, покраснев теперь и выше горла, и кинул ему телефон – На-ка вот, глянь.
На экране трепыхалось какое-то голубое пятно.
– … нет- нет, что вы. Ни я, ни муж точно не заказывали – раздался в тихих помехах веселый голос Елены Павловны.
– Как же, ваш адрес… в накладной – под бас мужчины показался кусок зеленой стены на лестничной клетке и дверной косяк – может, конечно, девчонки наши путанули…
– Уж такую вещь нужно точно к завтраку доставить, вы уж разберитесь, непременно…
Индриков сглотнул и отложил телефон. Его мутило. Перед глазами стоял голубой халат жены.
– Так понятнее? Снято полчаса назад – голос красногорлого стал жестче, он подошел и аккуратно забрал свою трубку.
– Вполне – профессор собрался с силами, выдерживая игру – Только ты не учел, что я уже оставил материалы по Марату до востребования. Почитает там Саша, не почитает… Хочешь – сыграй в рулетку… Так что… Так что, если ты, сука, сейчас тут договоришься, хозяевам вашим придется все труселя пропотеть.
В который раз за сегодня Индриков удивлялся, как в наивысшем волнении с его языка срывались уголовные выражения и словечки, перенятые, должно быть, еще у советской шпаны.
– Допустим, что так – переговорщик несколько смутился – Твои условия?
Индриков понимал, что вильнуть не получится. Принять сейчас предложение, а потом пойти на попятную, выиграть время для какого-нибудь оригинального гамбита не выйдет – у него на это нет ни запала, ни здоровья, ни надежной поддержки. Нельзя было и мелочиться. Соглашаться на гарантии и даже на деньги – а припасенный конвертик у этой скотины наверняка при себе имелся. Ценник следовало ставить на максимум. От простачка гильдия избавиться, не думая, а вот к опасному человеку придется подготовится.
Он посидел еще для приличия с серьезным видом и уверенно произнес.
– У меня их два. Во-первых, за каждый день молчания – пять тысяч евро. Так что подумайте там над рабочим календариком Марата. Во-вторых, твои гарантии мне до чертовой матери. Делай встречу с хозяевами.
Переговорщик задумался.
– Деньги не проблема…
– Еще бы.
– Тут часть суммы. За два дня – красногорлый достал из кармана брюк и выложил перед собой на скатерть крафтовый конверт – Остальное сможешь забрать в банке. Счет я скину… А по встрече. Нужно время до конца дня.
– Хорошо. Это время у тебя есть. Даю день авансом.
– Главное, Олег, без глупостей…
Мужчина ушел. Ван Донг закрыл за ним дверь, а Индриков, трясясь, одной рукой вылил остатки водки себе в рюмку, а другой вытащил из портфеля телефон. Сообщение от резервного контакта пришло во время беседы с седым. В чате висела строка: «Принято. Место 2. Время известное + 5 часов».
Уже не актуально, взбесился Индриков, что же вы меня рвете все. Подстраховаться, однако, не мешало. Тем более резкая отмена после вала утренних запросов могла вызвать подозрения, но теперь требовался новый план. Совсем я отвык от работы в поле, думал профессор, вытряхивая последние капли из штофа на руки и отмывая окрасившуюся от штопора ладонь. К конверту он приблизится все не решался. Разглядывал пока из-за стола.
По встрече условились на 19:00. Местом было небольшое кладбище как раз по дороге к дому. Тем более в Храме Мучениц и теперь, после начала изоляции, служил его близкий товарищ, Миша Веленко, у которого как раз можно оставить пару важных вещиц на случай непредвиденных обстоятельств.
В подсобке Ван Донга промотали запись переговоров и закинули на одну из флэшек. Звук никакой, видео пару раз сбивалось, но общий смысл передавало, да и для технарей достать отсюда качество труда бы не составило. Теперь можно и позавтракать, время к обеду.
Индриков с волнением взвешивал свое решение, нащупывая в портфеле дьявольский конверт, залог его жизни. Предал он или не предал, оказавшись, пусть и на пару дней, в одном лагере с такой тварью, как Марат? Давать четкое определение этому ходу не хотелось. Впрочем, полной уверенности, что ему не перережут глотку на возможной встрече, не было, и в голове крутились мысли, что надо бы действительно оставить рабочие документы для Саши. Прощальный подарок.
Отчасти профессор успокаивал себя неопределенностью. Еще оставалось время для маневра. Ведь не обесценились же его принципы, ведь за идею же он работал, не за валютный счет. Хотя точно Индриков не мог сказать. Чувства смешались. Да он и не воспринимал все всерьез, он был окрылен. В свои годы попасть в подобную историю, это прекрасно, глоток молодости. Поэтому и дальше все виделось приключением. Можно сблизиться с гильдией, лично узнать, наконец, их леденящие кровь мотивы. Вот и решение – озарило его – дам Центру версию двойного агента. Иронично. Пускай расхлебывают у себя, может, наконец, заведутся на нормальную работу.
К кладбищенским воротам Индриков подошел уже на взводе и, натолкнувшись на запертую калитку, не думая, просунул между чугунных прутьев портфель, а сам забрался на мусорный бак и перелез через забор. Вдоль дороги к колокольне под стволами туй лежала свежая жирная земля, пахло весной. Профессор оглянулся – не следуют ли за ним – но позади никого не было.
Попробовав запертую дверь, профессор постучал костяшками. Почти сразу грохнула щеколда и дверь приоткрыла старушка:
– Олег Ильич! – всплеснула она руками – Как же это вы? Да ведь заперты-то ворота.
Милая добрая старушка. Имя ее вылетело из головы.
– Да уж есть ли преграды верующему человеку? – улыбнулся Индриков, – весь день сегодня тянет в храм. Миша здесь?
– Да, батюшка оградку подновляет.
– Ну я у вас подожду. Не боитесь вирусов-то?
– Ой, конечно, конечно, что вы, уж кому помереть сегодня суждено…
Храм, сам не старинный, XIX века, размерами и сводами напоминал Индрикову именно древние церкви, уютные округлостью и низостью потолков. Тут ощущалась безопасность, умиротворение. Вдруг неприятно кольнуло – лет пять тому назад он ведь использовал этот дом божий, чтобы передавать через ящик пожертвований бумаги одному человеку. Проведя по этому ящику рукой, профессор тяжело вздохнул и сел против алтаря. В ожидании помолился иконе Митрофана Воронежского. К его деятельной фигуре профессор всегда испытывал особое расположение, как к толковому святому, покровителю радеющих за доброту властей и благополучие общества.
Спустя полчаса в забрызганном краской комбинезоне пришел Миша Веленко, отец Михаил, бородатый вечно улыбчивый иерей. Увидев старого друга, он сразу помрачнел, предчувствуя недоброе. Искренним разговор не вышел. Просьбу сохранить у себя документы батюшка принял, скрепя сердце, только после того, как речь, вся с намеками о смерти и необходимости позаботится о жене Индрикова, зашла об исповедании. Прибирая волосы и пачкая их каплями краски, Миша пробовал мягко профессора увещевать опомниться, разорвать сейчас же со всем, но в итоге смирился и забрал папку с флэшкой.
В иерейском кабинете Индриков написал для Саши короткую справку. В простой школьной тетрадке тезисно изложил все мысли по рискам, приоритетам, даже по ближайшим действиям гильдии. Поставил точку и подумал – прощальное письмо. Приступить к письму Елене Павловне не смел. Как же он будет с ней вечером объясняться. Сначала за ту утреннюю записку, да еще имея в запасе чуть не завещание. Волнение так зашкалило, что он выпил пару таблеток и вышел с портфелем на воздух. Мише нужно было уехать по делам, но он попросил старушку выпустить Индрикова, когда тот соберется домой. Просил только не задерживаться позднее восьми вечера.
Кладбище, чисто выметенное, в новых посадках, грелось в вечернем солнце. Деревья тут стояли куда зеленее, чем в тенистых коробках домов. Пахло краской, остатками прошлогодней листвы. На своей скамейке, где часто работал летом, Индриков вспоминал знакомство с Мишей, думал, если их дружба продолжится, то уж теперь совсем по-иному. Жаль было бы потерять такого человека в своей жизни. А в остальном. Переживал он только о ребятах, научную работу с которыми придется прекратить. Да и вообще, во что теперь превратится его профессорство.
В компании почивших, в тишине, легком ветерке сердце сбавляло тревожные обороты. Среди могильных плит оберегали Индрикова два близких человека, на кого легко можно было опереться. И тогда, и теперь. О первом думалось легче. Игорь Всеволодович, которого Индриков хорошо знал в девяностые по научной работе. Сам он тогда только защитил докторскую, а Игорь давно был известен стране как писатель Кир Булычев. Как-то они по-доброму сошлись, как наставник и ученик, и долгое время дружески общались. О втором человеке, заботившемся об Олеге много ранее, вспоминалось горько. Родной брат, на три года старше. Смельчак, настоящий боец, который утонул в семьдесят втором году в Казахстане, в год, когда Индриков поступил в университет. Два этих товарища, старших во всем, упокоенных в тени вековых кленов охраняли и сейчас. Когда-нибудь свое пристанище здесь обрету и я, думал профессор. Уж не так ли, не так ли, чередой сумбурных рубежей пролетала в последние мгновения вся жизнь?
В ранних сумерках позади скамейки, где проходила рушащаяся кирпичная ограда, послышался шум веток. Индриков откинул голову и увидел худую женскую фигурку. Из теней аллеи к нему направлялась блондинка в спортивном костюме. Профессор подвинулся к краю, девушка присела рядом.
– Рада вас видеть – холодно произнесла она с чуть заметным обворожительным акцентом.
– Здравствуй, Марина. Пришлось тебя дернуть – Индриков старался говорить твердо – Александра не на связи.
– Почему так срочно? – светлую челку колыхнуло порывом ветра, и девушке пришлось повернуть лицом.
– Нужно оперативно дать важную информацию, а напрямую невозможно – Индриков прокашлялся – Есть сведения, что у вас работает двойник. Скорее всего в команде по международке. Если коротко. Есть подтверждение, что моя крайняя справка утекла гильдии. Есть подтверждение, что они сразу после этого начали морозить маршрут через Эстонию в Россию. Сняли как минимум двоих. Причем не консультантов, а тех, кто ехал уже на готовые места в ЦБ и Росэконом. Их уже ждали назначения и под эти назначения готовили почву. По всему выходит, что из конторы им течет информация. Есть полная первичка по одну из таких туристов и есть выборочная по второму.
– У вас есть имена? – голос Марины повысился – Не понимаю, что именно я должна передавать?
Этот высокий голос. Голос ему очень не понравился. Марина косилась на портфель. Мелькнули над нижней губой белые зубки, как у домашней крысы. Крысы!
– Марина… – начал он, инстинктивно приподнимаясь, и сразу получил удар в горло. Дрогнул кадык, померкло в глазах. Теплой слюной обдало подбородок. Раскидывая руки, Индриков пытался устоять на ногах, будто это и была сейчас его жизнь. Сделал шаг, но получил подсечку и рухнул на спину. Что-то больно впилось в лопатку. Что-то уперлось в плечо, придавило к земле. Что-то попалось в пальцы, и он из всех сил рванул это. Зубастая молния, женский одеколон. Что-то сжало ему нос и оборвался и одеколон, и весенний запах. Профессор открыл рот, дернул ногами, дернул всем телом. Хватил немного воздуха, и сразу горохом провалились в рот мягкие капсулы, и лизнула нёбо лекарственная горечь. Следом грубо уперся в зубы латекс, разжал, вдавил таблетки вместе с языком до самых миндалин. Индриков дернулся. Еще и еще. Оголенную поясницу царапнула песчаная крошка, судорогой свело мышцы в животе. Воздуха больше не было.
Глава I. Никоновская кровь
В дождливых осенних сумерках под лампочкой скрипит просторное переходящее в веранду крыльцо. На ступеньках мнутся и покуривают четверо пацанов лет тринадцати в замызганных куртках. У одного торчит из накинутой поверх asddidas-овки свеже окровавленный локоть. С ссадин тоскливо капает на доски, и тоскливо смотрят вслед каплям пары глаз. Пацана называют Тура, Турик, он что-то серьезно выговаривает остальным, повесившим бритые головы, и сжимает здоровой рукой белый в грязных разводах пакет. Здесь в поселке Турика знают, как гостя дома номер Ноль, человечка при деньгах. Но чем именно он занимается, и что носит в пакетах хозяевам, никому не известно. Когда дверь на крыльцо распахивается, и в темном проеме появляется высокая фигура, пацаны пятятся вниз, ступают почти на линейку сиреневых безвременников. Под короткий глухой разговор белый пакет исчезает в проеме.
Сейчас Глебу кажется, что эту картинку он подглядывал из сада. Будто даже живо ощущение летящей под капюшон на веки и ресницы ледяной мороси, так мешавшей рассматривать таинственную встречу. Странные неожиданные каникулы, октябрь 97-го или 98-го, ему тогда было лет шесть-семь, поэтому весь сюжет в пробелах. Следующее, что вспоминается, – дачная гостиная с роялем. На стенах висят картонки, черная угольная графика. Всюду ходят люди, многие по пояс голые, даже женщины. Покачивают розовыми пяточками грудей. В углу на ковре лежит перевернутая тележка с высыпанными одинаковыми красными книгами для печки. Вдоль всех корешков повторяются буквы, Das Kapital. На рояле, скрестив ноги, пьет кофе румяная рыжая девушка, вроде, Элен, или типа того, и тут же рядом у занавесок покачивает позвонками худая бурая от загара спина. Стремительно взвивается на ней пиджак, опадают распущенные седые кудри. Это дедушка. В его руках грязный белый пакет, из которого на рояль вытряхиваются черные коробочки сотовых телефонов. Навскидку там – пара массивных трубок и самые первые раскладушки.
В доме номер Ноль включается музыка. Грустная монотонная нерусская музыка. Под нее дед вместе с Элен и несколькими мужчинами прямо за роялем крутят отвертками, разбирают телефоны. Достают детали, выкладывают на скатерть у пустой вазы. О чем-то говорят. Глеб силится воспроизвести, о чем, но двадцать лет спустя из тех детских мыслей всплывают лишь обрывки: «какие тут у нас жучки-паучки, все видят, за всем следят, отпустим же их, господа, за их труды на волю! На волю!», «пусть теперь с нами поживут, о нас расскажут все теплым ушкам»
Под эти слова начинают щелкать пинцеты, шуршать кисточки. Вьется запах краски. Телефонные детали превращаются в насекомых. Бабочки, стрекозы, жуки с медными крылышками попадаются потом по всему дому. Гляди-ка, какая коровка – на ладонь Глебу кто-то кладет холодную оранжевую в крапинку железку – загадаешь желание…
Таких вечеров в гостиной было по два на неделе, с приходом Турика, красками, одними и теми же заклинаниями. Именно эти сценки почему-то проступили в самых ярких цветах и засели у Глеба в голове, когда он только стал всерьез раздумывать над тревожными знаками слежки – типа разного пощёлкивания в новой квартире, шпарящего аккумулятора Android или поедания трафика непонятными приложениями, которые не поддавались удалению. С пинцетом над сиреневым силиконовым ковриком в болтах, платах и прочей электроначинкой. Должно быть сработала какая-то неуловимая аналогия образов, иначе не объяснить навязчивую идею о связи всего происходящего с детскими каникулами столетней давности.
Погруженный в хаотичные размышления, Глеб чувствовал только смутную необходимость все выяснить. К действия подталкивал и больной озноб, который засел с первого дня январских каникул. Он все вертел пустую кружку, разглядывал растерянно вытянутые на полу ноги в серых шерстяных чулках и думал, что ни определенного плана, ни целей так и не составил, почему и оказался легкой добычей для матери, почти сразу по приезду перехватившей его.
Расклад, конечно, не айс. Мамина трепетность, чрезмерная опека, всегда подкидывали нервов в самые простые дела. Стоило ему даже в старшей школе чихнуть, как немедленно на лбу оказывалась ладонь, на кухне закипало молоко, и появлялись градусники, да, да, и ртутный, и электронный. И если в классе все делились историями, как нагоняли температуру нагретыми на батареях руками, то Глебу приходилось изобретать наоборот и сбивать градусы, для чего он стащил у отца и держал под кроватью вечно холодный гантельный блин – трясти колбу боялся, помня приключения брата с раскатившейся ртутью. Самое, понятно, огненное происходило с приходом врачей. Мощные плотные тетки в халатах, устало и укоризненно прослушивая свободное дыхание лжебольного, терялись и пасовали перед мамой, перед ее строгим лицом, мимикой, покрытой горячими пунцовыми пятнами шеей. Покорно выписывали больничные. Бред же, а работало. Впрочем, Глеб никогда этого не осуждал, зная мамину историю. Он только ясно отдавал себе отчет, что любое его волнение отзовется теперь многократной мнительностью. Кроме того, и это нельзя было признать неироничным, он чувствовал, что его вот-вот залихорадит. По ощущениям, уже перевалило за мерзкие 37.5.
С этого момента предстоявший разговор, точнее тема, оч больная и оч злая, как бы набухала в комнате, стиснутой по всем стенам старыми шкафами. Черт его знает, что вообще нужно выяснять, типа жив ли вообще дед и где обитает, или про оставшиеся от бабушки его документы. Но главное, нельзя молчать, подстегивать нездоровую тишину. Мама его в этом опередила.
– Ты пока, Глеба, расскажи о чем-нибудь. О диссертации, о вашем профессоре – голос звучал непривычно звонко, будто впитывал стеклянное дребезжанье из трюмо – Вова пока все равно от отца не отстанет, будет его по крыше до самого обеда мурыжить. Чего-то он там все мучается-мучается, перекладывает, а все равно каждую весну заливает.
– Ага, он и меня спрашивал. Типа не видел ли я чего-нить подходящего по хендмейду, прикинь? – поддержать простенькую бытовую историю Глебу показалось для начала хорошим вариантом – Говорит, что у этих бездельников, которые из ерунды делают ерунду дорогую, бывают нормальные решения в плане там техники и материалов. А ютуберы, ну те блогеры, что про загородный быт видосы пишут, просто копируют друг друга. Короче одни и те же идеи бесполезно перемывают.
– Ну, блогеры. Отец у нас сам лучше любого блогера знает. Ему бы к ним съездить, разобраться. Всё-таки сын плотника. Ах, деда Коля, царствие ему небесное… какой он мастер был. Какие резал наличники. И не просто, кстати, а по узорной истории своего родного пермского края. У него целые альбомы остались со старинными наличниками.
– Помню. Он мне в детстве показывал, рассказывал по купцам. Заодно и пермскому фольклору научил.
Мама хохотнула. Цокнул в трюмо хрусталь. Эту домашнюю историю все очень любили – как Глеба в четыре года привезли на майские к отцовским родителям, откуда он вернулся с пристрастием к копчужке и мощным запасом натурального деревенского мата. Досталось многим, а отец, кружа младшего сына над головой и угорая над картавой матершиной, все говорил: «Ну прям копия батя на выпасе!».
Простой и добрый деда Коля умер в том году в разгар короны. С ним оборвалась отцовская родительская никоновская нить, и единственными старшим предком стал непростой и недобрый хозяин дома номер Ноль, которого не вспоминали никогда. Притом, что мама своим отцом немного гордилась, хотя и старалась не показывать. Стоило задуматься. Стоило лишь прикинуть, почему за столько лет никто и никогда и нихера не заводил о нем речь. В отголосках истории чувствовалась печать семейной неудачи, оставленная кем-то то ли умершим, то ли убившим, да так оставленная, что прямо клеймом на мясе.
– Да, Николай Евстафьевич у нас рукастый был, и отцу передалось. Жалко, ты не в их породу. У Вовы, вон, тоже все из рук валится, хоть он и старается. Мне Маша рассказала, он тут перед новогодними бойлер смог починить, представляешь. Отец обрадовался. Не показывал, понятно, но обрадовался, что проявилась никоновская кровь.
– Ну Вован и внешне стал на деда походить, особенно, когда не бреется – засмеялся Глеб – на слайдах видно. Его в рубаху с лаптями обуть – вылитый пермяк… Слушай, так получается теперь никого из того поколения и не осталось кроме Глеба Давидовича?
Произнеся собственное имя, а он даже и не знал, назвали ли его в честь деда по матери или нет, Глеб вздрогнул – так оно отозвалось в комнате, что даже помрачнели шкафы, потяжелел воздух. Сам названный, кажется, стал за спиной покойником, вцепившись ногтями в спинку кресла. Конечно, мать встревожилась. Ее лежащее на боку тело напряглось, заострились лопатки, невзрачное бежевое платьице натянулось, выпятило застежку лифчика.
– Да сынок – произнесла она наконец – получается.
– Слушай, вот бы и с ним слайды посмотреть, а то совсем ничего про него и не знаю. Да и съездить бы к нему здорово было. Он все на тех дачах зеленых живет? Давно виделись?
Четко представилось, что со слайдами при удаче могут найтись дедовские документы. Даже пусть просто мещанский соцархив, студенческий, или рабочий, или с армейки. Какой угодно. В неизвестности пригодятся любые даты, любые штампы. Любые адреса.
– По телефону только общаемся, Глебушка. Говорит он хорошо, ни на что не жалуется… А слайды это ты хорошо придумал – властно и беззастенчиво мама сменила тему – у нас с отцом сохранились прибалтийские. Первый и последний отпуск. Солнечные кадры с сосновых дюн. Зое понравятся, такие тусовочные.
– Отлично мам, и дедовские заодно, где мы с Володей у него на каникулах маленькие.
– Ну это же когда было – поджались ноги в серых чулках – середина девяностых. Пришлось тогда вас оставить у папы… А на слайды-то уже время не тратили. Да и снимать некому было.
Но запомнилось же, как они с братом в дождевиках позируют кому-то перед штативом. Нависает за ними фигура деда. Может, мама и специально путает. Да, наверняка, специально. Это в последние годы она такая, типа отошла от дел, позволила себе чуть состариться. А так-то ведь – всю жизнь в медицинке. Сначала военной медсестрой Афган зацепила, а в девяностые в иностранную фарму ушла бухгалтером, всякого тоже насмотрелась, так что во всякой психологии нормально понимает, и делиться фотками, она явно не хочет.
– А сейчас все норм у него, типа как без обострений? Можно и сгонять значит.
С глубоким вдохом из трюмо быстро высунулась голова, и Глеб опять вздрогнул. Это не мама – екнуло в виске. Никак он не мог привыкнуть к ее новой привычке убирать прическу хвостом, к светлым кудряшкам на оголенной шее. Всегда прекрасные мамины волосы, не вульгарно, как говорят, соломенные, рассыпчатые, а сплетенные благородной переливчатой копной, покоса богатого луга и многоцветия трав такими сохранились и теперь. Просто стали короче. Жилистая, с полированными ветром загорелыми руками, как резаными из янтаря, мама походила на брэдберивскую марсианку.
– По разговору вполне. Но лучше его не тревожить. Я лет десять с ним не виделась.
– Нормал. И не звонили? Вам в смысле, не звонили насчет там его диагноза или состояния? Как это вообще происходило обычно?
– Лечащая его, когда уехала за границу, так все контакты оборвались с больницей. А сам папа, ну… а чего это вдруг тебе так любопытно?
Сперва, чтобы успокоить маму, Глеб решил зайти с темой семейной истории, с пандемии, отнявшей возможность ближе узнать многих родных, но теперь заговаривать лишний раз о смерти уже не казалось хорошей идеей, и он выбрал другой, самый очевидный ответ, потому что, а что вообще в этой огненной и покрытой мраком истории могло быть не любопытным.
Дед по матери, Глеб Давидович Айххорст из русских немцев со звучной фамилией, сколотил себе супермощную биографию, большую часть которой нельзя было наверняка проверить. Скромную общую справку в пару абзацев ему, как советскому актеру, довольно известному на рубеже шестидесятых-семидесятых годов, предоставляла сеть. Столь же скудные семейные толки добавляли крупицы, позволявшие узнать товарища на стиле: неожиданно разорвал с карьерой на самом пике, последние роли сыграл в стремных фильмах полуподпольного режиссера-оккультиста Гирши Яковлева, после чего исчез и вновь объявился среди богемы только к концу восьмидесятых. Причиной называлось тяжелое сумасшествие. Улыбающийся с выцветшего ч/б фото Кинопоиска блондин с резким неколхозным подбородком, с блестящими нежадными до водки глазами превратился в совершенно черного старика, ходившего размашистым шагом в тяжелом буром френче и громко обо всем рассуждавшего в духе декаданса. Таким и застал этого человека Глеб, который вместе с Володей, старшим братом, попал на внеплановые осенние каникулы на богемные дачи.
Важно и то, что такой ответ должен был маме понравиться, потому как дома Глеба Давидовича, если и упоминали, то частенько в резких выражениях. На одной семейной встрече Вова в ответ на вопрос своей жены, Маши, вообще прямо объявил в свойственной ему манере, что «у Глеб Давидовича кукуха капитально уехала, бросив чемоданы», и что, «вот в кого мы с братишкой такие по диспансерам мотались». Говорил он так не без поощрения папы, с которым бы, кстати, тоже нужно эту тему сегодня обсудить.
– Ну, мам, ты даешь! Это ж фантастик! Такая семейная история. Кино, сумасшествие, тайная жизнь. Про таких людей какие документалки делают! Зоя только краем услышала и сразу загорелась – тут Глеб, конечно, рисковал, и Зоя ничего не слышала, но для убедительности надо было показать непринужденность, что типа все просто и никто ни от кого ничего не скрывает – да и в целом судьба у человека, родился у немцев в СССР прям во время войны и не в ссылке, а в эвакуации. Отец – крупный инженер. Это же сколько дед всего крутого должен знать.
– Может и должен – странно произнесла мама и присела на край дивана против Глеба, комкая на коленке платок – только разве расскажет. Ты думаешь, ты ему вопрос задал, а он тебе сразу все выдаст. К нему пробиваться надо будто через пелену, как сказать… Через пелену того, чем он поглощен, чем озабочен. Сейчас это пчелы, например, пасека. Последние два года, о чем ни спроси его, он только про нее и говорит, сколько рабочих померло, сколько трутней, и все в таком духе…
– А когда это вообще с ним началось?
– Точно не знаю. Они с мамой разошлись, мне семи не было, и ребенком я очень мало запомнила. Отец вроде обычный был, без наклонностей. Не пил, ничего не вытворял, чтобы шокировало. Разве только лягушку держал в аквариуме, красную такую подарили ему друзья из одной экспедиции… Они и с мамой-то не ссорились, даже с соседями по коммуналке. Хотя мама, твоя бабушка Настасья, и говорила мне, чтобы я засыпала скорее, когда он приходил. Но это все, кажется, между ними просто какие-то странности были.
– Он поэтому от вас ушел? Не сошелся с бабушкой?
– Да мама-то и сама, думаю, не знала. Всегда только неопределенно об отце выражалась, что вот «не хватало масштаба в роли», или что «не потянул роль». Про семейную жизнь, наверное.
– Получается про болезнь уже потом стало ясно? То есть он как бы ее предчувствовал и прям накануне ушел?
– Вряд ли. Отец же долго не появлялся, может быть, даже в Москве тогда не жил. Он вернулся, когда я уже школу заканчивала. Однажды просто оказался в нашей коммуналке. Мать рассказывала, как вернулась с отчимом из кино, а у нас в коридоре – народ, милиция, все смущенные, не знают, что делать. А он на кухне портвейн пьет с каким-то оборванцем, советскую власть материт. И его не узнать. И никто не узнал. Мама, говорила, только по глазам поняла. Они ведь когда познакомились, папа по рассказам красавец был, остроумный, веселый, не советский такой, как из иностранного кино. Выставки, концерты, на съемки ее приглашал всегда. Вообще, как известным стал, то зажили очень хорошо.
– И че он после возвращения сильно изменился?
– Да, никогда подобного не видела и даже от врачей, профессоров не слышала таких примеров. Знаю, есть амнезия, есть диссоциативная фуга, деперсонализация, но это все, когда человек перестает быть собой у себя же в голове. А тут… Я после того, как отец вернулся, встречалась с ним, наверное, раза три-четыре. Зачем ему было, не знаю. Сам он ни о чем меня не спрашивал, на мои вопросы не отвечал. Те встречи вообще объяснить сложно. Один раз мы в парк ездили на выставку, остальные – в разные мастерские по городу к художникам. Отцу тогда было немного за сорок… Сорок два года. Так вот он был весь как почерневший, будто из забоя вылез, на щеках, на шее, на ладонях у него какая-то пыль, угольная, даже ногти серые. Волосы совсем седые.
– Наверное по республикам автостопил. Тогда же целая движуха была советских хиппарей. Годами типа по Союзу катали, от Эстонии до Киргизии. Но причем здесь помешательство, раз никаких странностей, ты говоришь, не было?
– С подачи мамы. Я так помню, что развода сразу не было, когда он ушел. Не было раздела по жилплощади, а комнаты то на Китай-городе отцовские оставались. Мама не думала, что он обратно так заявится. Ну и стала говорить, что, мол, муж с ума сошел. Все, что до его ухода происходило, это, мне кажется, уже больше придумано. Потом диагноз комиссия засвидетельствовала. В общем сначала все как по умолчанию это сумасшествие признавали даже без справок, а потом отец стал все более странно себя вести, и не просто эпатажно, а даже дебоширил. Будто подыгрывал всей истории.
– Подожди, ну а бабушка, интересно, какие вспоминала выходки? – Глеба начинало раздражать, что мама деда все как бы выгораживала, типа всегда он в порядке был, просто вернулся грязноватым. С отпечатавшимся дачным образом описание никак не вязалось, а у бабушки все это было уже не узнать. Она, как дед Коля, умерла в том году.
– Ну что вспоминала. Будто боялся чего-то, днями из комнаты не появлялся, ходил в горшки цветочные.
– Панические атаки что ли? Приступы паники?
– Не знаю, паника или что еще. Мама сама от него в панике была.
– Чего-то я не понимаю. Ты говоришь, что дед ок был. Так как же он превратился в хозяина дома номер Ноль? Ну ведь не просто же это странность…
– Ну раз хочешь совсем откровенно, Глеба, скажу, как думаю… Он и не превращался. Папа как не в том времени всю жизнь живет. Вот брежневские пятилетки, красота для кого, а Глебу Давидовичу тяжко, кто же знает почему. Не идейное же, не политическое, а органическое, понимаешь? Такой вот лишний человек. Загнали его в тупик, в коммуналку, на съемки в декорации, в семью. А ему это не нужно на самом деле. Думаю, ему просто очень скучно с нами было. Ну а дальше он нашел проход, вот и все. И вышел уже таким, каким мы его знаем. Ты все историю просил. Ну так вот. По парку Горького как-то гуляем, он будто ищет кого-то, и тут к мороженщице, значит, подходит. Помню ее, блондиночка лет двадцати. Отец свою руку положил прямо на ее и уверенно так говорит: «Да, ты хороша, а мира тебе и не хватает? Так? Зачем тебе твой муж-урод, дети его бездарные. Едем завтра в Ялту, хоть на месяц жизнь узнаешь. Будет что при смерти вспомнить». Так вот представляешь, Глеба, они с ней в тот же день и уехали. Газеты потом историю откопали писали, как разложившийся элемент семью советскую разрушил и девушку прямо на вокзале в Москве по возвращении оставил. А у нее, пока они с отцом в Ялте жили, муж при детях с балкона выбросился. Так все и написали. Прямо под статьями о взрывах в Кабуле и подвиге старшего лейтенанта Задорожного.
Проговорив все это очень эмоционально, мама встала, взяла одно из блюд, собираясь выйти. Глебу стало немного неловко, и он в стиле брата нахально и не к месту схохмил.
– Да Глеб Давидович сейчас бы мог мастерство пикапа преподавать, так девушек разводить надо уметь – он подошел к маме, приобнял ее, как бы извиняясь – не обижайся, я ведь не просто скандальным чем-то интересуюсь, это же семья наша. Да и по Союзу сейчас такие страсти.
– Что ты, Глеба, когда я на тебя обижалась – мама прытко развернулась и поцеловала его в щеку – просто знаю, как тебя подманить.
– Ну раз так, последний вопрос. Дед все там же живет, на тех же дачах?
– Да, в Переделкино…
Это был эксперимент. Даже, может, военный. Отец же ещё служил тогда, в девяносто первом. Приходят к нему из секрет-объекта и говорят, что, вот, гвардии майор Никонов, у вас сын подходящего возраста, второй ребёнок, знаем, на подходе. С квартирной планировкой мы ознакомились, и условия в детской признаны идеальными. Положение сейчас, сами понимаете, очень непростое. Родина, короче, в Вас нуждается. Судьба всего Союза, ну и вообще остальной части вот этого мира тоже зависит от наших с Вами испытаний. Отец, ясно, соглашается. Он еще и довольный, наверное, остался. Еще бы! Такое дело: собственную семью, детей посвятить на много лет вперед эксперименту государственной важности. На следующий день привозят кровать, два яруса. Устанавливают. Ну а дальше наш алко-Боря все сливает. Секрет-объекты под ликвидацию, учёные с записями исчезают в миражах свободного рынка. Потом у мамы выкидыш случился.... Но кровать двухъярусная так и осталась, прозевали ее, видимо, прапоры. Проходит три года, все, вроде уже забыто. Союза нет. И тут бам! Рождается братик…, и эксперимент неожиданно запущен. Старший сын занимает верхнюю эту самую полку, получает, как и прежде, весь солнечный свет, все тепло, а младший спит внизу в кромешной тени, куда и луч редко пробивается. Все, как было задумано. И так проходит десять лет, и никто про эксперимент не знает, а результаты, между тем потрясающие. Старший брат растёт весельчаком и умницей, настоящее солнышко, а вот младший спит в одном ботинке… Да, Глеба?!
Глеб глубоко вдохнул и затёр ладонями глаза. Голова была тяжёлая, зацикленная и горячая как под гипнозом. Подступал болезненный жар. Слова, которые, ему казалось, крутятся мыслями в голове, на самом деле говорил Вова. В окне за ветками клёнов все это время горел снег, и от этого света сознание мутилось и шло кругом. Казалось, бродит между машинами у подъездов кто-то в тени, мигает экран, что-то снимает.
– Да ты подкурил что ли? – старший брат со смешком сдавил ему мышцу между плечом и шеей – Чего с тобой?
– Засмотрелся…
– Во-о-о-т. И я говорю, – не хватило тебе в детстве витаминчиков, да и жар от батареи мозг плавил. Ты, кстати, так внизу и ложишься, когда заезжаешь, да? Вот не надо этого. Я тебе героически уступаю, – Вова подтянулся на кровати, и взмахнул рукой, – вот эту прекрасную солнечную долину.
Клёны в окне впитали январский мороз. Сплетенная чёрная чаща окаменела, клонилась на ветру и постукивала. Давно, в детстве, такими же зимами в ней, как в компьютерной игре с лабиринтом толкались малиновые шарики снегирей. Сейчас они, вроде, вовсе не прилетают.
– Давай, братишка, прикинь лучшее сравнение про наш пейзаж, на который всё детство смотрели. Что он тебе сейчас напоминает? – босая пятка с верхней полки чуть толкнула Глеба. Было слышно, как Вова набрал воздуха в легкие, задумался, засочинялся – Смотрю как на стоп-кадры митинга, скрещённые дубинки ОМОНа шустро прессуют аморфную белую массу столичных бузотёров. В чем причина волнения? Опять, опять не доложили маршмеллоу в какао, сил нету это терпеть! Марш! Меллоу! Марш! Меллоу! – Вова засмеялся и начал скандировать – Извини, Глеба, тут, пожалуй, не переплюнешь.
Глеб улыбнулся. Володи, бывало, очень не хватало. Не хватало его говорливости, его наглой беззаботности и беззаботной наглости. Особенно, когда не клеилось какое-нибудь дело, и наваливались всякие ленивые и тягостные рассуждения. Нет, даже не так. Особенно не хватало Володи в прошлом году. Когда умерли бабушка и дед, и нужно было мотаться с отцом между деревней и городом, устраивать с разницей в полмесяца двое похорон на две церкви. Володя тогда не успел выбраться из Чехии.
– Блин, чет ты, братец, совсем не в форме. Прям никудышно мыслишь. Напряги по работе или по универу? Или по бабской части?
– Да подустал от всего. От тянучки этой однообразной – высказывать все свои заморочки брату Глеб пока медлил – растрепит.
– Ниче се тянучка – Володя веселился – Значит. Работа новая. Квартира новая. Научник – ну ты уж извини, Глеба, по моему кодексу тут шутить давно можно – тоже новый. Получается. Только девчонка у тебя старая. Проблема выявлена. Ведется поиск устранения проблемы…
– Кончай – под смех в кровать полетел ластик со стола – самому-то не надоело торчать на карантинах?
– Слушай, да в рот я его…, этот карантин. Я вот сам, конечно, корону не люблю. Ни пиво, ни вирус. Но это вот все, это же нехеровый шанс. Нужно просто прикинуть, понял, въехать, как дальше развиваться будет наша моделька.
– Так год уже прошел. Прикинул?
– Ага.
– И даже поделишься?
– Короче. Думаю, ставочку делать на восток, понял. Южная Азия, там, Тайвань типа. Там всю эту мутоту скоро упростят, и бизнес попрет.
– Ну конечно, упростят. Как в Тае наших ко-диссидентов прессуют, не видел?
– А ты думаешь они что ли решают? Рядовые туристики. Ты даешь, блин, работаешь вроде с информацией, а не понимаешь, когда показуху лепят. По экономике, по экспорту там зарешают как надо. Да и по соседям потенциал будь здоров. Одна только Индия. То-то магазинчики были с экзотикой типа масала там, лемонграсс какой-нить втридорога для хипстерской мразоты. А ты теперь представь себе нормальный завоз товара, организованный по таможне. Массовые восточные продукты по средним ценам. Это бомба будет, весь рынок качнет.
– Что вместо паленых духов займешься индийскими ароматами? – хмыкнул Глеб.
– Да, слушай, у меня тема уже есть на год катнуть по маршруту. Пощупать бенгальский окорок Малайзия, Тай, Вьетнам. И коридорчик классный через паков и Афган.
– О, ну стопроцент безопасный транзит. Звезднополосатые в докладах так и докладывают, что славится прям своей торговой безопасностью. Особенно по хмурому – Глеб еще думал о своем, но все больше вовлекался в разговор с братом.
– А ты не ржи. Америкосы оттуда скоро дернут, и местные сами нормально разрулят. Им там торговля здоровая позарез нужна. И для жизни типа и для виду вообще. Прикинь только Азия-Афган-Пакистан… Я короче это к чему. Я тут начал типа нравы изучать и чет вспомнил знаешь кого? Дядю Игоря. Как он нам про восточные страсти рассказывал, да? Его эти стремные сказки. Как будто вчера все было. Заваливается, лысиной блестит в двери, чисто джин из батла. Поддатый. Покачается, пошаркает и перед шкафом – херась на жопу. Как гризли в аляску по дискавери. Вот у соседей-то люстру, небось, колбасило. Надо бы его навестить, посоветоваться, у него ж, наверняка там связи остались моджахедские, че думаешь?
– Концептуальненько у тебя все складывается. Бизнес в Афгане, советы с кичи.
Игорь Павлович, в семье известный также как Бутуз или Подвох, отцовский сослуживец и компаньон по бизнесу из девяностых-двухтысячных, последние десять лет отбывал весьма экзотическую совокупность статей: 185-ю, части 3 и 6, 204-ю, 237-ю и вроде бы какие-то еще. Дядей дядя Игорь был замечательным. В их с Вовой детстве этот большой, лысый, с бицепсами как голова и голова как бицепсы мужик часто гостил дома и играл в любые игры. Он был из тех взрослых, кто охотно и искренне вникает во все детское, поощряет и подначивает юную фантазию и гонит, и гонит ее, как будто соревнуется с ребячьей энергией, кто раньше устанет. Неутомимые поиски в лесу подходящих пней для солдатских фортов, нарезание кленовых дудочек, пыльные домашние прятки и футбол подушкой. А по вечерам дядя Игорь приходил к ним чуть навеселе, кидал пиджак, закуривал и рассказывал свои фирменные дикие, если не сказать крепче, сказки. Сюжет их был запутанный со множеством всяких героев, постоянно совершавших нечто невероятное и совершенно непонятное. Свет из коридора золотил дяде бритую загорелую голову, но лица его с кровати видно не было, и повествование лилось само собой из сказочного ниоткуда. В табачных клубах, в запахе летнего пота на фоне гористых пиджачных складок.
– Нет, я короче знаю вопрос спецом для тебя. Даже игру. Как раз развеешься. Ты же мастер все сводить к единице. Типа вот красное, вот квадратное, и это значит… Так вот, смотри, задача. Вспоминаем сейчас эти истории. Вспоминаем, что дяди Игорь так-то – толковый коммерс, умел и умеет бабло поднимать. Анализируем типа его россказни, как взгляд коммерса, и делаем вывод, что из себя представляет восточный мир в плане бизнеса? Не зассышь?
Казалось, сначала, что Володя просто мается от безделья и, как всегда, несет от скуки какой-то вздор, но теперь этот поток сознания ставил перед Глебом серьезный вопрос. А чем, собственно, подобная болтовня отличается, скажем, от припадка сумасшествия. И чем, к примеру, в целом несерьезное, может, авантюристское отношение к жизни – не признак безумия. Стало неприятно.
На электронных часах догорал третий час дня. До обеда оставалось, наверное, с полчаса.
– Оки, начинай – взбодрился Глеб.
– Поехали. Значит – из любимого – Володя привстал на локтях – Сказка про гремящие земли. Эта даже типа цикл был о божках, которые жили по ручьям, полям и горам, нападали на караваны и разносили громами. Можно же во множественном?
– Можно. А смысл то сказки в чем, не понял?
– В том и соль – я хер его знает – засмеялся Володя – давай, дополняй паззл.
– Так. Я помню меня впечатлило про Сашку с дырявыми ногами. В общем парень этот любил по ночам ходить за каким-то чарасом, или часом, или чёсом. Дядя называл это «за сладким чараса», и мне по созвучию эти ча- са- напоминали тихий час как в саду. Тоже сладкий. Так… Дальше этот тип залез на чужое поле, где эта хрень, по ходу, произрастала. И его запалили хозяева поля, потому что у него в свете луны загорелись красные глаза и пуговицы. Хозяева, вроде демонов, стали этого Сашку клевать. Он прыгнул в реку, но его достали и проклевали ноги. Ну и развязка, значит, что Сашка геройски со своими дырявыми ногами доплыл по реке, а там на руках, вниз головой пришел в свой лагерь. И его наградили почему-то пистолетом и бутылкой.
– Ну вообще ништяк. Теперь мы знаем, что местное предпринимательское сообщество враждебно настроено к мелким кражам – потешался Вова – моя очередь. Сказка, кстати, офигенно с твоей перекликается. О народных состязаниях. Итак. В горах жили разные племена, которые крали друг у друга уши и глаза. Одно племя всяких нищебродов-овцепасов возглавлял тип по имени Дек-хан. Дядя всегда его выговаривал с таким отвращением, с этим «кхэ-э-э», потому что он вонючка немытый. А предводитель второго – Сар-баз. Тоже урод какой-то, хитрый, жадный, но вроде почище и с понятиями. И вот они только и занимались тем, что сто лет, значит, охотились за ушастыми и глазастыми. А через сто лет этот Сар-баз решил взять верх и призвал себе в помощь демона с летающей армией, а Дек-хан вызвал демона, который колдовал разные сласти и так заманивал воинов в ловушки, то с сахарной водой, то со сладкими песнями, то со сладкими картинами…
– Блин, ну и дичь.
– Это еще что! Вот про красных верблюдов послушай. Дядя ее с шиком рассказывал много раз. Типа продолжение, как Сар-баз с армией встал у моста, чтобы защитить свою чарасовую долину на другой стороне, а Дек-хан пытался его выбить, но все неудачно. И тогда самый вонючий его советник привел красных верблюдов. Животных покрасили в черный, чтобы видно не было, и ночью погнали табун верхом с гор на армию Сар-база, и когда типа уже совсем близко было, начали читать заклинания, и верблюды стали красными. Они с безумными воплями ломанулись в лагерь, ослепили людей. Дядя даже изображал верблюжий крик. Короче за табуном прорвались отряды Дек-хана, и пошла резня. Зарубили в атаке многих генералов, про которых тоже отдельные сказки были, Што-лицего и этого еще, Брин Ира… Ну ты вот угораешь, а я года три назад, когда в Египте отдыхал, спрашивал экскурсовода, делали ли они так в древности с верблюдами…
– Вова, ну чего вы заперлись от жён? – раздалось в коридоре.
– Свет гаси, маман идёт – крикнул брат и накрылся с головой одеялом.
– Кофе тебе сварился, Глеба – тихо проговорила мать из-за двери.
– Лан, потом доиграем – донеслось из-под одеяла.
Сердце аритмически поколачивало уже как бы в предчувствии кофе. Голова тяжелела, трудно дышалось. Нужно было закинуть парацетамола. Только так, чтобы никто не запалил. Легкие лекарства обычно лежали в комоде на кухне, и переждать доносившееся оттуда копошение Глеб решил, аккуратно юркнув в кладовку у входной двери. Притворив дверь, он подсветил телефоном. Вполне ничего. Башня коробок, башня древних чемоданов с инструментами. Его расклеившиеся лыжи, три-четыре пары, съехали на дачу, и место до сих пор ничем не заняли. Тушей в полиэтилене висел жуткий бабушкин каракуль, висели отцовские рабочие комбезы. За ними фонарик выхватывал что-то тоже яркое, накрытое тряпьем. Глеб раздвинул одежду, приподнял ткань, оказавшуюся рубашкой, и ему стало не по себе. Перед ним стояла картина, типа холст, или как там называется, с… символом коловрата. Присмотревшись, он разглядел, что центр его, круг, составляла птичья голова с отражающим свет, блестящим сизым глазом, а вместо лучей во все стороны кривились клювы. Обрамленный демоническим волосом, выпуклый глаз, по замыслу художника, прожигал смотрящего, а повторяющиеся клювы создавали иллюзию движения, и будто слегка приоткрывались. Зажмурившись, Глеб присел на карточки – в левом нижнем углу холста стояла авторская подпись «Г/Д АЙ. Внуки идеи, 9/ VII.1988».
Он вырубил фонарик. Сделал для успокоения подряд несколько быстрых глубоких вдоха. Как назло, взвилась пыль. Попала в нос, горло, и кладовку грозил сотрясти убийственный чих. Прикрыв одной рукой лицо, а другой сжав крюк вешалки Глеб адским усилием воли сдержал порыв. Прислушался. Все голоса, кажется, доносились из гостиной.
На кухне что-то кипело на слабом огне. Лезла и надувалась отвратительным пузырем брусничная клякса. Кухня, как и большая часть квартиры, пребывала в походном состоянии. Не Лександра Васильича через Альпы в Швейцарию, а мамы через три месяца в деревню. Под столом, вокруг стола, вдоль плиты, вдоль подоконника, вдоль комода, на комоде, и, можно душу ставить на кон, внутри комода, всюду стояли закрутки. Где закруток не было, там стояли банки. Для закруток. Вообще стояли не тот глагол. Глагол должен бы передавать одушевленность этого пузатого стекла, набитого заспиртованными луковицами и сыроежками.
Глеб даже забыл, за чем пришёл. Найти тут кофе было невозможно. Он еще в турке где-то возле конфорок, или в одной из кастрюль, или уже в чашке среди посуды, или уже кем-то выпит. Глеб только двинулся к плите, как задел и смахнул с хлебницы стопку салфеток, мигом разлетевшихся. В порыве собирательства на полу удалось обнаружить натуральную кунсткамеру. Весы с вмятинами от больших пальцев, советского щелкуна для орехов, березовый банный веник с ошметками тины. Так что незаметно оказавшиеся позади Глеба ноги в ушастых бежевых кроликах его не испугали.
– От бати прячешься или от своей? – спросил глубокий вкрадчивый голос.
– От твоей – бросил, не вылезая, Глеб.
– Грубиянка – передразнил голос, ноги согнулись в саркастичном реверансе, и кроликам пришлось разбежаться.
– Ну помогай, что ли, Машуня.
– Ниче, справишься. Верю в тебя. Мама просит сливки принести, так что мне нужен холодильник, так что ножки подбираем.
– Сливки-то зачем к столу? – Глеб наконец выбрался, сжимая стопку салфеток.
Перед ним в натянутой готовой лопнуть белой блузке стояла Вовина жена Маша, подавая какие-то сигналы своими гигантскими ресницами. Крайний раз виделись ранней осенью на день рождение брата. Промокший лес, спортбаза с шашлыками, квадроциклы, загорелая Маша в кремовом белье натягивает на загорелую грудь облегающий термо-костюм и комбинезон. Загорелая грудь – это кое-что значит.
– Чего? – рассеянно переспросил Глеб, пропустив ответ.
– Сливками, говорю, глупенький, я называю маленькую сливу, которая маринованная и которая к мясному рулету.
В кармане завибрировал телефон. От контакта «Во-во-во» упало голосовое. Чмокающий слюнявый шепот настороженно интересовался:
– Куда пропал, братишка? Твоя с батей. Один на один. Сам его знаешь в январе! Шпашай деваху!
Коридор пропах домашними колбасами. Глянцевым восстановленным по маминому настоянию паркетом он растекался под шашками лампочек до стены и плавно заворачивал во все комнаты. Из гостиной перезванивали приборы, стекло. Зоя, девушка Глеба, нервно подсовывала вилки с ножами под тарелки. Худющая, сутулая, в модно-выцветшей розовой безразмерной футболке она обреченно тыкалась у плотно заставленного салатницами стола. Видно было, как нервно дергала правым плечом. Одно неверное движение, и тарелка напирает на блюдо, а то, захлебываясь собственным маслом, пихает морсовый графин, и вот уже пустой богемский бокал опасно кренится в деликатесный осетринный помет.
Это, конечно, не картонные коробочки с воком тасовать. Тут тяжелый российский быт. Одного хрусталя кило на десять. Своими корнями все это действо уходит в еще более тяжелый советский быт. Тяжелый, конечно, в том смысле, что имперский, в том смысле, что угнетенный и угнетающий. Глеб ухмыльнулся и тут же срезал на себе пронзительный взгляд из угла гостиной. Поверх газеты на него смотрел отец. С полминуты под Зоины барабанчики они не отводили взгляда, пока, наконец, отец шутливо не подмигнул и не вернулся к чтению. Таблетка – вспомнил Глеб – он ее так и не взял.
– Зой, момент. Давай-ка лишнее просто уберем, – нежно отталкивая Глеба от прохода, источая пьянящий кремовый запах, в гостиную вошла Маша.
Глеб аккуратно и от того неспешно проводил качающиеся бедра в отражении плазмы. Невинное удовольствие было прервано злобным толчком Зои. Над ухом, завился хищный шепот:
– Хуле ты меня с этой стрёмой едой бросил?? Еще тетушки что ли у вас какие-нибудь приедут жрать, или вы так – бедным раздаете?
– Зай, ну чего ты нервишь, – успокаивающе ответил Глеб, – обычное женское дело.
– Ой, ну вот давай не беси меня! – Зоя больно ущипнула его на сгибе в локте. Чуть не сломала косточку.
– Батя, давай выпьем – закричал откуда-то из недр квартиры Вова – ты мой коньяк юбилейный так и не открывал? Глеба! Давайте! На кухне наливаю! Двигаем-двигаем!
Газета в углу сложилась. Животом навыкат в голубой, маминой домашней вязки кофте, отец тяжело поднялся с кресла и двинулся на проход, на Глеба с Зоей. Проходя, он дыхнул разжёванной мандариновой коркой и кивнул в сторону двери, скомандовал:
– Покурим…
Красноватую лестничную клетку цвета аллергического глазного яблока болотным стволом протыкал мусоропровод. Пристегнутый к грязным перилам облезлым желтушным лого торчал байк. Впечатляющая конструктивистская атака. Глеб подумал, что они втроем в этих декорациях сейчас выглядят экспонатами «искусства четвертого этажа», так он называл все, что обыкновенно выставлялось на последних этажах художественных музеев. Вместе с братом он прислонился спиной к стенам, пока отец закуривал длинную бурую папиросу-биди, к которым пристрастился еще в юности.
Для братьев это был запах праздничный. Звонит прихожая, шуршат блестящие офицерские сапоги под звон бутылок, самое время выбегать, встречать папу, который прям так с папиросой в зубах сидит на шапках на комоде в прихожей. Скатывается и тает на темной блестящей куртке снег. Залезаешь рядом, пробиваешься под локтем на колени, и папа не сопротивляется, только колет в ответ на чмоки щетиной. Стоит табачный дух. Это еще декабрь, неделя до тридцать первого, просто у отца и дяди Игоря свой праздник, с которого они всегда возвращаются с подарками, классными предновогодками, чаще всего – немагазинными разноцветными жвачками, банками Cola, или конструкторами со стреляющими пушками.
– Ты бы, бать, не курил дряни-то этой столько – проникновенно заговорил Вова, сам с тремя рюмками коньяка – да и не пил бы уже самогона своего. Нормально за столом посидим…
– А еще бы, бля, не ел и в гроб бы сразу залег. Ты, Вова, когда успел медицинский-то кончить. Вчера что ли? – отец разошелся, и, хотя как бы добродушно, но все же с нотками угрозы – Ой, да ты ж, блять, курса два недоучился?
Он мог долго ёрничать, заводя сам себя, и часто доходило до мощной склоки с Вовой, когда вспоминались всякие обиды.
– Мы тут, пап, дядю Игоря вспоминали, – прервал Глеб, специально ни на кого не глядя – как он нам в детстве сказки рассказывал. Мы вот думаем, он их сам сочинял или пересказывал?
Отец не ответил, уставившись в окно на фонарь.
– Вспомнили парочку. Это ж целый эпос, – продолжил Вова, больше, кажется, действительно увлеченный восточными бреднями, чем стремлением загасить начавшуюся перепалку – он тебе рассказывал когда-нибудь про красных верблюдов?
– Рассказывал – буркнул отец.
На этом разговор заткнулся, ни туда ни сюда было не развернуть, и все трое уныло молчали, пока хриплый прокуренный голос, наконец, не выдал ожесточенно.
– На тебе тоже сказку. Про красного верблюда. Внукам расскажешь, если родишь. Сентябрь восемьдесят третьего, в горах Карамугуля. На блокировании. Духи к ночной вылазке достали верблюдов, облили нефтью, запалили. Врезались в кишлак. Человек десять зеленых положили декханов. И шестерых наших вместе с однокашником моим Андрюхой Штольцем и Рабинером, замполитом…
Последние слова щелкнули будто подзатыльником, прокатились по лестнице. Истории, конечно, приличествовало молчание, но Вова сразу же искренне выругался, так и сжимая в руках рюмки.
– Ну … история, батя!
Это было куда лучше. Отца тронула реакция, и было видно по морщинам, как он прощает вопиющие несмыслие. Потому что. Потому что бездушной инфантильности за ним не оказалось.
– Еще по одной – сухо произнес отец.
Постояли еще, выпили смущенно за встречу. Володя рассказал идиотский анекдот про негров, и Глеб с отцом покатывались от того, как он пытался вспомнить синоним ванной, доказывая, что это абсолютно необходимо для эффекта. Потом брату позвонили, и он, забыв рюмки на подоконнике, поднялся в квартиру.
– Ну че, Глебунь, чего спросить хочешь? – обратился, хитро затягиваясь уже третьей сигаретой, отец.
– Про деда. Про Глеба Давидовича. Давно с ним общался?
– Давидыча – отец крякнул и поводил головой – ну как крайний раз его крыло. Лет семь-восемь назад… Короче Крым еще не наш был, но вот-вот, чтоб понятно. Он там в деревне у себя с соседями крепко устроил.
– Да ладно, че за история? Вы не рассказывали.
– Мать просила… Ну чего там. Давидыч же привык жить по-своему, понял, как люди не живут. А поселок блатной, его как бы не трогали. Администрация не встревала, шобла эта интеллигентская. Ну и дед сам, ясно, блатной тоже. Ну, а в тот год рядом с ним дом мажор такой же прикупил, политикан подмосковный, с Чехова что ли. Вот они вдвоем и уперлись. Давидыч он по жизни как устроился, типа я псих, ниче не понимаю, посрать на дороге могу там или сто собак себе привезти на участок. А одно время, говорят, козлов там малевал по чужим верандам, здоровенных, как живые, натурально и в темноте светились. Мда, епт – отец задумался, докуривая.
– Ну и?
– Ну и вот этот хмырь подмосковный ему че то высказал, даже, я так понял, приложить хотел деда, а Давидыч ему… два пальца откусил короче…
– Нихера себе, бать.
– Да это так еще. В целом нормал для деда твоего. Поужинал, можно сказать, оккультист херов. Я вот другое думаю, ну как он так взрослому мужику, борову при охраннике, два пальца оттяпал. Ему тогда сколько за шестьдесят было? Шестьдесят пять. Считай, мне скоро стукнет. Я вот и по джиу-джитсу в курсе и воевал, ну никак пальцы не изловчусь откусить. Даже если за мать или жизнь спасать. Только если во сне кому, понял? Короче мутная история.
– И как вы разрулили?
– Да как обычно. Никак. Чего там рулить. Мужик без пальцев. Деду охранники успели прописать нехило, вроде даже с сотрясением. Но за нашего сразу впряглись. Там видеть надо было, какие мерсы крученые стояли по лужайкам. Номера все козырные. ЛДПРовские, я думаю. Давидыч в девяностые с ними крутился плотно, наверняка знаю. И тогда, уверен, что по их линии опека. Ну врачи то были, но больше по части этого трехпалого. Ему и досталось в итоге за хулиганку, мол, спровоцировал художника, и из поселка мудака выперли, и из политики. А чего ты вдруг вспомнил?
– За пандемию как-то фокус у меня поменялся. Интересно стало, что за человек. Так умрет и не узнаю его совсем.
– Да чего там узнавать – от ухмылки уголки глаз и лоб у отца заиграли озорными морщинками –Немцы они и есть немцы. Больные люди, только пиво хорошее. Ты вон по музеям ходишь с красоткой своей, ну загляни в военный, Красной Армии, оцени, что они за оружие перед Первой Мировой клепали, охереешь. Нация шизоидов.
– И тем не менее, пап. Жизнь то он яркую прожил – Глеб все соображал, как отвлечь отца от мыслей о терках с тестем и вывести на историю с психозом.
– Да уж яркая, все, блядь, до сих пор проморгаться не можем, какая яркая – отец сплюнул в банку с окурками – понятно ладно детство тяжелое. Думаешь легко в послевоенные годы с такой фамилией в школу ходить было? А вот потом уже непонятно, сам по себе он такой поехавший стал, или его кто с горочки пустил хорошо. Из компании этой их. Не дай бог там люди были, лучше б с зеками бухал, честное слово, но он же у нас богема, шестидесятник, ебтыть.
– Ты это про тусовку в Переделкино. Они там разве не в девяностые начали собираться?
– Перделкино! – передразнил отец – в девяностые они начали… А ты думаешь он до тех пор с комсомольцами что ли просвещался. Маркса-Ленина почитывал. Он куда, по-твоему, из семьи ушел, странствовать что ли? Хера на двое. Ты не знаешь, и не узнаешь, может. Но так резво с нажитого свинчивают только туда, где малинка послаще. Я с его женой последней Ирой, кажется, когда общался по всем его историям, она рассказала, что он с семидесятых еще сошелся со стремной компанией. Там людям, отбросам так-то, побухать мало было, а надо эдакого было, с гнильцой в общем.
– Так он че прям опасный психопат, выходит? Вы то нас ему в девяностые сбагрили, не боялись? – Глеб с недовольством понимал, что из всей этой массы фактов зацепиться почти не за что, одни общие слова – в больнице дед вроде как не лежал, с кем-то вроде тусил, кого-то укусил – и решил отца раззадорить. Но тот в пику тему неожиданно совсем закруглил.
– Вот че. У меня о Давидыче мнение такое, что он с придурью, понятно, но картину, так сказать, рубит, когда надо. На свадьбу нам знаешь сколько зарядил? Пару машин можно было прикупить. Мы тогда в госпиталь почти все отдали. А так можно было прилично разгуляться. А потом через два года буквально раз, и ничего уже не стоило то состояние, понял. Или вон на днюхи ваши с Вовкой. Тебе лыжи первые прислал норвежские, брату вообще компьютер. Просек? Компов, считай, ни у кого из школоты не было, у Вовки первого появился. С трех школ к нам играть припирались… Это я потом узнал, что шкет с них деньги брал по минутам, устроил бля игровой бизнес. Короче по деду. Псих-то он псих, а логическая цепочка мыслительная прослеживается. И я так тебе скажу. Мужик, он что должен – семью обеспечить, и в союзе особо вопрос то не стоял как именно, там чего, у каждого мужика почти мужицкий нормальный заработок. Кроме деда твоего. Но он притом всегда при деньгах был и маму всегда поддержать мог, хотя из семьи еще когда свалил. Так что претензий у меня к нему нет. Чего тут еще мусолить. Хочешь к нему заехать, дерзай, ты мужик взрослый. Только мать этим не донимай. У них с дедом отношения особые, так пусть и будет.
Не успел отец договорить, как лязгнула дверь.
– Мальчики, давайте к столу – тихо позвала мама.
Вилки наизготовку, ножи – в штыковую. Тянутся над тарелками кулачки с приборами. Как-то очень собранно, стеснительно, даже намуштровано, будто не домашнее застолье, а игра в аристократизм. Один отец сидит неподвижно во главе, блестя рюмкой, ожидая, когда приземлятся все колбасные лепестки, все салатные горки. Странно меняются традиции, подумалось. Шестеро наигрывают по стеклу, как в оркестровой яме, такой секстет. Очень соблазнительное словечко. Шестеро без дирижёра, полная импровизация. Все говорят со всеми, и никто никого не видит, глаза сосредоточены на посудном лабиринте. Вываливаются на скатерть кукурузные зерна в подливке, всплескивают сорвавшиеся маслины. Никого бы не задеть, не испачкать. Со всех сторон температурный жар Глеба подпирает дыхание, тепло тел, разгоревшихся духов, и его болезненность словно растворяется в семейном хоре.
– Вовуша, сынок, открывай шампанское!
– Давай, Вов, нагреется же!
– Шапочку аккуратней придерживай.
– Не шапочку, мам, а плакету.
– Как?… Плакету?
– Хорош, выделываться, Вов, открывай!
– Ну ты придумаешь тоже, а проволочка как тогда называется?
– Ой, да ничего он не знает, Виктория Глебовна, на Ютубе подсмотрел и теперь умничает.
– А вот нифига. Мы на курсах сомелье изучали. Подтверди, солнышко…
– Изучали, как же. Ты там оба раза просто бокалы залпом выпивал, а на обратном пути еще тащил за пивом: «пропустим на дорогу», «надо кислый привкус перебить». Вот и все изучение.
– Muselet!
– Что?
– Muselet! Проволока так называется, вспомнил. Знаете, как переводится? Никогда не угадаешь! Намордник! Прикиньте! Как намордник для псины!
– Вовуш, ну ты и говори, и открывай! Так, кто шампанское? Я, Маша, Зоя…
– Нет, спасибочки, я себе коктейль замучу с водкой.
–…у вас, девушки и замашки, настоящее французское с водкой мешать.
– Ничего-ничего, нормальное игристое Белугой не испортишь. Мы в Академии так иногда шампусик употребляли коктейльно, Огни Москвы называлось. Молодца, Зоя! Одобряю!
– Господи, Володя! Ну зачем так бабахать! Ты посмотри, почти потолок пробил, а если б в мою люстру?!
– Быстрее-быстрее, фужеры, убегает!
– Нормал бабахнуло. Похлеще, чем на Котляковском, да, бать?
– Володя! Ну что ты вспоминаешь? Так я тебя к этикету и не приучила.
– А что, такого. Я тот куртец батин похоронный как сейчас помню на маме. Весь в потеках затертых и с метелками травы под воротом, а батя ваще в одной рубашке черной.
– Да от пальто-то маминого и не осталось нихера, одна грязь. Мы в ресторан потом заехали в порядок привестись, там все и бросили. Думали сначала в торговый дом, но… красавица наша наотрез отказалась после всего примеряться.
– Нас, получается, тогда сразу к Глеб Давидовичу и отправили?
– Да не, ты че, братиш. Мы тогда весной к деду Коле уехали. Я там траванулся чем-то и с мамой в больнице лежал, пока ты матерщине учился, а к Давидычу это уже года через два, наверное, а бать? Когда дяде Игорю прилетело?
– Ой, ну что вы все вспоминаете это жуткое время. Как только прожили непонятно. Каждый день в новостях как сводки с фронта – того взорвали, этого застрелили. Не дай бог.
– Да это в девяносто восьмом. Игорюху тоже в подъезде ждали, но он сам падлу-хохла завалил, хотя и досталось ему пулевое. Я его в больнице сначала спрятал, потом на базе отдыха под Владимиром. Франц тогда зарешал основательно, он уже в гору шел… А вас-то в деревню нельзя было, отец мой в запой осенний ушел, вот и пришлось к Давидычу…
– Так все, мальчики! Разговор не для праздника.
– Ты бы, Зой, потише налегала. Нам домой еще ехать. Нечего в Венечку Ерофеева играть.
– Так, отвали, тут разговоры страшные, мне для храбрости нужно.
– Ребят, а как у вас с ремонтом-то дела?
– Да Глеб ниче не делает. Установил кабину мажорную… за бешеные бабки и намывается утром и вечером минут по 40. Как енот-полоскун.
– Зоя, это же радоваться надо, чистоплотный такой молодой человек.
– Мне кажется, есть темы и поинтереснее для обсуждения.
– Ой, а это какие? Как на Мальдивы съездили?
– Ну хотя бы.
– Отдых хороший, но Вова там набрал невозможно. И знаете из-за чего? Из-за фруктов.
– Это как так? Неужели из-за фруктов?
– Да, он только на завтрак целый таз разных плодов съедал. Нет, очень вкусные все, конечно, но это же сколько сахара. Вот он и расплылся.
– Так плавать надо было больше, Владимир…
– Да ты б видела, как он плавает. На спину ляжет и балдеет. Отвернешься, а у него уже на пузе манго разложены. Так прям и ест. Мякоть отщипывает пальцами и – в пасть, как выдра.
– Ну, нарожали детей. Один енот, другой выдра.
– Хоть семейство одно, бать: хищники-милашки.
– Так ведь они такими и в детстве были. Помнишь, Вася, как на речке в Огнево? Глеба вовсю ныряет в своих красных трусиках, а Вовуша все жалуется, что холодно и сносит его, и просится лучше, как вчера, в лес, «на море полежать». На озеро, значит, Огневское.
– Да-да, давайте пообсуждаем Вову. Завидуете, что я погреться каждый год езжу, а вы тут киснете.
– Ребята, ну давайте еще закусок, Глеба, поухаживай за девочками.
– …яйца, Владимир, я тоже не употребляю. Нет, не потому, что они мясные или не мясные, а потому что животные.
– Тогда, Зоя, грибочками похрусти.
– Да она уже, обхрустелась ими в своей тусовке.
– Вов, заткнись!
– Так? Налито? Ну давайте, с Наступившим всех. Двадцать первый год двадцать первого века. Мда, не думал, что доведется дожить.
– Да и мы, бать, не в восторге!
– Володя, чертенок, выйдешь у меня из-за стола сейчас за такие шуточки.
– Всё, пьем!
– Глеба, ты холодец обязательно распробуй, по новому рецепту. Хрен – вон свекольный слева, отец сам делал… Ты что-то бледный совсем. Прав Вовуша, надо вам тоже на море, погреться.
– Не до отдыха ща, мам, работы много. С квартирой надо разделаться, с диссертацией.
– А че, Глеб, как продвигается? К сорока-то кончишь универ?
– Да уж кончил, Вовка! Еще и степень брат получит.
– Я так, бать, в шутку, мы все гордимся… Кстати, Глеба, а чего там поп какой-то шизил в декабре, которого менты штурмом в монастыре брали? Телега аж захлебнулась. Мне про него даже пара каналов по инвестициям отписала.
– Один антипрививочник, отец Сергий. Типа против карантина выступает и патриарха со всей российской властью проклял.
– В самоволку, в общем ушел!
– Нет, Вовка, тут хуже. Бунт поднял.
– А он Глеба не из твоих старообрядцев, которых ты исследуешь?
– Не, мам, просто отморозок какой-то. Мне кажется, он и не православный даже. Завел себе секту на Урале под крышей монастыря и с ума сходил. Он же из зеков.
– Да ладно? Разве зеков в монахи берут?
– Если б в монахи, Машуня, брали только святых, монастыри бы все позакрывались.
– Ну и круть, и церкви бы заодно сократили. У нас вот рядом с поселком храм семнадцатого века стоит раздолбанный весь, люди пятый год сами собирают на восстановление, а эти все новые купола по Москве клепают.
– Ну зачем ты так, Володя?! Вот у нас какой батюшка Никодим приятный, да, Вася?
– Да, особенно, когда ты ему тыщенки на ремонт суешь. Аж светится весь.
– Да ну вас! Зоя, возьми огурчики, знаю ты любишь.
– Спасибо, Виктория Глебовна, спасибо. Обожаю их. Одну вашу банку я даже на работу отнесла. Ребята офигели, никогда, типа, таких хрумких не ели.
– Это потому, что вода не из под крана и не бутыльная, а из святого деревенского источника.
– Супер.
– А как, на работе у вас? Пришли в себя после карантина?
– Да норм, мне вообще по кайфу, что меня наконец с удаленного мастеринга сняли. За коробочками в студии на монтаже, на стандартах, рекастах и редабах работать интереснее. Тем более мастеринга у меня набирается дофига и кроме студии. Знакомый режиссер-продюсер взял два новых проекта, так что я по звуковому тракту дома еще работаю.
– Чем непонятнее, тем статуснее. Да Зойванна?
– Да она сама продюсером скоро станет. Характер позволяет.
– Не, Василий Николаевич, я, увы, не подхожу. Национальность с происхождением подкачали.
– И не прививается опять же!
– Серьезно? Зоя, ты так и не привилась разве?
– Да, мам, мы ж все проплатили и липу себе оформили.
– Кошмар какой! Зря вы так нашей медициной пренебрегаете, мы с отцом сделали и ничего.
– Да вот именно, что – ничего. Меня от такой принудиловки увольте. Че мы как в Европе что ли баранами все пойдем колоться.
– А у тебя Вовка так всю жизнь, что, если как у людей заведено, то значит принудиловка. Женился насилу, а кольца так и не носишь.
– И что же, Зоя, многие у вас в вашей компании также думают?
– В моей компании… У нас, Виктория Глебовна, пятьдесят на пятьдесят. Кто постарше, не стал вакцину бить, а вот молодняк весь, соевый, все кольнулись.
– Ну у них, мам, привычка просто. Колоться-то! А старики говорят, пока нюхательную вакцину не сделают, им неинтересно.
– Володя! Ну что ты такое говоришь?! Зоя, а в каком это смысле «соевые»?
– Ну такие… кто за всякие модные веяния топит. Типа, за негров, геев там и против власти.
– Кто против Рашки-говняшки и за Европку-в-попку в общем.
– Ну и словечки у вас, ребят.
– Да у тебя, Зой, на работе гниды через одного.
– На телеке и в шоу-бизе свои нравы. Так, я отойду на минутку.
– Ну что дамы, доливаю, пока наша модница пудрит лобик, а то она уже вон три фужера огней приговорила с водкой, еще устроит тут…
– Ты бы Вовуша и сам не налегал…
– А давайте-ка за дядю Игоря, чтоб ему недолго кимарить осталось.
– Не кимарить, а чалиться. И не надо, Вовка, на фене ботать, если не сечешь.
– Ладно, не в том дело. В общем, чтоб дядя наш быстрее с нами оказался, за этим столом.
– Да, за Игоревича нашего.
– Глеб. Тихо-тихо. Нагнись…
– Чего такое?
– Щас кто из-за стола выходил?
– Чего? Никто не выходил.
– Да неужели… Вова да? У туалета ходил, слушал.
– Да ты, Зой рехнулась что ли? Давай-ка кончай с водкой.
– Нахер-ка пошел. Паркет скрипел под дверью и свет кто-то загораживал…
– Так, дети, больше двух говорят вслух! «Оливье» чтоб доели! Мать по настоящему рецепту делала, с раковыми шейками.
– Звучит как онкология какая-то.
– Вовка!
– Ну а что, бать?!
– Схожу воздухом подышу – сказал отец, поднимаясь.
Пару секунд Глеб удивленно рассматривал здоровенную отцовскую ногу на табурете. На очищенной от снега полоске балкона, на ветру между запорошенными полиэтиленовыми тюками-мумиями он курил отчего-то электронную сигарету. Папиросы – на лестнице. Эску – на воздухе. Примочку освоил еще в том году, как утверждал, самостоятельно. Типа предложили в табачном, он согласился, втянулся. Отец, который лишний раз планшет в руки не брал, и, зло матерясь на рекламу, отказывался смотреть фильмы на ноуте.
Подозревали, что это все Вовина пропаганда. Брату же, который так-то часто агитировал отца завязать с куревом, ничего лучше в голову не пришло, как сослаться на отцовскую молодую любовницу, типа – вот батя моде и соответствует. Надо было видеть в тот момент маму, которая вскочила вне себя и броском покинула вечернюю в сумерках веранду, «красавица наша» – протянул ей тогда в след с непередаваемой особенной интонацией отец и затянулся сигаретой.
Переминаясь на ледяной плитке, цапающей аж через тапки, Глеб нарочно с силой хлопнул дверью.
– Пап, тут у меня еще дело к тебе. Посоветоваться.
– По деду что ли опять. Или по баблу? – не оборачиваясь переспросил отец.
– Не – Глеб так и не придумал, как бы вообще уверенно начать подобные расспросы и брякнул первое попавшееся, лишь бы замять нервозность и начать с отцом максимально увесисто по-мужски – я короче в тему, походу, попал.
Крутой затылок, сосредоточенный на темном без фонарей проулке, закивал – внимательно.
– Думаю в общем, телефон у меня вскрыли… На прослушку. Я пока так только по верхам полазил по этой теме. Не через поисковики, конечно, через библиотеку научную. Но признаки бьются. Включается сам по себе, приложения левые, батарейка новая кипит.
– Так вроде же обычная история, не? У матери вон на работе осенью почту увели с мобилы у парнишки-продажника. Со всей базой клиентской. Конкуренты отработали. Контакты там собрали, письмишки гадкие разослали типа с их фирмы.
– Ну так я ж не фирма, да и потом тут не только в телефоне дело – Глеб накинул капюшон и стал на снег рядом с отцом – Тема серьезнее. Ну короч, послушай просто, и сам прикинь. С квартирой непонятно как все обернулось, это ладно, это, наверное, отдельно, хотя я смотрел по дольщикам и там семейные были с детьми, которые по очереди до сих пор ничего не получили. А меня вписали сразу в новый ЖК классом выше. Бред же. Ну окей, допустим повезло просто. Допустим своя схема у застройщика была, или, как Зоя говорит, просто студия никому не подошла. Хотя, считаю, это херня, не бывает в нашей стране такой халявы. Но после этого меня сразу сначала первый отдел в Росэке задергал, трижды у них уже был, и они меня все про кредитную ситуацию выспрашивают. Потом уже в сентябре, как учеба стартовала, вызвал тип из универа, опээсник, ну знаешь, конторский в общем. Этот все узнавал, че я за документы в диссере публикую, оформлял ли я допуск себе по гостайне. Как будто на лоха, не знаю, тестил, причем тут допуск вообще. Ну то есть все это вместе такой одновременный интерес непонятный. А потом в декабре уже… Одна и та же тачка стала крутиться у дома, Mazda серая. Я ее почему заметил. В басе просто из окна вижу, что она идет следом, потом на неделе у метро своего ее видел, ну и номер запомнил. Та же Mazda. У дома, у метро, на шоссе.
На контрасте с мамой сейчас говорилось легко и чисто, потому что отцу рассказывать было просто, не нужно подбирать слова, и еще от выпитого, наверно. Коньячный градус будто выпер из тела лихорадку и захватил своим собственным жаром.
Отец вдруг отвернулся от Глеба и стал, судя по движениям, вытряхивать что-то из электронной сигареты. Спина под свитером энергично заиграла мышцей:
– Ну понял… По работе че у тебя? В плане занимаешь чем сейчас?
– Без изменений, если ты об этом. Ничего сверхсекретного, обычная рутина информационная. Ну, вот что кидаю тебе в телегу почитать, тем и занимаюсь. Посты, пресс-релизы, анализ по СМИ.
– Я к тому, что ты же не дурак, Глеб. Старт тебе, конечно, говно это ковидное скомкало, но в таких конторах работяг сразу палят. Там у чинуш за пятьдесят вся жизнь на этом строится. Чем больше молодежи толковой себе соберут на мониторинги на копеечную зарплату, тем дольше можно по Монако ебланить. Вот тебе и проверочка. Может, собираются что поинтереснее предложить.
– Не-не, не катит, бать. Начальник мой – дегенерат, никого он двигать не станет, а кто покруче про меня знать не знают. И потом, че они через универ пошли, да ещё тачку поставили.
– Ну ёпт – отец наконец повернулся, лицо его, изрезанное складками, в неряшливых усах походило на барсучью морду – Ты как мамкин капитан. Какой ещё, бля начальник тебя не двигает? Что вот прям непосредственный? Чисто ты как этот дурачок из мультфильма, кого вижу, о том мечтаю. Систему себе представляешь государственную, как работает? Наверху дядьки порешали, как правильно отделы тормошить, и вперёд. Наверняка сейчас под Боскис твою команду готовят, под бюджетик, чтобы от министерства наесться за следующий год. Прикинь, они сколько за локдаун сожрать не успели…
Доводы у отца звучали солидно, как всегда. Вообще, чтобы он ни говорил, речь выдавала человека, понимающего мир насквозь, как сучку, и весила тон десять. Тут было также. А небольшие сомнения ко всему рассеяла сладкая льстивая прикидка о работе с Валентиной Львовной. Можно без должности, можно без министерской иерархии. Просто оставить в уравнении сексапильную Боскис.
– Ну погодь, теория вышла капитальная, но по тачке то и по телефону все равно непонятно. Видел я первый отдел… пара хмырей предпенсионных.
– Видел он, ну ёпт твою налево, Глеб, ну как школота. Ну вот давай. Ты мне тут заявляешь, что тебя пасут, так? Как ЖК твой крякнулся типа, как вписался внезапно в другой, покруче. Ну то есть с августа считай. Считай полгода, ага? И чего, действия твои какие? Результат то какой? Ты команду свою рабочую изучил, а университетскую? От всех, с кем контачишь, до самого верха. Биографии хоть читанул, кто откуда выполз, служил, не служил, какие тёрки с кем, а как действует?
– Слушай, ну я ж не с разведроты как ты…
– А ты не придуряйся, Глеба! Привыкай справки наводить. Так мир устроен. На знании, информации, уж ты то должен разуметь, раз наукой занимаешься… Так, ну и сразу, коли ты у меня такой теплый, то имей в виду. Если уверен, что тебя ведут, значит это либо ваши из Росэконома, и тогда просто расслабься, не закидонь. Либо со стороны могут, мало ли, и тут тоже нужно свой коллектив знать по коллегам, потому что если под тебя по непонятным причинам роют, то твои могут и одолжение полезное сделать, если сообщишь им. Ту же мобилу, например, проверить…
Лукавое барсучье выражение растаяло. Отец шмыгнул носом и как бы снова потерял к разговору интерес.
– Предлагаешь им все рассказать, что ли? – удивился Глеб.
– Вариант. Но сам понимаешь, придется засветить, чего не надо. Если ещё не засветил.
Глеб облизал губы. Ноги в тапках больше не коченели. Не дул ветер. Мороз по коже накрывал от отцовских слов. Все это очевидное даже в голову не пришло за долгие месяцы. Ни разу. Штришок, наверное, вполне определенно его теперь характеризовал.
– Есть такое – глухо спросил отец, уставившись в темноту – чего не надо светить?
– Ну это бать, смотря кому и чего не надо – буркнул Глеб.
– Нормально разговаривай. Сам начал. Че там тебя, значит, по политике… митинги-хуитинги, коррупция, Карнавальный?
– Не, херня это все…
– Уже хорошо. А говно это, по закладкам. По Вовке точно знаю, балуется. И у нас в районе, сволочи, весь парк обосрали – отец закашлялся – присутствием, блять, своим с фонариками.
– Тоже тема не моя.
– Не твоя – повторил отец – но прихватить есть за что?
Глеб кивнул.
– Понятно. Считай тогда, что не ты один уже свои секреты знаешь. Знает и еще кто-то. И не просто там абстрактно. Вспоминай тех хмырей, морды ассоциируй, чтобы наверняка. Не факт, что проявятся, может просто смотрят. Но могут и проявиться. Поэтому затихни немного, со староверами своими в интернете не светись. Работа, диссертация, общение по самому ближнему кругу. Достаточно тебе пока. Лишнего не отсвечивай. И с компанией Зоиной аккуратно. Девка она умная, но из провинции, да ещё с Нижнего, знаю их ту вышку по студентам, поганый городишко. Плюсуй – работа у неё гнилая, ну много там вокруг говна всякого крутится, сам понимаешь. Ну и это… мне поспрашать есть кого, обращусь. Если по тебе какую-то вдруг команду там спускали, ясненько хоть будет.
Голова у Глеба уже не варила. Кругом, нахер, враги, вот все, что можно было извлечь из беседы. А вообще смешно выходило. Так он решил беседу и закрутить.
– Тебя, па, послушаешь, кругом, сука, обложили. Бедного аспиранта.
Отец не ответил. В окно настойчиво постучали. Из-под приподнятой занавески, как из-под фаты улыбалась Маша, еле слышно, выразительно двигая губами, приглашала пить чай.
Глеб пропустил отца, а сам еще постоял в задумчивости на воздухе. Картинка теперь проступала во всей красе. Зацикленный на очевидном, он как дурак даже не удосужился закрыть тему darknet, I2P, сделал там по крайне мере в ноябре две закупки. А ведь так это, наверное, и работает, вычисление – закидываются раздражители, отвлекают, и остается лишь наблюдать за действиями человека, опасается ли он и зачищает ли свое палево, или ничего кругом не замечает. И что тогда? Во втором случае. Логика подсказывает, что вокруг такого сеть будут сужать постепенно в надежде подольше наблюдать и измерить глубину левых контактов.
Озноб, было исчезнувший на холоде, в квартире разлился по жилам вновь. Мечется туда-сюда, как и его хозяин, подумал Глеб. Лицо, вон в зеркале, бледно, с темными дугами под глазами. Крадется по корням волос испарина. Сейчас спалит мама, еще заставит остаться на ночь, а это совсем ни к чему. Вообще надо бы двигать, все равно уже голова не соображает, но, если первым заикнуться на выход, так родители точно глаз не спустят.
Вместо гостиной он направился в туалет. Свет тут уже горел, струилась, журча, вода из оставленной наискось ручки слива. Текла вода и за стеной в ванной. Слышались чмоканье и вздохи. Глеб прислушался. Сквозь тихое ритмичное дребезжание в трубах, сквозь доносящиеся из квартиры выше детские крики и лай собаки, пробивался низкий, глухой голос брата:
– Да. Вот так. Соси. Нормально-нормально, давай.
Начав мочиться, Глеб сначала прислонился головой стене, сосредоточился, слушая, а потом, после минутного колебания, и вовсе беззвучно открыл расположенную в стене дверцу, за которой скрывались трубы. Он привстал на цыпочки, и, испачкав руку в паутине, протиснулся над бочком внутрь, откуда под большим углом увидел раковину и кусок зеркала. В нем едва различалось голое в мелких пигментах плечо Вовы, а внизу ходила пышная светлая челка.
– Соси. Соси его, – повторял брат.
Прихожая придавливала и теснила. От выпитого и съеденного, от впитанного тепла тела размякли, не держали форму. Вяло тыкались руки в обувь, тянулись переплетенные шарфы. Вова, Маша, Зоя, Глеб терлись пуховиками, толкались боками как пингвины. Мама все старалась протиснуться между ними с пакетами, но только клала руки на спину согнувшегося над заевшей молнией Володи и отходила назад.
Маша уже ждала лифт, когда из дальней комнаты вышел отец, роясь на ходу в рюкзаке-хаки.
– А ну-ка – он решительно отстранил мать к стене и повернулся к сыновьям.
– Вовка, тебе, как старшему подарок. Ты ж интересовался. Вот – на память о красных верблюдах – он вытащил из рюкзака целлофановый пакет, развернул и достал круглую шапку из серой шерсти – Держи пуштунку. На уши сильнее натягивай и не замерзнешь никогда.
– Офигенно, бать! Спасибо! Буду носить! – Вова тут же натянул подарок, посмотрелся в зеркало и сделал селфи – Огонь шапка!
– Василий, ну что ты ему дал! Он теперь с бородкой своей, как моджахед. Его все полицейские останавливать будут! – мама закачала головой.
– Валид ибн Больки – ухмыльнулся отец – Мы так в Афгане имена с отчествами на местный лад переводили.
– Да ты что, мам, наоборот. Гаишники теперь тормозить стреманутся, вдруг я из ММА-команды. Спасибо, бать!