Игра случая в истории искусства. Генерируй то, генерируй это
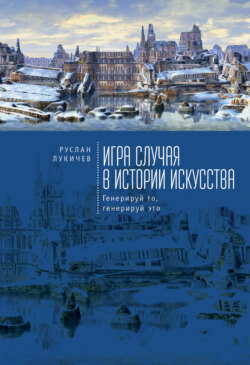
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Игра случая в истории искусства. Генерируй то, генерируй это
Введение
Глава 1. Искусство от случая к случаю: история вопроса
1.1. Откуда есть пошло генеративное искусство?
1.2. Случайность в арсенале классического русского авангарда, дадаизма и сюрреализма
1.3. Теория и практика ген-арта в 1960-х годах: зарубежный опыт
Глава 2. Ген-арт в искусстве России ХХ – начала ХХI века
2.1. Экспериментариум советских кибернетиков
2.2. Всеобщий компьютерный подъем 1990-х годов как фактор развития отечественного ген-арта
2.3. Генеративное искусство России начала XXI века
2.3.1. «Генеративист» родом из Брянска
2.3.2. Когда пространство оживает…
2.3.3. «Динамическая живопись» из Страны кленового листа
Глава 3. Игра случая в системе искусств ХХ – начала ХХI века
3.1. Хаос против Логоса: научно-философское обоснование ген-арта
3.1.1. Ген-арт как единство необходимости и случайности
3.1.2. Ген-арт в свете теории хаоса и теории систем
3.1.3. Ген-арт и фрактальная геометрия: точки соприкосновения
3.2. Расставляем точки над i: классификация генеративного искусства
3.3. Ген-арт как художественный метод, а не то, что вы подумали
Заключение
Библиография
Отрывок из книги
Когда речь идет о генеративном искусстве (generative art, genart), зарубежные авторы, как и их немногочисленные отечественные коллеги, считают своим долгом привести в качестве непреложной истины определение, данное Филипом Гэлентером, американским исследователем и преподавателем ген-арта: «Генеративным искусством является любой художественный опыт, в рамках которого художник использует автономную систему (набор лингвистических правил, компьютерную программу, механизм или устройство), участвующую в создании произведения искусства либо полностью производящую его»6.
Приведенная дефиниция при всей своей лаконичности точно передает самую суть генеративного искусства. Во-первых, «любой художественный опыт»: Гэлентер подчеркивает, что ген-арт не сводится к одной лишь цифровой живописи или, в более широком смысле, визуальным видам искусства; элементы генератива встречаются, к примеру, в музыке, поэзии, беллетристике (так, основоположник дадаизма Тристану Тцара использовал «метод нарезок» для генерации своих стихотворений в начале 1920-х). Во-вторых, главное условие существования генеративного искусства – применение автономных систем, неподвластных тотальному контролю со стороны человека; наличие такого рода систем или правил, собственно, и делает ген-арт ген-артом, то есть искусством, генерируемым неким случайным, не зависящим от воли художника образом. В-третьих, творческие обязанности между системой и человеком в контексте ген-арта могут быть распределены по-разному: система либо принимает некоторое участие в создании произведения (или отдельных частей), либо генерирует его целиком, отталкиваясь от заданных автором условий; роль последнего при этом сводится к минимуму, напоминая разве что функцию дирижера в оркестровом концерте. «Роль художника – создать, запустить или только выбрать набор процедур для генерации возможных математических выражений»7.
.....
Говоря об истоках ген-арта в русском авангарде, уместно также упомянуть о «принципе протекающей раскраски» в рисунках М. Ларионова, о живописных алогизмах К. Малевича, о «случайностях» в коллажах и фотомонтажах А. Родченко. Все это и многое другое, включая рассмотренные выше примеры, – плоды активного творческого поиска отечественных авангардистов в области случайного, стихийного, «заумного»: с одной стороны, в них усматривается близость идеям дадаистов, с другой – самобытность и самостоятельность. Развивая мысль Адамовича о «маниакальном стремлении» Шаршуна к познанию и самопознанию, отметим, что это справедливо, пожалуй, не только в контексте творчества названного писателя, но и в более широком – в контексте всего русского авангарда, ведь его особенности состояли как раз в напряженной, углубленной рефлексии, сосредоточенном внутреннем самосозерцании и самоотрицании, строгой ориентированности на постижение духовного мира человека и подлинной, скрытой сущности вещей. Не исключено, что многие из этих черт проявились и почти век спустя, только в ином, виртуально-генеративном виде отечественного искусства.
Западные искусствоведы, говоря о происхождении генеративного искусства, отводят едва ли не главную роль в этом процессе дадаизму и, в частности, «словесным коллажам» Тристану Тцары, ведь в эстетике дадаизма одним из важнейших элементов являлся принцип случайности. Так, немецкий художник-дадаист Ханс Рихтер (1888–1976) отмечал, что «случай стал нашим опознавательным знаком. Мы следовали за ним, как за компасом»50. Создавая серию «Воображаемых портретов» (1916–1917), Рихтер намеренно работал вечерами в неосвещенной комнате: сгущавшиеся сумерки служили своего рода источником стихийности, случайности и помогали художнику впасть в «автогипнотический транс», когда его рука должна была самостоятельно, без помощи органов зрения, завершить начатые полотна51.
.....