Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века
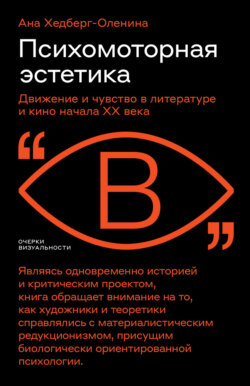
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века
Введение
Моторная иннервация с точки зрения физиологической эстетики
Обезличивание: освобождение или закабаление?
Переплетение дискурсов: на подступах к психологии искусства
1. Звукоречь: психологические источники русской футуристической поэзии
Движение как материальный проводник аффекта
Заумный язык: вопрос языковых конвенций или субъективных эмоций?
Психолингвистическая идея звукожеста у Шкловского и ее источники
Джеймс и Вундт о жестовой выразительности, передаче аффектов и коммуникации
2. Моторные импульсы в поэзии: формалисты о декламации стихов
Институт живого слова
Методы психофизиологических исследований поэзии
Формальные эмоции и проблема их воплощения
3. Партитуры движения: Лев Кулешов о психологии натурщика
Разложение образа
Рефлексология и тейлоризм
Критика подхода Кулешова
4. Концепция вчувствования Сергея Эйзенштейна и ее истоки
Чувствующее тело зрителя: теория эмпатии Эйзенштейна между Липпсом и Бехтеревым
Совпасть с образом: Эйзенштейн и эстетическая теория XIX века
От оптического стимула к подражательной моторной реакции
Двигательное торможение, воля и познание
Эйзенштейн и реакции кинозрителей
5. Пульс фильма. Психофизиологические исследования кинозрителей
Проверка голливудских эмоций: Уильям Марстон на студии Universal
Рефлексы зрителей-пролетариев и крестьян
Послесловие. Современная нейрокогнитивная эстетика и исторические уроки «Психомоторной эстетики»
Список литературы
Источники иллюстраций
Отрывок из книги
Психология как научная дисциплина возникла в конце XIX века, когда она отмежевалась от философии и взяла курс на точные науки. Важнейшим шагом на этом пути стал отказ от метафизического понятия «души» в пользу нейрофизиологических подходов к психике. Как писал в 1890 году основоположник американской психологии Уильям Джеймс, душу нужно считать «средой, в которой комбинируются результаты множества процессов, происходящих внутри мозга»2. По утверждению Джеймса, только такая «психофизическая» формулировка, постулирующая соответствие между психическими состояниями и нервной деятельностью, открывает долгосрочные перспективы для исследования науки, претендующей на то, чтобы оставаться в рамках «не метафизического, но позитивистского знания»3. В тот же период в Германии Вильгельм Вундт подвел под психологию естественнонаучный фундамент. По его мнению, изучать психику при помощи широко распространенного метода самонаблюдения недостаточно, так как человек не может уследить за бессознательными процессами. Чтобы дополнить интроспекцию как метод, Вундт разработал процедуры лабораторного анализа элементарных мыслительных функций и ввел в оборот рабочие определения стимула и реакции. Он измерял силу отклика подопытного, рассчитывая скорость прохождения импульса от нервных центров к мышечным тканям. Современникам и последователям стало казаться, что ключ к эфемерной, неуловимой жизни человеческой души наконец-таки найден, что ее теперь можно измерять и анализировать. Экспериментальные лаборатории принялись зондировать механизмы чувственного восприятия, памяти, умственных и аффективных процессов, разлагая сложнейшие психические функции на элементарные составляющие и выискивая их материальную основу. Во Франции знаменитый психиатр и невролог Жан-Мартен Шарко стал вести фотографическую документацию спазмов и параличей «истерических» пациенток в поисках следов перенесенных ими душевных травм4. Итальянский ученый Анджело Моссо измерял увеличение поступления крови в мозг, когда испытуемый проделывал определенные задачи в уме (ил. 0.1)5.
Ил. 0.1. Аппарат для записи «мозгового пульса», использовавшийся итальянским ученым Анжело Моссо для регистрации притока крови к лобной части мозга во время решения умственных задач пациентом.
.....
Данная книга рассматривает художественные проекты, теоретические разработки и стратегии культурной политики, которые так или иначе пытались воспользоваться открытиями психофизиологии. Авторов, разрабатывавших эти новаторские направления, не смущала тенденция обезличивания, тревожившая Белого; они не страшились материалистического детерминизма и разрушения традиций. Основной упор в книге делается на российском и советском авангарде, который рассматривается в контексте его связей с авангардными феноменами, как предшествующими, так и современными. Все главные герои этой книги прагматически относились к психомоторным проявлениям: они изучали моторные автоматизмы и кинестетические ощущения с бесстрашием и любопытством. Плохо это или хорошо, но этот дерзкий подход отвергал пугающие темные коннотации, которые связывались с идеей телесных автоматизмов в декадентской культуре и романтической готической традиции. Благодаря дискурсу об истерии конца XIX века неконтролируемые всплески соматической активности часто интерпретировались либо как свидетельство расщепления личности и распадающегося «я», происходящих вследствие пережитых травм, либо как зловещий знак гипнотических манипуляций. Эти коннотации оставались в западноевропейской модернистской литературе вплоть до конца 1920‑х годов, обратившись в трагический образ социальных недугов. Так, компульсивное поведение страдающего посттравматическим расстройством ветерана Первой мировой Септимуса Уоррена Смита из романа Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй» (1925) служило напоминанием о его израненной душе, лишенной сострадания и понимания со стороны общества44. В немецком экспрессионистском кино мотив сомнамбул, послушных воле злого гипнотизера, входил в резонанс с расхожими страхами и конспирологическими теориями тревожных послевоенных лет Веймарской республики45. В отличие от таких пессимистичных взглядов, персонажи данного исследования – российские футуристы и формалисты, советские киноавангардисты и работники сферы просвещения и пропаганды – с воодушевлением воспринимали теории о бессознательных телесных проявлениях. Для них автоматизмы тела стали отправной точкой творческих поисков и показателем силы вовлечения аудитории в зрелище.
Так, поэт Алексей Крученых, о котором пойдет речь в первой главе, изучал психиатрические записи о поведении «бесноватых»: его внимание привлекали материальные свидетельства сильных аффектов, отразившиеся в графологическом анализе почерка маниакально-депрессивных пациентов, а также в экстатическом трансе и глоссолалии религиозных сектантов. Медицинская документация этих практик предоставила поэту образец неограниченной свободы выражения. В своем анализе я иду по стопам Екатерины Бобринской, установившей параллель между теорией «моментального творчества» Крученых и техниками автоматического письма французских сюрреалистов. Следуя за Чезаре Ломброзо, сопоставлявшим гениальность с безумием, представители московской и парижской богемы спускались на грань бессознательного в поисках озарений, которые обыденное мышление постичь не в состоянии46. Однако, как проницательно замечает Бобринская, в то время как сюрреалисты, в том числе Андре Бретон и Антонен Арто, использовали автоматическое письмо, чтобы прощупать глубины собственного бессознательного в ключе фрейдовского психоанализа, Крученых интересовали безличные, структурные особенности русской фоносемантики47. В первой главе я анализирую то, каким образом один из первых апологетов творчества Крученых, Виктор Шкловский, интерпретировал эксперименты поэта как исследование речевой экспрессии. Шкловский полагал, что в своей заумной поэзии Крученых выявляет глубинные моторные программы, отвечающие за вербализацию различных идей и состояний сознания. Он утверждал, что обнаружение этих моторных программ, или «звуковых жестов», и включение их в игру – это футуристский способ нащупывания «внутренней формы» слов в русском языке. Творческая игра с фоносемантическими, артикуляционными и жестовыми аспектами речи, по мнению Шкловского, давала поэтам-авангардистам возможность изобретать необычные, но поразительно действенные звуковые комбинации и ритмы. Раскрывая контекст идей Шкловского, я указываю в этой главе на распространение психоневрологических терминов в русскоязычной литературной теории и лингвистике в 1910‑е годы, уделяя особое внимание теории Уильяма Джеймса о телесном опыте переживания эмоций и учению Вильгельма Вундта о происхождении языка из жеста. Шкловский в некотором смысле приравнивает научные исследования и эксперименты футуристов, однако в то же время он признаёт творческий потенциал поэзии, называя ее «балетом органов речи»48. В заключительной части главы рассматривается парадоксальное желание футуристов обнажить психологические законы вербализации и при этом оставить за собой право на сознательный фарс и игру.
.....