Над арабскими рукописями
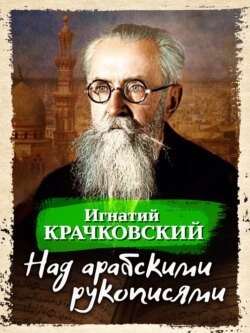
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Над арабскими рукописями
«Издательский Дом СОЮЗ» и Издательство «Покидышевъ и сыновья» представляют
Предисловие
Прелюдия
I. В рукописном отделе
Пролог (1901)
1. Старый апокриф (1906)
2. Переводчик Крылова (1922)
3. Современник Хулагу (1911)
4. «Заложник двойной тюрьмы» (1912)
5. Из Сицилии через Персию в Петербург (1929)
Эпилог (1941)
II. Из скитаний по Востоку
1. Книги и люди (1908–1910)
2. Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет? (1910–1912)
3. Ненаписанная диссертация (1910)
4. Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание (1900–1927)
III. Арабские писатели и русский арабист
1. «Философ долины Френки» (1910–1940)
2. Каирский аристократ – «феллах»
3. Полтавский семинарист
IV. В азиатском музее
1. Введение к легенде (1903–1934)
2. Единственная рукопись и ученые «дванадесять язык»
3. Современник первого крестового похода (1919–1921)
4. Лоцман Васко да Гамы
V. В университетской библиотеке
1. Библиотекари и библиотека (1907–1930)
2. Впервые оппонентом на диссертации (1914)
3. От Каира до Волкова кладбища в Петербурге (1916–1930)
4. Аль-Андалус и Ленинград (1906–1942)
VI. На ловца и зверь бежит
1. Бронзовые таблички из страны царицы Савской (1930)
2. Письмо из Согдианы (1934)
3. Куфический Коран и «бабушка-арабка» (1936)
4. Пристав при Шамиле в Калуге (1928–1941)
VII. Тени предков
1. Мученик арабской литературы (1910)
2. «Тихий» Гиргас (1901–1941)
3. Полвека над одной рукописью (1903–1938)
Финал. Requiem aeternam… (1943)
Приложение. «Обязательность необязательного»
Примечания
Объяснение слов
Отрывок из книги
Судьба этой книжки оказалась счастливой: я писал ее в суровые годы войны, но свет она увидела в знаменательные дни мая 1945 г., когда вся страна с торжеством встретила победное завершение подвига военных лет. Тяга к мирному труду, к прерванной работе над величественным зданием нашей культуры почувствовалась особенно сильно, и книжку дружественно приветствовал даже тот, кто был в жизни далек от арабских рукописей, кто никогда раньше не думал о восточной филологии. Письма и отзывы за полгода показали, что необходимо второе издание, что в нашей ширящейся культуре для книжки нашлось место.
Второе издание я готовил уже не в эвакуации, а в своей библиотеке, среди старых друзей – рукописей и книг, переживших блокаду. Теперь я мог проверить даты, исправить неточности в цитатах, если погрешила моя память, внести ясность в отдельные детали.
.....
Вчера неожиданно я наткнулся у Брокельмана в «Истории арабской литературы» на упоминание, будто в Публичной библиотеке сохранились образцы каллиграфии знаменитого историка Алеппо Кемаль ад-дина. Мне стало стыдно: опять иностранец лучше знает, что у нас находится, а мы нигде даже об этом не говорили. А ведь Кемаль ад-дин был известен не только как историк или дипломат, но и каллиграф. Сам грозный Хулагу, разорив его родной Алеппо в 1260 году, соблазнял Кемаль ад-дина вернуться из Каира, куда он спасся, на высокий пост главного судьи в Сирии.
Понятно, что утром я торопливо шел в библиотеку, волнуясь и как-то не веря, что буду держать в руках автограф знаменитого человека эпохи великих монгольских завоеваний. Иван Афанасьевич, как всегда, быстро и несколько таинственно, вынес рукопись. Я с недоумением стал ее перелистывать. Передо мною был изящный альбом каллиграфических образцов, но гораздо более позднего времени XV–XVI века. С интересом я любовался замечательными упражнениями из Герата, Бухары, Самарканда; мне стало ясно, что я вижу памятник каллиграфического искусства знаменитой Гератской школы, где алеппскому историку XIII века места не было. Однако ошибки в ссылке тоже не было, а Иван Афанасьевич уже начинал волноваться, доказывая, что рукопись соответствует шифру. Тогда я внимательно принялся вглядываться в подписные образцы и быстро обнаружил, что среди них несколько раз фигурирует какой-то Кемаль ад-дин, но это, конечно, мог быть только тезка знаменитого историка. Как часто случается, и я поспешил заподозрить в ошибке старика Дорна с его каталогом, но, раскрыв книгу, сейчас же убедился, что он вовсе не сопоставлял этого каллиграфа с историком. Значит, ошибся сам Брокельман, а Иван Афанасьевич, как всегда, оказался прав. Я возвращался домой несколько разочарованный тем, что не увидел почерка знаменитого человека, но успокоившись, что мы не проглядели редкого автографа.
.....