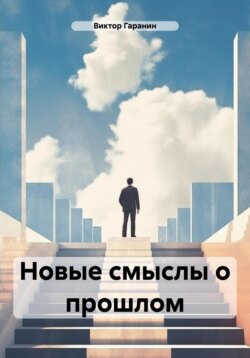Читать книгу Новые смыслы о прошлом - - Страница 1
Глава 1. Страницы биографии
Оглавление«Когда дряхлеющие силы нас начинают покидать»
(Ф. Тютчев)
За свою жизнь мне много раз приходилось писать свою автобиографию, отвечая на требования различных официальных и разрешительных структур. Помню, что в отдельных случаях даже предварительно знакомили с перечнем вопросов, которые нужно было раскрыть в контексте своего изложения… Поэтому свою собственную автобиографию я всегда воспринимал как четко структурированный набор определенных жизненных этапов, главным образом, связанных с трудовой деятельностью, число которых с возрастом увеличивается. В этом случае моя биография выглядела бы следующим образом:
1960 г. – 1969 г. – токарь, слесарь, студент МИСИ им. В. В. Куйбышева
1969 г. – 1971 г. – инженер, начальник проектного бюро, главный архитектор Лианозовского электромеханического завода Минрадиопрома СССР
1971 г. – 1973 г. – Служба в Советской Армии
1974 г. – 1982 г. – инженер НИР, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры железобетонных конструкций МИСИ им. В. В. Куйбышева
1982 г. – 1988 г. – Инструктор Отдела строительства ЦК КПСС
1988 г. – 1989 г. – помощник заместителя Председателя Совета Министров СССР Ю. П. Баталина
1989 г. – 1992 г. – Заместитель Председателя Госстроя СССР, член Коллегии Комитета
1995 г. – 2006 г. – Первый вице-президент Международного общественного объединения «ЕврАзия»
2006 г. – 2009 г. – декан факультета повышения квалификации, профессор Московского государственного строительного университета
2009 г. – 2015 г. – заместитель Управляющего делами – начальник канцелярии Центра международной торговли, г. Москва
С августа 2015 г. – на пенсии.
Структура приведенной справки – объективки (как ее в то время называли), наглядно отражающей 55 лет моего наемного труда, внешне выглядит достаточно логичной и убедительной: вслед за возрастом, по нарастающей, менялись области профессиональной деятельности, должности и служебные приоритеты. Личная жизнь за эти годы также не стояла на месте, подарив мне от двух браков соответственно дочь Марину, 1971 г.р., и сына Антона, родившегося 01.06.1998 г.
Если следовать изложенному стереотипу, то можно считать, что с выходом на пенсию моя автобиография закончилась, и, выражаясь словами Виссариона Белинского, «осталось лишь ее продолжение…»; от себя добавлю: продолжение в никуда…
Правда, существует и другая крайность, когда биография сводится к мемуарному жанру, наполняясь массой всевозможных подробностей и комментариев из личной жизни, рассказов незнакомым людям о большом количестве только тебе известных имен и произошедших событий. Но здесь нужно обладать по-настоящему писательским даром, чтобы твое изложение оказалось интересным, не напоминало бы сухой протокол прожитой жизни и, уж тем более, не выглядело бы неуклюжей претензией хотя бы отдаленно казаться похожим на автора «Былого и дум».
Моя биография по сути достаточно стереотипна в том смысле, что очень похожа на биографии многих и многих людей моего поколения восьмидесятников, испытавших непосредственно на себе все тяготы послевоенного лихолетья, трудности и героику восстановления разрушенной страны, стремительного наращивания ее индустриальной и оборонной мощи, освоения космоса.
Даже трагическое разрушение некогда великого государства с аббревиатурой СССР в конце 90-х годов прошлого столетия для абсолютного большинства наших людей, также как и для меня, оказалось сродни внезапному началу войны, той самой строкой, которую уже не вычеркнуть из своей биографии. Мы все вместе стали очевидцами откровенного, предательского разграбления нуворишами от реформ огромного экономического, промышленного и сырьевого богатства страны, созданного героическим, подчас подневольным трудом миллионов и миллионов советских людей…
…Родился я в победном 1945 году, в г. Златоусте Челябинской области, где моя мама, Гаранина Евдокия Михайловна, с маленькой 10-летней дочкой Александрой – моей будущей внутриутробной сестрой – находилась в эвакуации. Примерно, через полгода после моего рождения мама, уже с двумя маленькими детьми, вернулась в Москву, где нас никто тогда не ждал. Поселились в Подмосковье, на железнодорожном пути, в неотапливаемом дырявом вагоне, где вместе с нами поселилась большая стая крыс.
Кто-то посоветовал маме написать письмо К. Е. Ворошилову. Почему именно ему – не знаю. Может быть потому, что он нередко проезжал на свою дачу по Дмитровскому шоссе, недалеко от того места, где стоял наш вагон, и его имя было у всех, как – бы, «на слуху». Не думаю, что письмо, которое помогли маме написать соседи по вагону (мама была малограмотной и писать практически не умела), сыграло какую-то роль. В любом случае, нас переселили в деревянный, оштукатуренный барак, в комнатку площадью 6 кв. метров, часть которой занимала каменная печка. Однажды малолетняя сестра купала меня в оцинкованной ванне и каким-то образом умудрилась уронить прямо на угол той самой печки. Как мне рассказывали – без видимых последствий…
Сегодня я, конечно, могу представить весь «комфорт» проживания в бараке и те трудности, которые испытывали его обитатели. Тогда же, в силу возраста, я и представить себе не мог, что кто-нибудь или что-нибудь способно нарушить почти семейную атмосферу в нашем бараке. Впрочем, были два обстоятельства, которые приводили меня в ужас.
Не знаю почему, но я боялся новогоднюю маску, которая была у нашей соседки, тети Сони. Обычная, сделанная из папье-маше, это не была маска с образом какого-то сказочного урода или страшной Бабы-Яги; скорее, наоборот – милая, ехидная рожица… Зная мою реакцию, тетя Соня специально надевала эту маску всегда неожиданно, желая застать меня врасплох. Это ей удавалось почти всегда. Мама мне рассказывала, что я белел от страха в трепетном ожидании увидеть маску даже тогда, когда проходил по коридору барака мимо комнаты, где жила «добрая Фея». Позже уже сама тетя Соня стала вызывать у меня ассоциации почти на уровне животного страха.
Иногда и без того хилые стены барака испытывали на себе мощные толчки от сразившихся в пьяной драке недавно мобилизованного моряка и совсем еще молодого работника милиции. Это действо происходило довольно часто. В ходе потасовки дерущихся, если это удавалось, связывали, поскольку утихомирить другим способом не получалось. Все жители барака невольно становились свидетелями возникшей драки, добавляя к общей нервозной обстановке свои крики и угрозы в адрес «героев» скандала. В этом бедламе моя детская психика не выдерживала, и я, по рассказам мамы, у нее на руках, белел в лице и трясся. Она же в паническом страхе за ребенка металась по коридору, не находя для меня укрытия.
В том же бараке я, трехлетний малыш, «заработал» первые в своей жизни деньги. Мама рассказа мне потом, уже повзрослевшему, что на те 10 рублей (огромные, с профилем Ленина), которые я нашел на пороге барака в кармане рваной телогрейки для вытирания ног, мы прожили целую неделю…
Уже в раннем детстве я, еще неосознанно, познакомился с коллективистскими началами предстоящей жизни, проведя в детских яслях и потом садике все свое основное время. Даже обучение в 1 классе школы в самом начале, из-за карантина, проводилось в прежнем детском саду.
В 1952 году из деревянного барака мы переехали в 13-тиметровую комнатку коммунальной квартиры, там же поселились еще две семьи. В моей детской памяти навсегда сохранился тот момент: когда мы в первый раз вошли в новую комнату, мама заплясала от счастья. Теперь не нужно будет зимой ходить за водой к колонке и греть ее на печке, в ванной комнате, кроме умывальника и самой ванны, оказался еще и нагревательный титан для воды.
Конечно же, ощущение полного комфорта в тот момент могли испытать только такие же, как и мы, получившие совершенно бесплатно новое жилье, да еще с теплым и уютным туалетом, заменившим продуваемое насквозь хилое дощатое сооружение с двумя криво вырезанными отверстиями в деревянном подиуме, которое после многих лет пользования казался почти родным.
Вскоре, в марте 53-го года, умер Сталин. В тот день я проснулся от звука доносившихся до меня рыданий мамы и сестры, которые сидели на своей кровати и, со слезами на глазах, о чем-то тихо говорили…
На протяжении большого периода своей сознательной жизни, заполняя различные анкеты, в соответствующей графе мне приходилось указывать: «Об отце сведений не имею». Иногда от меня требовалось уточнение, что отсутствие этих данных не связано с войной, где мой отец мог пропасть без вести. Просто я его никогда не видел и не общался с ним. Позже мне предложили в таких случаях писать о себе: «Родился вне брака». Эта маленькая биографическая деталь раскрывает прежде всего исключительную роль нашей матери в сохранении жизней своих детей.
…В биографии каждого человека много личного, пережитого им и его родителями, того, что является для его близких дорогим и сокровенным, и потому закрытым для публичного обозрения. Я рассматриваю биографию любого человека как его личную судьбу, в которой, с верой в Бога, всегда остается место для значимых целей и реальных достижений, приобретений и потерь, душевных радостей и искренних сожалений, переживаний и надежд на лучшее…
В моей биографии судьбоносным было рождение сына Антона. Именно с ним связываю я сегодня свое земное пребывание, во имя его обращаю к Богу свои молитвы.