Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре
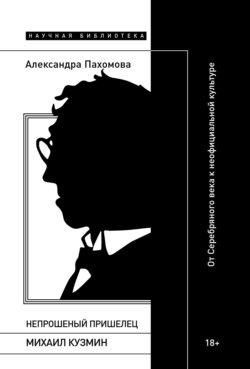
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре
От автора
Введение. Три известности Михаила Кузмина
Становление литературной славы: Кузмин – александриец, порнограф, апостол?
Глава 1. В поисках перемен (1912–1917)
Невоенные рассказы
Кузмин – футурист и поэт революции
«Марсельские матросы» – революционный проект Кузмина
Глава 2. Пространство выбора (1917–1921)
«Враждебное море» и конец иллюзий
От современности к гностицизму: Кузмин осенью 1917 года
Куда пропали «Гонцы»? Три варианта пореволюционной судьбы Кузмина
Годы затишья: 1918–1920
Глава 3. Эмиграция и внутренняя эмиграция (1921–1924)
«Вторник Мэри»: Воображаемое путешествие в 1906 год
Кузмин – новый Пушкин
Начало конца: Объединение эмоционалистов и сборник «Условности: Статьи об искусстве»
«Радостный путник» на перекрестке эпох
Глава 4. Хроника угасания (1924–1936)
«Стружки» былой славы: Творчество 1924–1926 годов
«Форель разбивает лед» и возвращение в 1910-е годы
Формирование круга Кузмина в конце 1920-х – начале 1930-х годов
Глава 5. Подземные ручьи: История культа (1936–1989)
Дневник как жизнь, жизнь как дневник: К прагматике главного прозаического текста Кузмина
Два вида ностальгии: Кузмин как образ и Кузмин как культ
Эпилог. Выбор и последствия
Благодарности
Литература
Отрывок из книги
Первые слова этой книги были написаны в 2017 году. Именно тогда мне впервые захотелось рассказать про Михаила Кузмина не как про эстета и культовую фигуру русского модернизма, чья история соединила центральные сюжеты и главные имена Серебряного века. Меня заинтересовал другой период его жизни: когда блестящий поэт, денди и знаток французского искусства XVIII века обнаружил себя сперва в повоенной, потом в пореволюционной, а затем и в Советской России – но не покинул эту страну, не отказался от творчества, а продолжил писать и сочинять в тяжелейших и мало пригодных для этого условиях.
Двадцать лет жизни Кузмина окутывает почти непроглядный мрак, но результатом их стала книга «Форель разбивает лед», одна из вершин русской поэзии XX века – а может, и русской литературы вообще. Над пропастью, на краю которой оказалась русская культура в 1917 году, Кузмин будто бы смог перекинуть одному ему видимый мостик и органично пронести по нему из 1910-х в 1920-е свои элегантные стихи, игривые «песеньки» и представления о красоте, изяществе и легкости, которые он забрал из других времен. Кузмина не смогли сломить или заставить замолчать годы нищеты, безвестности и бесконечного страха. Этот денди и эстет явно знал какой-то секрет обращения с историей.
.....
Сама по себе репутация «живого александрийца» была запоминающейся и яркой, однако Кузмин не остановился на одном публичном образе. Значительную роль в построении его репутации сыграла повесть «Крылья», которая сразу после журнальной публикации вышла двумя отдельными изданиями в «Скорпионе» (в первой половине 1907 года и в начале 1908-го)49 и моментально была распродана. О популярности книги свидетельствует письмо В. Я. Брюсова начала 1907 года отцу: «„Крылья“ Кузмина имеют большой успех. Все хотят купить № 11, где они напечатаны. Выпускаем роман отдельной книжкой»50. 26 сентября 1907-го Брюсов писал Кузмину о том, что тираж повести распродан, что потребовало выпуск следующего издания.
Чем же были притягательны «Крылья»? Прежде всего своей центральной идеей – апологией любых форм любви. О разных, но преимущественно телесных ее проявлениях говорят почти все герои романа – Штруп («Вместо человека из плоти и крови, смеющегося или хмурого, которого можно любить, целовать, ненавидеть, в котором видна кровь, переливающаяся в жилах, и естественная грация нагого тела». – Проза, 1, 195), Даниил Иванович («…дело в том, что только циничное отношение к какой бы то ни было любви делает ее развратом». – 1, 210), Марья Дмитриевна («И это неправда, что старухи говорят, будто тело – грех, цветы, красота – грех, мыться – грех. Разве не Господь всё это создал: и воду, и деревья, и тело? Грех – воле Господней противиться: когда, например, кто к чему отмечен, рвется к чему – не позволять этого – вот грех!». – 1, 256). Открытая провокативность этих идей и прямая полемика с консервативной моралью не могла остаться незамеченной. Неприкрытый гомоэротический сюжет оказался востребованным публикой еще и потому, что в конце 1900-х годов вышло сразу несколько произведений эротического или открыто порнографического содержания, среди которых «Мелкий бес» (1905) Ф. Сологуба, «Леда» (1906) А. П. Каменского, «Санин» (1907) М. П. Арцыбашева, «Тридцать три урода» (1907) Л. Д. Зиновьевой-Аннибал; в 1907 году был опубликован первый перевод скандального трактата О.Вейнингера «Пол и характер». Их появление вызвало общественный резонанс и стимулировало широкую дискуссию о «половом вопросе», чему было посвящено множество книг с примечательными названиями, такими как «Порнографический элемент в русской литературе» Г. С. Нейфельда (СПб., 1909), «Половой рынок и половые отношения» А. И. Матюшевского (СПб., 1908), «Помрачение божков и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе» А. А. Измайлова (М., 1910) и др. Общим местом этой литературы было осуждение авторов, показывающих «одну грязь половых эксцессов»51. В те годы сексуальные перверсии и возможность их открытого обсуждения в печати воспринимались как симптом болезненного состояния и деградации общества52. Кроме того, как отмечает историк Дэн Хили, с 1870-х годов гомосексуальная субкультура в столице дореволюционной России начала обретать видимость: появлялись особые места знакомства, вырабатывался язык, сигнализирующий о принадлежности к «кругу», что также активно обсуждалось в прессе53. Следствием этого стала моральная паника, охватившая общество: популярным городским слухом, просочившимся в прессу, стала легенда о «клубе развратников», где предаются пороку и читают произведения Кузмина (почетного члена этого клуба), или о возникновении идеологии «санинства» среди молодежи54.
.....