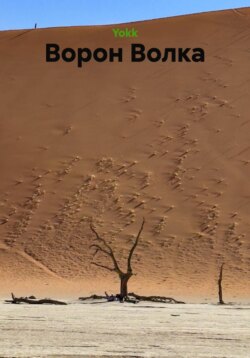Читать книгу Ворон Волка - - Страница 1
ОглавлениеНесмотря на то, что я лихорадочно перестраивался из ряда в ряд, сигналил и матерился, время на Яндекс-навигаторе только увеличивалось. Осень в этом году закончилась быстро, уже в середине октября повалил снег и потом началась слякоть, так ненавистная всеми москвичами – то ли снег, то ли дождь, влажность и пронизывающий ветер, как ни одевайся. В этот момент я ненавидел всех – окружающих водителей, тупорыло пялящихся в свои смартфоны, играющие в игры и пролистывающие ленты в инсте и фейсбуке, и от этого нещадно тупящие. Ненавидел свой не очень новый (а скорее всего совсем не новый) BMW, впарили-то мне его как нулевый, но болячки полезли из него сразу же. К сожалению, сам я не разбирался в машинах в достаточной степени, а нанять специалиста по подбору жаба задушила. Вот теперь начала пинаться коробка, что грозило куда бОльшими расходами, чем внезапно перегоревший ксенон или пришедшая в негодность прямо посреди трассы вискомуфта. Ненавидел руководителя, который отпустил меня с таким видом, будто я взял у него тыщу, нет, сто тыщ баксов в долг. А ведь именно я всегда вытаскивал наше подразделение, когда нужно было срочно что-то допилить, остаться вечером, а то и в ночь доделать к утру «кровь из носу». Да и дедуля как-то не вовремя попросил подъехать, будь он неладен… Тут я осекся. Дедушку я любил всем сердцем и такую мысль даже сам себе простить не мог. Несмотря на то, что он позвонил в разгаре рабочего дня со своей просьбой подъехать, несмотря на выпавший только что снег и девятибалльные пробки, несмотря на то, что я так и не сменил резину на своей синей BMW, несмотря на то, что дедуля уже не всегда отдавал себе отчет в том, что делал и говорил, мог по десять раз за вечер переспрашивать одно и тоже, не в состоянии запомнить ничего, я немедленно отпросился с работы и поехал к нему.
Наш дедуля был легендарной личностью. Чистокровный немец из поволжских, сбежавший из родного села от голода продразверстки, в тридцатые скитался голытьбой по городам центральной России, но каким-то чудом прибился к дому-интернату во главе с хорошим педагогом, где его обучили грамоте, математике и другим наукам, благо от рождения тот обладал любознательностью и живым умом.
В начале войны их интернат эвакуировали в Горький, потом начались проблемы с его немецкими корнями. Но тут ему повезло – никаких порочащих связей у него не было, от семьи он ушел еще в детстве и воспитывался в исключительно пролетарском ключе. Комиссар произнес пламенную речь перед комиссией и его, вместо того, чтобы отправить в Казахстан поднимать целину и пропитывать шпалы креазотом, куда отправились все поволжские немцы, направили в разведшколу, благо его чистейший немецкий и отличную успеваемость в школе оценили по достоинству. К тому прибавилось отличное здоровье, сила и истинно арийская внешность.
И хотя учебка проходила очень сжато, до фронта он добрался только к концу 44 го. Но успел отличиться, получил несколько медалей, в том числе за взятие Берлина, потом удачно женился на дочери одного из партийных бонз, прожил полжизни в Восточном Берлине, что-то для кого-то разведывал, постоянно ездил в составе разных делегаций по всему миру, затем осел в Москве в отличной сталинской квартире с видом на Москву-реку и занял почетную должность первого секретаря райкома одного из центральных московских районов.
С началом перестройки он, как и большинство его сверстников, был сильно разочарован, плюнул на все, уволился и всего себя посвятил мне, своему внуку. Сказал – раз уж ты на четверть немец, должен знать немецкий, как родной! – и, поскольку был всегда последователен в своих действиях, своего он добился.
По своему детству помню, как любил он на семейных застольях рассказывать о своих командировках, о дальних и ближних, но совершенно недоступных для простого человека странах, о Париже, Риме и Мехико… Но, когда я уже вырос, я понял, что, как ни пытались мы вытянуть хоть что-то о войне, ничего не удавалось. Из подвыпившего доброжелательного балагура и души компании он превращался в оловянного солдатика со стальными глазами. Он вздыхал, настроение его падало, он начинал говорить какими-то общими фразами, махал рукой и поток его красноречия тут же иссякал. После этого он обычно устало уходил в себя, отвечал невпопад и больше не участвовал в застольных беседах.
Наконец я вырвался из объятий Садового кольца на относительно свободный проспект, поднадавил на газ, и, сделав пару поворотов, свернул во двор через арку сталинки, отгороженной шлагбаумом, а оттого более-менее свободной, и припарковался на привычное место у подъезда.
Слышал дедуля уже не очень, но после десятого звонка в дверь, когда я уже собрался спускаться в машину за ключами, которые всегда возил с собой, я наконец услышал его шаркания по коридору и звук отпираемого замка. Отворилась дверь и довольный дедуля, отставив в сторону свою трость, обнял меня. Я, разумеется, в ответ прижал его к себе, да он бы и упал без моих объятий – ноги совсем плохо держали его. Не разжимая объятий, я подал ему трость, и лишь потом отпустил. Он оперся об нее и пошаркал в сторону кухни, сделав знак следовать за ним.
Сердце мое сжалось. В этой квартире после смерти бабули поселился дух старости. Не знаю, с чем его сравнить – смесь запаха лекарств, непроветренных комнат с не расклеенными с прошлой зимы рамами, недоубранной пыли и недомытой посуды, недовынесенного мусора и недосмытого унитаза.
На кухне дедуля сел за стол, вернувшись к своей недопитой чашке чая.
– Хочешь чаю, наливай, я заварил, а хочешь кофе – сам свари. – кинул он мне.
Я решил, что хочу кофе, снял со стены турку с причудливой чеканкой, привезенной дедулей еще в бытность берлинской деятельности из каких-то экзотических стран и поставил кофе на огонь плиты. Вообще его дом всегда был забит причудливыми вещами, привезенными из его многочисленных поездок – как просто сувенирами, масками, вырезанными из разноцветного дерева фигурками слонов, медведей, черепашек и рыбок до вполне утилитарных вещей, таких, как эта турка, шкатулок, посуды и даже предметов мебели. Когда я приезжал к дедуле в гости в детстве, мне казалось, что я попадаю в какую-то волшебную комнату, наполненную чудесами и сокровищами.
Я ждал, когда закипит кофе в турке, дедуля вел непринужденный разговор – он был мастером дипломатических непринужденных разговоров. Понятно было, что не за этим позвал он меня, хотя внимательно выслушивал мои новости о работе, о расставании с очередной пассией, о проблемах с поломкой машины. Но он лишь бессильно кивал головой. В очередной раз мне стало не по себе, горько было смотреть на него. Даже я помнил его мощным, здоровым и сильным мужиком, который на любую проблему мог и совет дать, и байку из жизни поучительную рассказать, а когда нужна реальная помощь, то и позвонить кому нужно, и поехать, и помочь реальным делом – от получения номеров на новый авто до починки сарая на даче каким-нибудь знакомым. А уж в авто разбирался досконально, не то, что я типичный гуманитарий.
Сейчас же было очевидно, что он не только не сможет помочь, но и скорее всего, не до конца понимает мои проблемы. Современный язык стал для него сложнее немецкого и английского, который он знал до сих пор в совершенстве, а вот все эти наши митинги, дедлайны, инстаграмы, кринж, лол и прочие слова новояза были ему совершенно непонятны. Ему оставалось только поддакивать и качать головой. Увидев это, я осекся и спросил:
– А как твои дела?
– Алекс – вздохнул он. Дедуля с самого рождения называл меня так, на немецкий манер. Когда я был мелкий, меня это бесило, эти именем меня дразнил двор и начальная школа. Но со временем я привык и даже стал гордиться таким именем и теперь не представлял себя без него, хотя по паспорту оставался Алексеем.
– Алекс, – повторил он, – Сегодня я проснулся с отчетливым пониманием, что до Нового Года я не доживу. – решительно выдохнул дедуля. Я уже набрал воздуха в грудь, чтобы возразить ему, но он резко отмахнулся и покачал головой
– Не надо меня успокаивать, я никогда раньше ничего подобного не говорил. Но этой ночью отчетливо понял, что осталось мне совсем немного. Документы на все мое имущество лежат в верхнем ящике стола, ты же знаешь, у меня точно все в порядке, завещание у нотариуса, визитка сверху на документах. Твоему непутевому отцу я не оставляю ничего, но вот в тебе я вижу потенциал. Поверь мне, в людях я разбираюсь. – он усмехнулся и сверкнул по-прежнему живыми глазами сквозь седые густые брови.
– И еще, Алекс, знаешь, этой ночью вся жизнь пронеслась передо мной. Как фильм на быстрой перемотке, я даже проспал до обеда, чего со мной уже лет 10 не было. Даже то, чего я никогда и не помнил, и помнить не мог. – Я заинтересованно посмотрел на него и он продолжил:
– Я поступил в пару к Кузьмичу поздно, в самом конце 44, когда наши подошли вплотную к Варшаве. Почему-то я сразу глянулся командиру нашему, он начал доверять нам самые сложные операции и самые ответственные задания. Всегда приговаривал, что я истинный ариец – чистая немецкая речь, чистая немецкая внешность плюс решительность и отвага. Ну еще бы – юношеский максимализм, помноженный на понимание того, что за любой прокол можно тут же, по докладной записке особиста отправиться к своим поднимать Казахскую целину.
Много раз мы оказывались в тылу врага, но все задания удавалось выполнять играючи, Кузьмич обладал непревзойденным артистизмом и находчивостью, а моя чистая внешность и речь всегда вводила врага в заблуждение. Но приходилось и убивать врага. – глаза дедули приняли такой же знакомый стальной оттенок, как и раньше в таких ситуациях.
– Знаешь, Алекс, в таких случаях нужно быть абсолютно, на сто, нет, на сто пятьдесят процентов быть уверенным в своей правоте. Мало того, что правоте, еще и в полной уверенности, что если не ты, то тебя. А иначе нормальному адекватному человеку очень трудно убить другого человека, особенно, если ты видишь его в первый раз и он тебе ничего плохого не сделал. Это в нынешних фильмах показывают, как легко люди расстреливают друг друга. На самом деле это очень-очень трудно, и вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь мне хотелось меньше всего. А уж сколько мне довелось видеть смерти, наша часть освобождала и концлагеря… Разрушенные города, голод, горы трупов с обоих сторон и море горя… – дедуля смахнул слезу, дернул головой
– Скажи, зачем об этом рассказывать? Вот я никогда и не рассказывал. – он допил чашку чая и налил себе еще, успокоился.
– В апреле 45 в воздухе уже витал запах Победы, который смешивался с весной, цветущими садами в пригородах Берлина, с цветами по обочинам пыльных дорог. Сердце пело, казалось – еще один миг, еще один решительный шаг – и все это безумие закончится и впереди вся жизнь, наполненная новыми открытиями, любовью молодых девчонок и мирным трудом. В эти дни трудно было встретить недовольное лицо, все были добродушны и благожелательны. И в такой момент нас вызвал командир и потребовал уточнить численность и расположение врага. Я помню, что мы с каким-то задором и радостью взялись за это задание, ибо знали, что каждое наше действие и усилие приближает долгожданную Победу.
Мы с Кузьмичом играючи разработали план, карта окрестных кварталов у нас уже была и изучили мы ее досконально. Мы были на таком душевном подъеме, что нам казалось, что море по колено и горы по плечо, что все удастся и получится в лучшем виде, сейчас бы я сказал, что это была самая настоящая эйфория.
И удача снова сопутствовала нам – удалось взять большую шишку с адъютантом, в сумерках мы стали уходить по опустевшим безжизненным кварталам, зияющим темными, неосвещенными окнами. Но началась погоня, пришлось отстреливаться, прячась в темных арках и подъездах домов.
– Вот и скажи, Алекс, было бы тебе интересно слушать это? – дедуля отхлебнул чаю и съел ложечку варенья.
– Конечно! – я ни разу не слышал от него так много сразу про войну, – расскажи, что дальше-то было?
– А в том-то и дело, что дальше я ничего не помнил. Очнулся уже после Победы в госпитале с контузией. Мне потом рассказали, что нас накрыл дружественный огонь, как всегда какая-то несогласованность в действиях – кто-то отдал приказ накрыть артиллерией весь квартал расположения противника. Кузьмича с немецкой шишкой накрыло почти прямым попаданием, а мы с адъютантом оказались под завалами дома.
Наши через день перешли в наступление, а меня уже тыловые части нашли – я стонал под завалами в обнимку с мертвым адъютантом, чуть не добили – внешность на этот раз сыграла против меня, но каким-то чудом разобрались и направили в госпиталь. Как видишь – ничего героического. – развел руками дедуля.
Я был разочарован и обескуражен. Неужели ради этого вызвал меня дедуля? Оторвал от работы, которой всегда предавал очень большое значение – всегда говорил, что для мужчины работа всегда превыше всего. Дедуля увидел недоумение в моих глазах и сказал:
– Но сегодня ночью я сам не понял – сон это или воспоминания? Но я очень отчетливо вспомнил все, что происходило в эти два дня под завалами. Поэтому я и вызвал тебя, возможно эта информация покажется тебе важной. – по лицу его пробежала улыбка и глаза хитро заблестели. – Сам понимаешь, память моя не та уже, до завтра могу и забыть.
Сначала я внутренне возмутился – дед навыдумывал небылиц, приснилось ему, видите ли что-то, а он меня дергает и собирается сказки понарассказывать. Но любопытство взяло свое и я сказал:
– Чтож, рассказывай свой сон, – плеснул еще чашку кофе и достал с полки печенье, которое сам же недавно привез ему из магазина. Дедуля все равно его не ел и держал для гостей. Снова упрекнул себя за вспышку раздражения на дедулю. В конце концов, даже если он просто хотел поболтать, разве я вправе ему в этом отказывать? Пусть рассказывает. Я устроился поудобнее на кухонном стуле и приготовился слушать.
Мы убегали от немцев по улице. С пленниками это ужасно неудобно – они совершенно не хотели бежать с нами и делали все, чтобы погоня нас настигла, приходилось грубо пинать их и постоянно угрожать. Пару раз нам везло – мы ныряли во двор и он оказывался проходным, один раз заскочили в подъезд дома и выскочили с другой стороны дома, но не все дома были такими, да и враги нас неизбежно настигали. Я с адъютантом бежал впереди, Кузьмич с языком – сзади. Мы уже вбегали в очередной подъезд дома, как вдруг улицу будто разорвало – дома вместе с крышами, окнами и мостовой взлетели вверх и упали обратно. Стекла окон брызнули во все стороны, будто дождь, словно камнепад посыпалась черепица с крыш, начали складываться стены, бревна и доски перекрытий, поднимая вековую пыль, полетели вниз, увлекая за собой оставленную мебель и домашнюю утварь. Кузьмича вместе с его пленником разорвало, словно воздушный шарик – я видел клочья одежды, мяса и костей, разлетевшихся с места, где они только что стояли.
Через миг все было кончено – я валялся посреди небольшого, не более 2х2 метра помещения, образованного обрушившимися бревнами, досками и обломками стен. Пленник был рядом, на расстоянии вытянутой руки. Видимо, на какое-то время я потерял сознание, меня сильно приложило по голове то ли кирпичами, рассыпанными по комнате, то ли досками и бревнами, образующими безобразные завалы вокруг. Голова гудела, как колокол, из порезов и ушибов стекала кровь за шиворот, прилипала к телу пропитанная ею нательная рубаха.
Я пошевелил руками и ногами. Вроде все на месте. Синяки и порезы – не в счет – заживут. Пленнику повезло меньше – он лежал в углу, придавленный бревнами и досками и стонал. Когда я привстал, он испуганно задергался, как испуганная курица, которую несут отрубать голову.
«Слава Богу» – подумал я. Если бы он не был зажат, то точно прикончил бы меня, пока я был в отключке.
«Отлично!» – отметил я про себя, – «Теперь подумаем, как доставить тебя в расположение части!»
Я огляделся и принялся искать лаз наружу. Но его не было, ни одна доска не поддавалась, наоборот, мои действия вызывали обвалы, которые только скрадывали наше и так небольшое жизненное пространство и вызывало острую головную боль. Начало тошнить так, что потемнело в глазах, я решил, что это оттого, что наглотался пыли рушившихся домов и дыма окружавших нас пожарищ.
«Черт» – я выругался и сплюнул накопившуюся во рту пыль. «Похоже мы с этим немцем застряли в этом каменном мешке». Пленник стонал в углу, придавленный завалом. Захотелось подойти и пнуть сапогом как следует его фашистскую харю. Но я не смог сделать шаг в его сторону – голова закружилась так, что я сам рухнул рядом с ним.
«Сотрясение мозга» – понял я. – «Причем довольно сильное».
Я подполз к немцу и увидел, что он плачет. Еще бы – было от чего – рука его была вывернута совершенно неестественным образом и зажата между двумя балками перекрытия, концы которых скрывались под завалами стен. Пока я был в отключке, он пытался высвободить руку, но только сделал себе хуже – разорвал китель и вывернул руку еще сильнее, теперь раздробленная кость при каждом движении рвала живые ткани. Кровь стекала по кителю на форменные штаны и капала на пыльный кирпич.
«Да, выглядишь ты неважнецки» – сказал я про себя. Он же тихо ругался на немецком.
«Что, больно?» – спросил я его наконец. Он повернулся ко мне, но ничего не ответил, только в последних отблесках света уходящего дня увидел его глаза, полные слез, боли и страха.
«Воды» – прошептал он. Мне вдруг стало жалко этого уже взрослого, уставшего мужика, испытывающего сейчас ни с чем не сравнимую боль, я отстегнул от пояса на две трети полную фляжку и поднес к его губам. Он жадно отпил два глотка, больше я ему не дал. Он вымученно, сквозь слезы улыбнулся и поблагодарил.
«Как зовут тебя, парниша?» – спросил он
«Саша» – ответил я
«А меня – Вольфрам» – ответил он, – «Редкое имя, да?» – и попытался улыбнуться опять. Но глаза его кричали о боли.
«Саша, помоги мне, не могу больше» – попросил он. Я подложил под него кирпичи так, чтобы он не висел на переломанной руке, и ему стало легче, он перестал стонать.
«Еще полчаса и мы с Германом – он махнул рукой в сторону, где погибли наши товарищи – сбежали бы и улетели из Германии. И чего вы хотели у нас узнать? Кругом паника и бардак, никто ничего не знает – ни количества техники, ни людей, ни боеприпасов. Все бегут, не зная куда и откуда.»
Наступила ночь, мы попеременно забывались сном на неудобном ложе из кирпичей и досок, постоянно прерываемым то далекой канонадой, то близкими разрывами. Утром началось наступление – снова взрывы, стрельба, крики. Но я не стал тратить силы на попытки привлечь внимание – было совершенно очевидно, что в пылу боя никто не обратит внимания на стоны из-под завалов.
Так прошел еще один день. К вечеру немец все реже приходил в себя, в бреду звал Марию, просил воды, рыдал в голос, вспоминал детей, какой-то Людерец и проклинал Де Бирс… Вначале я пытался уловить смысл его бреда, но не смог и плюнул.
«Саша!» – позвал меня Вольфрам, когда все на улице стихло, и на руины города стала опускаться темнота. – «У меня началось заражение крови». – и снова впал в забытье.
Я потрогал его. Он был горячим, лоб покрыла испарина, сердце колотилось, как бешеное, кожа вокруг плеча посинела – это было видно даже в опускающейся тьме. Кроме того, судя по всему, была очень большая потеря крови – из предплечья с каждым ударом вытекало по капле. Я понял, что ему совсем немного осталось. Я принялся кричать – я искренне верил, что улицы заняты нашими, что в госпитале ему помогут – отрежут руку, но Вольфрам останется жить. Но ответа не было.
Силы стали покидать и меня, я тоже рухнул рядом с ним, голова раскалывалась, болели глаза, не переставало тошнить, совершенно не хотелось есть, но нестерпимо хотелось пить. Ночь накрыла камеру, из которой не было выхода. Я забылся на обломках кирпичей. Не знаю, сколько прошло времени, как я проснулся от шипения из угла с немцем.
Превозмогая накатившую боль, я подполз к Вольфраму.
«Саша, – прошипел он иссохшими губами. – воды!» Я достал фляжку и нащупал его лицо. Оно горело – я не представлял, что человеческое тело может быть такой температуры. Даже сквозь китель чувствовалось как неровно и быстро стучит его сердце. Я вылил последние капли в его пересохший рот.
«Спасибо, Саша. Я умираю, Саша. Ты хороший человек. Ты как мог, облегчил мои муки, хотя и мог просто пристрелить. Я не хочу, чтобы ты думал, что я враг. Меня умело убедили, наобещали, вселили в сердце злость и ненависть. Прости меня.»
«Я прощаю тебя. Ты достаточно пострадал» – только и смог ответить я.
«Я расскажу тебе свою тайну, вдруг ты выживешь и тебе она пригодится» – сказал Вольфрам.
Каждое предложение давалось ему все труднее и труднее. Иногда он забывался между фразами. Я был ненамного лучше – силы иногда оставляли и меня, поэтому в памяти остались обрывки фраз, из которых сейчас я не могу соткать полную картину.
Он рассказывал о том, что родился в Юго-Западной Африке, железной дороге Людерец-Зейхам, на которой работал его отец, об алмазной лихорадке, о проигрыше Германии в Великой войне, о Южно-Африканском Союзе, о грабительских ставках Де Бирс… О том, что работал в Колманскопе, о найденных крупных алмазах, которые не сдавал за бесценок, потому что сильно упали цены после Великой депрессии. О том, что поддался на красивые слова о великой нации и о новых обещанных землях и пошел добровольцем. И, наконец, о том, что перед тем, как уплыть в Германию попал в больницу и замуровал все алмазы в цемент штукатурки над оконным проемом 12-й палаты больницы Колманскопа.
– Вот и все, Алекс. – Завершил свой рассказ дедуля и дал понять, что очень сильно устал.
Я обнялся с дедулей на прощание и отправился домой по пустой ночной Москве.
«Бред какой-то!» – Думал я. «Не, ну понятно, уже 90 стукнуло. Придумал целую историю. Главное, еще какой-то Кильманшток…. Или нет, Квартаскоп….Не, там холм какой-то с фамилией… Ладно, посмотрю как-нибудь на досуге.»
***
А через 2 недели, когда на Москву упал первый трескучий заморозок, дедули не стало. Я как обычно позвонил ему узнать, как дела, но он не поднял трубку. Целый день я названивал, а он так и не отвечал.
«Не слышит телефон», – решил я, и утром направился к нему в гости.
Тщетно давил я кнопку дверного звонка – сигнал пиликал в квартире, но шарканья шагов по коридору я так и не услышал. Пришлось спускаться в машину и брать собственный ключ. Потом были похороны, оформление бумаг, разборки с родственниками, объявившимися откуда ни возьмись и принявшимися копаться в дедулином белье. Это было неприятно, но пришлось все это пережить. И только спустя полгода, когда круги на воде после его смерти стали утихать, я опять вспомнил об этой истории, фактически о последнем разговоре с дедулей.
Стоило мне набрать в строке поисковика слова Колманскоп, как на меня посыпалось куча информации о затерянном в песках пустыни Намиб пустынном городе, который когда-то был центром алмазной лихорадки, успел побыть самым богатым городом Африки, пережить яркий, но краткий расцвет, когда в баре города можно было выпить любое шампанское из Франции с ледника, когда любые новинки техники появлялись в этом городе первыми на Африканском континенте. Где появился первый рентгеновский аппарат, но не для лечения, а для поиска украденных и спрятанных внутри себя старателями алмазов. Где посреди пустыни производили лед, варили пиво и пекли хлеб.
Однако очень недолго просуществовал этот чудесный город, очень быстро россыпи исчерпались, город стал приходить в упадок и был полностью покинут в 50-х годах двадцатого века и стал попросту заноситься песками окружающей его пустыни.
Все отрывочные сведения, переданные дедуле Вольфрамом, так или иначе подтвердились. Действительно, алмазы были открыты в период немецкой колонизации Юго-Западной Африки, действительно при строительстве железной дороги от Людерица вглубь материка через пески пустыни Намиб. Действительно, после Великой войны, так до начала Второй Мировой называли Первую, эта территория вышла из-под контроля Германии и стала управляться Южно-Африканским Союзом, прародителем нынешней ЮАР, а месторождения отдали под контроль британской Де Бирс. Имело место и значительное падение цен на бриллианты после Великой Депрессии (что вполне логично), в связи с чем рентабельность добычи алмазов в Колманскопе значительно упала.
Сведения в русскоязычном интернете были представлены на куче сайтов, но по сути были сплошным копипастом, сплошным набором одинаковых фраз, явно когда-то кем-то переведенных с какого-то иностранного источника. Пришлось включить английский и, в первую очередь, немецкий и начать изучать иностранные источники. Но ничего кардинально нового из ни тоже почерпнуть не удалось. Вся история города была как на ладони – от самого основания до полного запустения. Мне даже стало казаться, что имеет место какой-то заговор – но как досконально я ни пытался изучить его историю, все упиралось в относительно стандартную версию со стандартным набором фраз. Тем не менее, все сведения, которые я находил в интернете, подтверждали слова, переданные дедулей при последнем разговоре. И это приводило меня во все большее замешательство.
Можно предположить, что все это правда – слова Вольфрама (что за имя дурацкое – нить из лампочки) действительно произнесены там, под руинами Берлина, и в больнице Колманскопа замуровано действительно целое состояние, и дедуля действительно вдруг вспомнил все обстоятельства контузии. Может, ему все это приснилось, причем так складно, и немец из Людерецких, и краткая история Колманскопа… Конечно, он не умел пользоваться интернетом, прочитать об этом ему было негде, но почему он не мог слышать об этом во время своих многочисленных командировок? Не исключено, что и в Намибии он был, ведь в свое время Советский Союз дружил с Намибией… А мозг во сне способен дорисовать очень даже реалистичную картинку, сплести воспоминания и реальность в причудливый и вполне реалистичный узор. Вот блин, даже спросить теперь не у кого.
Я горько пожалел, что не придал значения этому рассказу сразу после изложения. Несмотря на всю фантастичность ситуации, все сходилось чересчур ровно – история, рассказанная немцем, контузия, обстоятельства спасения дедули, история Намибии…
Все чаще вечерами я представлял себя в залитой солнцем пустыню Намиб, засыпанный песком город, улицы с заброшенными рельсами железной дороги, заржавевшие вагонетки и остовы старинных машин, навечно припаркованные у обочины, цветы, пробивающиеся среди голых камней после дождя. Благодаря тому, что в интернете было очень много фотографий Колманскопа, это было несложно, и уже к середине весны я часто обнаруживал себя сидящим на кровати, словно лунатика, мысленно бродящего по занесенному песком городу. Иногда мне снился сон, в котором я при помощи зубила и молотка отбивал штукатурку над оконным проемом палаты номер 12 и в руки мне падают крупные, как бобы, алмазы. Солнце нещадно (странно, ведь я в помещении) греет мое темечко, ничем не прикрытое, от солнечного удара в глазах темнеет, я падаю с подоконника и просыпаюсь.
Я долго гнал от себя эту мысль, пытался всячески отвлечься. Но ничего – ни посиделки с друзьями до глубокой ночи, ни попытка увлечься новой компьютерной игрушкой, ни мимолетные, а оттого страстные увлечения никак не помогали, вскоре уже почти каждой ночью я подпрыгивал от навязчивой идеи о кладе, ждущем меня в больнице Колманскопа.