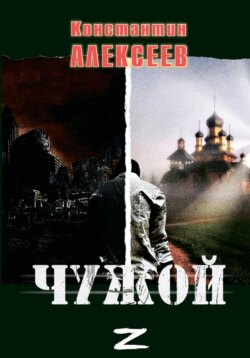Читать книгу Чужой - Константин Александрович Алексеев - Страница 1
Оглавление1
Екатерине Наговицыной
Признаться, я не сразу узнал его.
Встреча эта случилась метрах в ста от моего дома. Я только-только перешел улицу, когда навстречу шагнул неопрятный долговязый мужик в серой толстовке. Лицо его было наполовину скрыто капюшоном. Поначалу мне подумалось, что это очередной алкаш, сшибающий на опохмелку, и вот-вот он обратится ко мне с просьбой выручить мелочью. Я было ускорил шаг, чтобы быстрее пройти мимо, но долговязый вдруг удивленно воскликнул:
– Коба, ты?!
Я вздрогнул и притормозил. Так звали меня только в школе.
– Коба! – повторил долговязый. – Ну надо же, едрен-шмон!
Эта чудная присказка, слетевшая с уст незнакомца, тоже была до боли знакома. И словно поняв, что я так и не признал его, мужик шагнул ко мне вплотную и сдернул капюшон.
– Нэсс?!
Наверное, мое изумление было настолько велико, что я машинально стиснул протянутую руку. Хотя еще когда зарекался, что не только не подам ее бывшему приятелю, но и постараюсь не оказываться с ним на одном гектаре!
Нет, я не был уверен, что наши дороги больше никогда не пересекутся, и порой представлял подобную встречу. Больше всего меня беспокоило, что, завидев Нэсса, не сдержусь и в лучшем случае выскажу ему все, что думаю. Но сейчас, глядя на него, в душе не ощущалось ни гнева, ни даже раздражения. И вспоминались не выходки последних лет старого знакомца, а далекий майский день восемьдесят восьмого года, когда после уроков нас, парней из десятого, выпускного класса, отрядили грузить макулатуру.
Туда же припахали нескольких восьмиклассников, среди которых был и Нэсс. В ожидании машины мы перебирали пачки в надежде найти что-нибудь ценное: в ту пору среди вороха старых газет, журналов и книг можно было наткнуться на какой-нибудь раритет.
Вот и в тот раз кто-то притащил в утиль собрание сочинений Сталина, и мы, распотрошив связку, с интересом листали добротные, хорошо сохранившиеся тома. Неожиданно Нэсс с приятелями зашушукались, поглядывая в мою сторону:
– Ну надо же, копия просто!
– Чего там? – поинтересовался я, привстав с кипы газет.
– А ты сам глянь, – Нэсс протянул мне книгу, открытую на странице, где будущий генералиссимус был запечатлен молоденьким безусым гимназистом. – Это ж ты, один в один, едрен-шмон!
Юнец на фото и вправду чем-то смахивал на меня.
– Короче, отныне ты будешь Кобой! – торжественно провозгласил Нэсс, приняв позу самодержца, жалующего высокий титул.
С того дня меня так и величали. До самого выпускного.
Кстати сказать, сам он, Серега Вознесенский, свое прозвище получил не от приятелей-одноклассников, а придумал его себе сам. Появившись в нашей школе, он так и отрекомендовался: Нэсс. И все с ходу приняли это погоняло. Как и самого Серого, оказавшегося весьма компанейским пацаном.
Перешел, кстати, он к нам из элитной английской спецшколы, где учились сплошь отпрыски секретарей райкомов, дипломатов и прочих тогдашних небожителей. Сам Серый попал туда благодаря родителю, который трудился во Внешторге. Вот только не припомню, чтобы Нэсс хоть полсловом обмолвился, с чего он вдруг перебрался в обычную общеобразовательную бурсу. Впрочем, я с Вознесенским в ту пору не приятельствовал, хоть и жили мы неподалеку: как-никак он был на два года моложе меня, и у каждого из нас была своя компания.
Оставшийся год до армии я видел его считаные разы, а отслужив, почти сразу же переехал в квартиру умершего деда на другой конец города. Лишь однажды, кажется, осенью девяносто первого, выбравшись навестить отца и мать, случайно встретил соседку по подъезду, учившуюся в одном классе с Нэссом. От нее-то я услышал, что после выпускного Серый не стал поступать ни в МГИМО, ни в Иняз, куда усиленно сватали его родители, а подал документы в знаменитый ВГИК, на актерское отделение, куда был бешеный конкурс. И поступил!
Впрочем, чего тут удивительного! Вознесенский еще в школе славился тем, что мастерски копировал учителей и одноклассников. Помнится, однажды, на большой перемене, мой слух уловил знакомые словечки и интонации. Были они из лексикона нашей бывшей классной, но вот произносились почему-то хрипловатым мальчишеским тенорком.
… – Ну как же так? Как ты мог додуматься до такого?! Ты! Из интеллигентной семьи!!!
Обернувшись, я заметил стайку мальчишек, обступивших Нэсса. Пацаны хохотали, а Серый, как ни в чем не бывало, продолжал свой монолог. Трагически сдвинув брови домиком, чуть выпятив нижнюю губу и подрагивая ноздрями – точь-в-точь как та учительница – Вознесенский продолжал:
– Ты понимаешь, что я должна… Нет, я просто обязана! Обязана вызвать твоих родителей и рассказать об этом кошмарном поступке! Но я… – Серый сделал паузу и дрожащими пальцами нервно поправил невидимый браслет на запястье левой руки, вновь один в один как делала русичка, когда нервничала. – Я не сделаю этого. У меня не поднимется рука, чтобы позвонить твоей маме. Потому что…
Снова повисла трагическая пауза. Пацаны буквально корчились от смеха. Серый замер и горестно прикусил губу, устремив полный отчаяния взор на невидимого собеседника. С едва заметным стоном перевел дух и завершил:
– Потому что твоя мама… Прекрасная интеллигентная женщина… Она просто не переживет этого!..
При последних словах Нэсс несколько раз мотнул головой, а затем пригладил невидимые локоны, якобы упавшие на лоб учительницы.
Одноклассники уже не смеялись, а буквально бились в истерике. А Серый тем временем, вмиг превратившись из возмущенной русички в привычного Нэсса, переждал, когда слушатели хоть немного успокоятся, и закончил свой монолог:
– Короче, она еще минут пять ему по ушам ездила и только потом отпустила.
Как оказалось, перед уходом на большую перемену учительница написала на доске тему следующего урока. Пока она ожидала с наружной стороны двери, когда пятый «Б» оставит в классе свои портфели и выйдет, один сообразительный мальчуган шустро подтер тряпкой пару букв.
Когда спустя пятнадцать минут русичка запустила в класс ребят, то долго не могла понять, почему все, в особенности мальчишки, так веселятся, глядя ей за спину. Обернувшись, она на какое-то время потеряла дар речи – одно из слов, лишившись приставки, теперь обозначало похабное ругательство. Учительница машинально воскликнула: «Кто?.. Кто это написал?!» В ответ класс просто грохнул от хохота, ибо ее каллиграфический, с замысловатыми завитушками почерк невозможно было спутать ни с чьим другим. Короче говоря, вместо урока все время до перемены возмущенная педагогиня выясняла, кто сотворил подобное. И в конце концов выяснила – парня сдала староста класса, вреднючая девчонка, приходившаяся родственницей завучу.
После урока русичка оставила виновника и распекала всю перемену. Невольным свидетелем этой сцены стал проходивший мимо Нэсс.
Тогда-то мне впервые пришла мысль, что из восьмиклассника Вознесенского может получиться классный актер, вроде Калягина, сыгравшего знаменитую тетку Чарлея. Потому спустя несколько лет я не удивился, узнав, что Серый поступил учиться на актера, да притом был отобран в свою мастерскую самим Курылевым. Попасть к этому маститому режиссеру считалось неслыханной удачей.
Казалось, судьба Нэсса была предрешена: ученики его мастера после получения диплома без ролей не оставались. Но, отучившись семестр с небольшим, Серый неожиданно накатал заявление на отчисление из института, после чего, разумеется, быстро был призван отдавать ратный долг.
– Ну что за придурочный! – сокрушалась соседка моих родителей, учившаяся с Серым в одном классе и тайно влюбленная в него. – Это же надо до такого додуматься – в армию пойти!
– Ничего страшного, – попытался утешить я девушку. – Отслужит и вернется.
– А ты знаешь, что их часть месяц назад отправили в Карабах?
Тогда-то я впервые выяснил у соседки телефон Вознесенских и позвонил его матери, Стелле Николаевне. Позвонил и… пожалел. В особенности о том, что оставил ей свой домашний номер.
Родительница Нэсса сначала долго расспрашивала меня, откуда я знаю ее сына, дружили ли мы, часто ли общались. А затем обрушила на мои уши лавину причитаний.
– Как же он мог?! – заходилась она так, что я вынужден был отодвинуть трубку от уха, опасаясь за свои барабанные перепонки. – Он же знает, что я не переживу, если с ним что-нибудь случится! А с Сережей это произойдет обязательно!
С тех пор Стелла Николаевна стала моей постоянной многочасовой собеседницей. В те годы телефоны с определителем были большой редкостью, поэтому я частенько становился жертвой ее бесконечных монологов. Не всегда получалось и отвертеться – мамаша Нэсса оказалась до ужаса обидчивой и ранимой. Однажды, когда я торопился на службу в ночную смену и вынужден был не слишком вежливо прервать наш разговор, меня до самого утра грызли сомнения: не стал ли мой отказ от разговора последней каплей в океане ее переживаний?
Сам же Серый, вопреки страхам и переживаниям матери, вернулся из Карабаха целым и невредимым. Правда, особо не любил вспоминать о той полугодовой командировке. Только обмолвился, что их рота стояла где-то в районе Шуши, на азербайджанской стороне.
Демобилизовавшись, Вознесенский стал вновь учиться на артиста. Но не восстановился во ВГИКе, а поступил в Институт культуры в Химках, попав в актерскую мастерскую к знаменитому Ивану Лещенко. Иван Борисович, будучи совсем еще юным, в свое время сыграл молодого партизана в фильме «Решающая засада», за что получил Ленинскую премию и известность. К тому времени, когда Нэсс попал к нему в подмастерья, Лещенко уже переквалифицировался в режиссеры и ставил спектакли в Театре Реввоенсовета, где сам бессменно трудился с юных лет. Туда же после института он забрал и Нэсса.
Вскоре школьный приятель стал сниматься и в кино. Поначалу в эпизодах и разных мелких ролях. Впервые Серый появился на экране в сериале про сыщиков, где ему досталась роль потерпевшего, ограбленного продавца. Она заняла в общей сложности минуты три. Но и в первой сцене, где Вознесенский непонимающе таращился на незваных гостей, а затем оседал от удара ножом, и во второй, когда в реанимации, опутанный трубками, он что-то едва слышно хрипел, – и там, и там Нэсс был настолько убедителен, что каждый раз у меня, глядевшего на его игру, непроизвольно сжималось сердце.
В другой раз Серега появился на экране в «Грозе отморозков». Снимали сей фильм по книжке самого Шнейдерова, которую в конце девяностых сметали с прилавков и зачитывали до дыр. Когда же молодой, но уже известный постановщик из знаменитой режиссерской династии взялся ваять кино по нашумевшему роману, премьеры ждала вся страна. В этой картине Нэсс сыграл роль даже не третьего, а от силы пятого-шестого плана – простого братка из банды рэкетиров. На протяжении всей ленты он появлялся раза три. Правда, в первой сцене у него был неплохой и запоминающийся монолог. «На стрелку, то есть на разборку, надо приезжать минута в минуту, – внушал его герой новичку, недавно попавшему в группировку. – Опоздаем – считай, что проиграли. Раньше приедешь – решат, что мы подляну готовим. Короче, обзаведись хорошими часами. Нет денег, скажи: мы купим. Но не вздумай хоть раз приканать не вовремя!». Правда, «браток» из Сереги получился неубедительный. В нем, даже загримированном, упакованном в кожаную куртку и спортивные штаны по тогдашней бандитской моде, все равно был виден потомственный интеллигент. Высокий лоб, тонкие черты лица и большие глаза, обрамленные длинными черными ресницами, скорее подходили сказочному принцу, чем ушедшему в рэкет спортсмену.
Потом у Нэсса было еще несколько таких же полуэпизодических ролей в паре фильмов и длиннющем телесериале. В последнем он сыграл, помнится, примерщика в ателье, где главный герой заказывал себе свадебный костюм. Потом Серый года два не появлялся на экране. Я уж подумал, что он решил больше не размениваться на кино, полностью отдавшись театру, пока однажды, включив телевизор, чуть было не потерял дар речи…
2
– А ты, я смотрю, здесь по-прежнему живешь? – вернул меня из воспоминаний вопрос Нэсса. – Все в той же «однушке» на Кухмистерова втроем маетесь?
– Да нет, уже шестой год, как в «двушку» перебрались. Сюда, во второй корпус, – я кивнул на свой дом, высившийся за торговым центром.
– Получил все-таки хату? А чего здесь, а не в новостройке?
– Не получил. Подкопили денег и приобрели. Рядом с метро, где и хотели.
– Однако, – в голосе бывшего приятеля явственно слышалось уважительное удивление. – А сам-то как? Давно на пенсии?
– Да нет. Представь, все еще в строю.
– Как так, едрен-шмон? Тебе же уже хорошо за полтинник…
– Пятьдесят два.
– Надо же! – покачал головой Серый. – А сегодня что, выходной?
– Что-то вроде. В поликлинику ездил больничный закрывать.
– Ясно, – кивнул Нэсс и следом как-то робко поинтересовался: – Слушай, ты сильно торопишься?
– Не особо.
– Я вообще-то туда намыливался, – он кивнул на вывеску зоомагазина через дорогу. – Может, подождешь меня, пока сбегаю?
– Пошли уж вместе.
– Да-да, конечно! Представляешь, у моей светлости опять корм закончился… И куда столько лопает, ума не приложу!
Я двинул вслед за Нэссом, мысленно удивляясь мистическим совпадениям сегодняшнего дня.
Дело в том, что, когда я только-только вышел из метро, неожиданно позвонила одна моя знакомая. И даже больше чем просто знакомая… Собеседница сначала дежурно поинтересовалась моими делами, а затем призналась, что соскучилась и сильно захотела услышать меня.
Благодаря этому разговору я и задержался на те полторы-две минуты у пешеходного перехода и оказался на противоположной стороне улицы одновременно с Вознесенским. Иначе бы разминулись, как пить дать. Но главное – эта барышня появилась в моей жизни исключительно благодаря Нэссу.
Пока мы шли к магазину, я продолжал искоса разглядывать бывшего приятеля. Сказать, что он здорово изменился, было бы неправдой. Он не просто сдал, как немало мужиков, перешагнувших пятидесятилетие, а полностью преобразился.
От природы худощавый, подтянутый, теперь он выглядел тощим доходягой. Модные рубашки и свитера сменились замызганной бесформенной толстовкой. Некогда фирменные джинсы выглядели заношенными, с пузырями на коленях. На голове, в прежние времена искусно подстриженной под машинку, дабы замаскировать раннюю лысину, теперь зияла неровная плешь, вокруг которой торчали клочки пегих, наполовину седых волос. На впалых щеках и подбородке топорщилась недельная щетина. Гордый тонкий нос теперь казался опухшим, с множеством фиолетовых прожилок. И даже глаза, прежде темно-васильковые, как летнее небо перед грозой, теперь словно выцвели и напоминали застиранную мешковину. Все это выглядело неестественным, словно бывший приятель в очередной раз воплощал образ то ли спившегося интеллигента, то ли записного хиппи.
Хотя… Сколько я знал Нэсса, он все время менял маски, играя то одну, то другую роль. И весьма убедительно. До сих пор помню, как однажды, включив телевизор, попал на передачу «Душа наизнанку». Это шоу считалось самым популярным и скандальным, поскольку там обсуждались разные непристойные житейские истории.
Вот и на этот раз на экране подходила к финалу очередная семейная драма. Мать, молодящаяся пятидесятилетняя бизнес-леди, за месяц до свадьбы отбила жениха у своей единственной дочери. Та, миловидная девушка лет двадцати, захлебываясь от рыданий, кляла маманю на чем свет стоит и обещала прямо в камеру, что несостоявшийся зять, а теперь без пяти минут молодой муж родительницы обязательно бросит и ее и что предатель-возлюбленный польстился исключительно на деньги дамочки.
В ответ та – крашеная брюнетка с короткой стрижкой и чуть угловатым от косметических подтяжек лицом – лишь надменно ухмыльнулась. Зато сидевший рядом с ней молодой парень возмущенно встрепенулся:
– Это ложь! Это клевета!
В тот же момент камера приблизилась к нему, и я оторопел – это был Нэсс.
За тот год, что мы не виделись, он завел себе стильные дымчатые очки. Вместо привычных джемперов и водолазок Серый был облачен в модный в ту пору костюм со стоячим воротничком, чем-то напоминающий лицейский сюртук пушкинских времен. Вдобавок Вознесенский отпустил длинные, закрывающие уши волосы и зачем-то выкрасил их под цвет мореного дуба.
Вскоре передача подошла к финалу. Брошенная невеста в который раз попыталась кинуться на разлучницу-мать, но была вовремя перехвачена ведущим. Пока девушка билась в истерике, Нэсс вместе со своей новой пассией демонстративно покинули подиум. Перед тем как исчезнуть за кулисами, мадам бросила устроителю ток-шоу, что не намерена прилюдно терпеть оскорбления и нападки. Дочь же как-то сразу обмякла в руках удерживающего ее шоумена и зашлась в беззвучных рыданиях.
Ведущий, усадив плачущую барышню, что-то еще минут пять глубокомысленно вещал о превратностях жизни и о том, что науке еще предстоит разобраться, почему молодые мужчины все чаще стали тяготеть к женщинам, годящимся им в матери. Но мне было не до этого. Я пытался понять, насколько угораздило моего школьного приятеля тронуться умом, чтобы спутаться с родительницей собственной невесты, да еще согласиться смаковать эту грязь по телевизору.
«Если у вас случилась подобная эксклюзивная и пикантная история – звоните, и вы обязательно станете героем нашей передачи!» – проползли по экрану тем временем заключительные титры, и шоу сменила непременная реклама.
Я перезвонил Нэссу тем же вечером.
– Коба! Ну наконец-то! – обрадовался тот. – А я все думаю, куда ты пропал? Два месяца от тебя ни слуху ни духу! Опять небось в Чечне был?
– Нет, просто замотался… Кстати, я тебе случаем не помешал? Удобно говорить?
– Нет, не помешал. Как раз только что с репетиции приполз чуть живой. Жду, пока матушка ужин сготовит.
– Какая из них? – не удержался я от ехидства. – Стелла Николаевна или эта, как ее… Валерия?
– Что еще за Валерия? – недоуменно отозвался герой-любовник.
– С которой ты сейчас живешь. Вернее, сожительствуешь.
– Ах, вот ты про что! – Нэсс от души расхохотался в трубку. – Так это спектакль был, едрен-шмон! Для доверчивого пипла!
– То есть как?
– Ну, в смысле, все эти жены-любовницы-разлучницы – это актеры! Которая типа моя невеста, это студентка ВГИКа. А другая, вроде как ее мать, в свое время часто в массовках у Рязанова снималась! Просто ее уже подзабыли!
– А остальные передачи? Тоже липа?
– А то! Неужели ты думаешь, что найдутся такие шизики, которые перед камерой начнут свое дерьмо вываливать напоказ? Хотя… – он задумался. – В наше время найдутся. И немало. Только для передачи они все равно не годятся, потому как стопудово непредсказуемые. Тут профи нужны.
– Да, ты уж точно профи – самого себя перещеголял, – ехидно бросил я, досадуя, что попался на этот спектакль. – В театре у тебя похуже выходит!
– Ну знаешь! – разобиделся Серый.
Сцена родного «Реввоенсовета» была для него чем-то сакральным, впрочем, как и для каждого актера. Спроси кого угодно из них, даже самую знаменитую звезду экрана, что для нее выше: съемочная площадка или подмостки «Таганки», МХАТа, «Табакерки», где он или она состоит в труппе, – и любая, даже суперпопулярная кинодива обязательно ответит: конечно же, театр!
Но славу Нэссу принес не «Реввоенсовет», перелицованный в девяностые в Театр имени Телегина – в честь первого худрука. Нет, Серый проснулся знаменитым после фильма «Особый перевал», снятого легендарным еще с советских времен Анисимовым.
В девяностые, как и большинство сотоварищей по ремеслу, режиссер исчез из поля зрения. Недруги поговаривали, что Алексей Степанович спился от невостребованности и доживает последние дни, загибаясь от цирроза печени.
Но неожиданно, кажется, в две тысячи первом, Анисимов, живой, бодрый и вроде бы даже помолодевший, появился в телевизоре. На фоне гор, в окружении усталых, чумазых бойцов. Оказалось, Алексей Степанович снимает документальный фильм о Чечне.
Картина вышла короткой – от силы на сорок минут, но успех имела колоссальный. «Израненный Терек» – так назывался фильм, что показывал без прикрас всю изнанку войны. Но несмотря на всю суровость сюжета, в «Тереке» не было убийственной безнадеги, как в том же «Чистилище». Наоборот, после этого кино почти у каждого появлялась надежда, что кошмар когда-нибудь закончится, что растерзанный Грозный через какое-то время поднимется из руин и станет таким же обычным городом, как Нальчик или Владикавказ.
Но настоящим триумфом Анисимова стал «Особый перевал», снятый пару лет спустя по одноименной повести таинственного Корчагина. Таинственного потому, что этого автора никто и никогда не видел вживую. А известный литературовед и критик, прославившийся бесчисленными доказательствами того, что «Тихий Дон» не имеет никакого отношения к перу Шолохова, устроил что-то вроде журналистско-филологического расследования и пришел к выводу, что никакого Николая Корчагина не существует, а его опусы – коллективный продукт кремлевско-лубянской пропаганды.
Картина «Особый перевал», на этот раз художественная, тоже была про Чечню. И получилась шикарной! Если одноименной повестью Корчагина зачитывались все от мала до велика, то кино получилось во много раз лучше. Кажется, подобное было только со знаменитым фильмом «Место встречи изменить нельзя». Но если Говорухин заметно перелопатил исходник, сделав книжного Жеглова куда старше, умнее и обаятельнее и оставив в живых Варю Синичкину, то Анисимов почти ни на йоту не отступил от романа. Даже название не поменял.
А уж актеров Алексей Степанович отбирал, как старатель выискивает в куче пород золотые самородки. Например, прапорщика Кислюка изобразил Теряев, ранее прославившийся в роли Страшилы в «Волшебнике Изумрудного города». Командира разведчиков – брутальный Грива. Лысого главаря по имени Шамиль, до неправдоподобности похожего на настоящего Басаева, сыграл неподражаемый Майсурадзе.
Главную же роль Анисимов доверил Вознесенскому. И не прогадал…
3
Лишь только мы вошли в магазин, Нэсс вдруг замер, обратившись в слух и обернувшись куда-то вправо. Я проследил за его взглядом: у кассы невыразительная женщина лет сорока доставала из сумочки телефон, надрывавшийся саундтреком из «Особого перевала». Серега аж подобрался, расправил плечи, вперив взор в покупательницу. Но та лишь равнодушно и даже отчасти неприязненно зыркнула на него и стала что-то вещать в трубку, одновременно расплачиваясь за покупки.
Нэсс как-то сразу сник, ссутулился и пошаркал в глубь магазина. Глядя ему вслед, я почему-то подумал, что вся его жизнь теперь состоит из подобных разочарований. А ведь когда-то Нэсс вынужден был маскироваться перед каждым выходом на улицу, где его узнавали и не давали проходу. Мало того, поклонники раздобыли еще и домашний телефон, названивая чуть ли не круглые сутки. Пришлось срочно менять номер и временно съехать на съемную квартиру. А теперь дамочка, болтающая по мобильнику, в котором сигналом вызова установила мелодию из фильма, сделавшего Серегу знаменитым, – навряд ли эта женщина поверит, что встреченный в магазине немолодой неопрятный мужик не кто иной, как сам Сергей Вознесенский!
Мои размышления прервал короткий посвист смартфона. Поначалу я решил, что это, скорее всего, сообщение от жены. Но нет, месседж был совсем от другой.
«Привет! Как ты? Что нового?»
Я давно перестал удивляться ее чутью. Каждый раз, когда в моей жизни случалось какое-то событие, она тут же выходила на связь.
Вместо ответа я направился в дальний угол магазина, нажимая кнопку вызова.
– Привет! Как ты? В поликлинике или уже дома?
– Почти. Не дошел по определенной причине.
– И по какой же?
– Да вот повстречал кое-кого.
– И кого же, если не секрет?
– Не секрет, – я специально выдержал небольшую паузу. – Нэсса.
– Серегу?!
– Именно. Представь. И не где-нибудь, а у себя на районе.
– Ничего себе! – протянула собеседница. – А говорили, что он на Украину свалил…
– Я тоже так думал.
– Он сейчас рядом?
– Не совсем. В общем, нас не слышит.
– Понятно, – она на секунду замолчала. – А вообще как он сам?
– Понятия не имею. Мы толком-то и поговорить не успели. Но, судя по виду, хорошо на стакане сидит.
– Да уж, ничего хорошего, – в трубке послышался вздох.
Закончив разговор, я вернулся к Нэссу. Тот все еще продолжал топтаться на прежнем месте. В корзине, висевшей на его локте, покоился полуторакилограммовый пакет с лечебным кормом. Другой, точно такой же, он то брал с полки, то ставил обратно.
«Видать, совсем на мели!»
Я решительно забрал у Серого обе упаковки и отправился к кассе. Вознесенский было посеменил за мной, но затем вернулся в отдел корма для кошек.
Сумма, на которую потянули два «Проплана», и впрямь оказалась немаленькой. Честно сказать, я уже пожалел, что вызвался выручить деньгами бывшего приятеля. Ладно бы помочь кому-то из нормальных, а то ведь Нэссу! Который давно и прочно, как говорится, перешел на другую сторону баррикад.
Его уход туда начался, кажется, со ссоры со священником, у которого бывший приятель окормлялся1 в церкви. Потом он свалил и из «Телеги», да не куда-нибудь, а в труппу Аптекаря – самого отвязного из либеральных мельпоменовцев. А потом случился знаменитый Майдан в Киеве. Среди тех, кто бесновался на баррикадах, оказался и Нэсс. Его интервью-синхрон, где он на фоне горящих покрышек поет оды тамошним погромщикам, крутили много раз по телевизору и в интернете. Помнится, я тогда позвонил ему, но из этой затеи ничего не вышло. Попытался написать ему в соцсетях, но выяснилось, что он удалил меня из друзей и занес в черный список. Пытался я набрать его домашний номер, но и там никто не отвечал. И мне оставалось лишь лицезреть теперь уже бывшего приятеля в интернете.
Удовольствия в этом было мало. С каждым месяцем Нэсс все больше скатывался в какую-то патологическую мизантропию. Причем ладно бы, так сказать, вещал собственные мысли и суждения. Как же! Как правило, он появлялся в разных мерзких сценках, разыгрываемых с такими же фиглярами. Обычно героями, которых теперь воплощал Серый, были дебиловатые мужики-алкаши, беспробудно бухавшие, лупилвшие домочадцев, но при этом дико гордившиеся тем, что они русские, и тем, что Крым теперь де-факто принадлежит их родной стране. Или же Нэсс читал стишки, навроде знаменитого «Монолога патриота», сочиненного известным диссидентом-рифмоплетом:
Я крут! Я истый патриот.
Когда враги кругом и гады.
А если нет – то идиот,
Смердящий заунывным смрадом.
Когда мы в мире все живем,
Нам по фигу страна родная,
Мы испражняемся, блюем
За сгнившим дочерна сараем,
Да, все мы быдло – не народ.
Скоты с упоротою мордой.
Мы каждый – конченый урод.
Аки горбун со сноубордом.
Но нам скажи: «Враг у ворот!» –
Мобилизуемся за сутки!
Мы встанем дружно к взводу взвод –
И алкаши, и проститутки…
Ладно бы подобное выдавал какой-нибудь потомственный фрондер, с младых ногтей впитавший в себя ненависть к земле, на которой ему не посчастливилось родиться. Но перерождение Вознесенского, еще совсем недавно слывшего этаким непоколебимым государственником и патриотом, – все это казалось каким-то абсурдом, игрой на публику. Словно артист, всегда воплощавший на экране прекраснодушных и мужественных героев, вдруг исполнил роль злобного негодяя. И исполнил отменно!
А самое главное, что совсем еще недавно Серега был православным. И не из тех, кто заходит в храм по праздникам поставить свечку да перекреститься напоказ, а строго соблюдающим Посты, живущим церковной жизнью, регулярно исповедуясь и причащаясь. Теперь же он превратился в этакого записного богохульника, изрыгая со сцены такие тексты, что даже далекому от Церкви человеку стало бы не по себе.
Когда же он был настоящим? Раньше или после? Да и знал ли я вообще как следует своего приятеля? Например, о том, что чванливый внешторговец, муж Стеллы Николаевны, приходится Серому не отцом, а отчимом, мне стало известно совершенно случайно.
Случилось это весной девяносто третьего, на праздновании Серегиного дембеля. После того как гости разошлись, мы с виновником торжества махнули еще по паре рюмок, после чего тот, разомлев от водки, стал хвастаться наградами, полученными за Карабах. Хвалиться и вправду было чем: два знака «За отличие в службе» первой и второй степеней – по тем временам для солдата это было очень солидно!
– Знаешь, кто меня награждал? Сам Куликов!
– Серьезно?
– А то! Он же в ту пору нашими войсками рулил, а первую степень только начвойск2 может жаловать.
– Так он сам, что ли, ее тебе на грудь цеплял?
– Ну, не сам, – приятель чуть замялся. – Но удостоверение на знак лично подписывал. Вон, глянь, – он достал из ящика стола и протянул мне маленькую книжечку из плотной бумаги с «эмвэдэшной» аббревиатурой.
– Так это факсимиле, Серый, – вынес я вердикт, изучив генеральский автограф.
– Ну и что? Все равно зацени уровень!
Я уже было хотел вернуть документ, как взгляд вдруг зацепился за одну из граф.
– Ошиблись, что ли? – спросил я приятеля, ткнув на значащееся в удостоверении отчество «Андреевич». – Ты же у нас вроде Евгеньевичем всегда был.
– Нет, все правильно, – отозвался Серый, как-то резко помрачнев.
– Так, выходит, тебе Евгений Валерьянович не отец?
– Почему не отец? – нервно вскинулся Нэсс. – Самый что ни на есть отец, едрен-шмон! Он меня вырастил, поднял…
– Да кто с этим спорит! Просто интересно, а где настоящий? Ну, в смысле, от которого ты родился?
– Умер… – нехотя отозвался Серега.
Разговор на эту тему был ему явно неприятен.
Да, Нэсс всегда был скрытным. Во всяком случае я не мог припомнить, чтобы Серый когда-нибудь откровенничал со мной. Интересовался, выслушивал, советовал – это да. А вот чтобы сам поведал что-нибудь сокровенное, не припомню. Конечно, молчуном он не слыл, но все его красочные рассказы в лицах были в основном про кого-то, а если уж Нэсс повествовал про себя, то в основном какие-то забавные истории. А вот чтобы излить душу… Нет, не было такого на моей памяти.
4
Расплатившись, я вышел из магазина и устроился перекурить перед входом. Погода стояла великолепная: в меру солнечная, но не жаркая для двадцатых чисел апреля. В общем, такая, какая и должна быть на Пасхальной неделе.
Поздравление со Светлым Воскресением висело и при входе в зоомагазин. Какой-то креативщик изобразил трогательного крольчонка, который забрался передними лапками на праздничный кулич и смотрел в объектив милыми наивными глазками. Картинку венчала традиционная надпись: «С праздником Светлой Пасхи!». Рядом пестрел еще один плакат. На нем знаменитая актриса, а ныне еще и ярая зоозащитница Эвелина Казурова с трагически-умоляющим взглядом держала на руках крохотного котенка. «Не покупай! Возьми из приюта!» – гласила агитка.
Смартфон вновь ожил. Глянув на экран, я не сдержал усмешки:
«Та-ак… Вот и ты, друг ситный, уже в курсе!»
– Не отвлекаю тебя?
– Нисколько. Я как раз пока один.
– А друг наш где?
– В магазине. Корм для своего кота выбирает. А может, и кошки – я не интересовался.
– А как он сам?
– А тебе Ларионова не доложила, что ли? – я не сдержал сарказма.
– Да, поведала, – собеседник чуть помолчал. – Так не знаешь, где он сейчас, как?
– Судя по виду, не очень. Скорее всего бухает. Сидит на мели, – точно так же, как и десять минут назад, повторил я.
– Это я уже знаю.
– А про остальное сам пока не ведаю.
– Слушай, а ты не мог бы выяснить его теперешние контакты? Хотя бы телефон…
– Думаешь, он станет с тобой разговаривать?
– Кто его знает… Тебя же он не послал куда подальше, так?
– Это верно, – согласился я. – Даже вроде бы обрадовался.
– Ну вот видишь. А по идее, не должен был.
– Действительно.
– Хотя, с другой стороны, вспомни, когда он в последний раз на публике появлялся? В интернете или еще где?
– Да с год назад, наверное, или больше.
– И в труппе «Аптеки» уже не числится. А главное, когда на Украине в феврале прошлого года все началось, он же ни разу не высказался по этому поводу. Все его дружки-приятели больше года визжат из каждого утюга: «Нет войне!» – и тому подобное. А он?
– А он исчез. Отовсюду. Кстати, и страницы свои, что «ВКонтакте», что в остальных соцсетях, поудалял. А насчет «Аптеки»… Судя по его виду, он нигде не числится, – усмехнулся я. – Вопрос только, на что живет?
– Вот-вот. Ты уж там, если нетрудно…
– Уже! – я попытался придать голосу снисходительный пафос, какой проскальзывает у бывалого, предусмотрительного человека. – Только что проспонсировал ему кошачий корм почти на две штуки!
– А вот это ты молодец! – обрадовался собеседник. – В общем, прошу тебя: будет возможность, поговори с ним по душам, а если не получится, то хотя бы телефон запиши…
– Будет сделано! – шутливо отчеканил я.
«Да что это происходит! Всем до смерти интересно, что с этим кренделем! А вот и он наконец!»
– А вот и я, – в унисон моим мыслям произнес Нэсс. – Ништяков своему подкупил, – бывший приятель качнул прозрачным пакетом с консервами, сухими колбасками и другим кошачьим лакомством. – Да… – опомнился он. – Спасибо тебе, Саныч. Я просто сейчас на мели. А за квартиру только в начале мая получу…
– За какую? На Нахиме?
– Той давно нет. Когда матушки не стало, батяня, то есть отчим, – лицо Серого скривилось, словно от зубной боли, – почти все себе захапал. После продажи той хаты мне денег осталось только на две «однушки» в этих краях.
– Так ты, значит, тут теперь живешь? – поинтересовался я.
– Нет, здешнюю я сдаю, а обитаю в Курьяново. Ну, где еще пару лет назад станцию построили, знаешь?
– Знаю. И давно ты там?
– В семнадцатом переехал, в сентябре.
– Выходит, мы с тобой одновременно жилье сменили, – покачал головой я и подумал: «Надо же – за все эти годы не разу не пересеклись, хотя живем почти рядом!»
– Ты сейчас куда? Домой? – между тем спросил Нэсс.
– Да собирался вот.
– Я тоже. А то мой там мается. Он одиночества не выносит. Знаешь, больше всего боялся, когда мобилизацию объявили, что меня загребут за компанию! Только и мучился: как он, с кем, бедный, останется?
– Расслабься, ты по возрасту не подходишь. Да и по здоровью тоже, – я скептически глянул на отечное, явно больное лицо бывшего приятеля.
– Кто его знает! Писали, что и многодетных, и даже калек пачками гребли… Ладно, чего это я… А у тебя, смотрю, тоже дома зверье? Кошак? Ты ведь, кажется, все время сибиряков держал? – бывший приятель сыпал вопросами, словно хотел заболтать, оттянуть момент расставания.
– Два кота. Сибиряк и беспородный. Вернее, помесь с мейн-куном.
– А вообще, как сам? Сколько мы с тобой не виделись? Лет восемь?
– Девять.
– Да, тогда как-то все получилось не айс, едрен-шмон. Надо бы нам с тобой по-хорошему посидеть, поговорить… Ты на выходных не работаешь?
– Нет. Но буду занят.
– А потом всю неделю пашешь?
– Естественно.
– Вот так и живем, – вздохнул Вознесенский. – Все в спешке, все в суете. А перемолвиться даже парой слов не получается… – эти слова он произнес по-особенному, явно цитируя кого-то из героев пьес. – Слушай, а сейчас ты сильно спешишь?
– Не особо.
– А то, хочешь, зайдем ко мне? Посмотришь хоть мои апартаменты. Посидим, поднимем по чарке. У меня, правда, не особо чего есть, но купим: ты же меня выручил, – он кивнул на пакеты с кормом. – Теперь до квартирных однозначно доживу!
Нэсс переступил с ноги на ногу и как-то робко посмотрел на меня. Несмотря на то, что он был выше почти на голову, глядеть у него получалось снизу вверх, как у провинившегося ребенка на взрослого. Но даже не это поразило меня. Глазами, да и всем своим обликом Серый сейчас напоминал Грома, минно-разыскного пса из части, где я когда-то служил. Несмотря на свою солидную и отчасти грозную кличку, овчарка имела спокойный и даже робкий нрав. Хозяином собаки был суровый и взыскательный прапорщик. Если он был почему-то недоволен подопечным, то не ругал его, а демонстративно не обращал на него внимания. И бедняга Гром, поджав хвост, вертелся вокруг своего повелителя, нервно переминаясь на лапах, виновато пытаясь заглянуть в глаза… Подобный взгляд был сейчас и у Серого.
Телефон, который все еще оставался в руке, коротко дрогнул и тренькнул. Глянув на экран, я обнаружил сообщение от Сбербанка: «Перевод от …» Следом пришел еще один месседж, на этот раз в «Вотсап». «Я тебе подкинул немного. Помоги ему, если нужно».
В конце текста отправитель поставил смайлик, означавший «спасибо».
«Ничего себе! Почти вдвое больше, чем я за корм заплатил!»
– Что ж, давай зайдем, – наконец ответил я. – Только лучше заедем. До тебя ведь остановок десять пилить?
– Одиннадцать, – уточнил Серый.
Усевшись в автобус, мы как-то сразу замолчали. Вознесенский достал из кармана старый, с треснутым экраном смартфон и уткнулся в него. Я же, в свою очередь, сделал вид, что тоже роюсь в телефоне, исподволь наблюдая за бывшим приятелем.
Нет, он нисколько не походил на себя прежнего. Было в нем что-то от затурканного жизнью работяги из девяностых, когда месяцами не платили зарплату, выгоняли на неопределенный срок в отпуска за свой счет, и недавний добытчик, превратившись в невольного трутня, тихо садился на стакан. Но квасил не запойно, а исключительно по вечерам, принимая свои триста граммов в одиночку. А на ворчание жены лишь вздыхал и виновато опускал взор. И появлялась в мужике какая-то усталость, надломленность. Именно такая сейчас явственно просматривалась в Нэссе.
Когда проезжали мимо монастыря, я нарочито перекрестился, покосившись на Серого, ожидая увидеть на его лице раздражение или в лучшем случае равнодушие, но он неожиданно вслед за мной осенил себя крестным знамением. Нэсс, который в свое время чуть ли не публично отрекся от Церкви!
«Однако!»
Доехав до «Батюнинской» и закупившись в ближайшем магазине, мы прошли чуть вперед и оказались на небольшой тихой улочке. По обеим ее сторонам тянулись старинные двухэтажные домики с лепниной, почти все нежно-медового цвета. Лишь крайний из них был выкрашен в бледно-розовый.
– Вот он, мой особняк, – кивнул на него Нэсс.
Едва мы вошли в подъезд, как из-за ближней двери раздалось громкое, отрывистое мяуканье, чем-то напоминавшее собачий лай.
– Он у меня такой. Я еще к дому подхожу, а его светлость уже чует, – с нежной гордостью сообщил Вознесенский, отпирая замок. Потянул дверь, шагнул и чуть было не споткнулся об вертевшегося у порога длинного полосатого кота.
Замяукав еще пронзительнее, зверь заурчал, обернулся вокруг ног хозяина, а затем, вскочив на банкетку под вешалкой, требовательно возложил передние лапы на бедро Сереге.
– Подожди ты, дай хоть раздеться! – попросил тот питомца, но полосатый заголосил так протяжно, что Нэсс сдался и взял его на руки.
Приставала тут же обхватил его лапами за шею и стал тереться мордой о лицо, словно хотел забодать. А Серый в ответ бережно прижал его к себе, гладя по загривку и почесывая за ухом. Лицо моего школьного знакомца в этот момент выражало нежность и вину, как у приходящего отца, наконец-то вырвавшегося проведать соскучившегося сынишку.
Изурчавшись и истеревшись, кот наконец позволил спустить себя с рук и обратил внимание на меня. Вновь запрыгнув на лавку, зверь требовательно и пытливо воззрился, чутко шевеля ноздрями, а затем вновь издал протяжный звук, чем-то похожий на сигнал клаксона допотопных автомобилей.
– Это он здоровается с тобой, – перевел с кошечьего Нэсс. – Вроде как знакомиться желает.
– И как же его зовут?
– Лоренцо. Не забыл еще Шекспира?
Котофей старательно и с интересом обнюхал меня, подставил потрепать заушину, а затем переключил внимание на сумку, явно пропахшую моим домашним зверьем. Исследовав ее, стал тереться об нее подбородком и ушами.
– Это он, типа, твоим послание передает, – пояснил Вознесенский. – Обычные, сам знаешь, как метят, а кастраты вот так вот… Да ты не разувайся, не надо! – заметив, что я собираюсь снять кроссовки, запротестовал он. – У меня не убрано. Все, понимаешь, никак не соберусь. Лучше сходи руки сполосни, а я пока на стол соображу.
Пол и впрямь не блестел чистотой. Не лучше выглядела и грязно-белая плитка в санузле. Похожая картина была и в продолговатой, с высокими потолками комнате: те же беспорядок и запущенность. Не спасали положение и добротный, очевидно, не так давно сделанный ремонт и мебель, старинная, отреставрированная, словно перекочевавшая сюда из позапрошлого века. Лишь высокий современный шкаф-панель да уходящие под потолок причудливые когтеточки выпадали из общего плана.
Нынешнее жилище Нэсса отличалось от прежнего еще и тем, что на стенах не было ничего из его прошлого. Там, на Нахимовском, в комнате Серого все было увешано разнообразными афишами «Особого перевала», с эпизодами из фильма, где на первом плане был изображен главный герой в исполнении Вознесенского: с наушниками, ловящий в эфире переговоры врага, с автоматом наперевес, отбивающий атаку на заставу, с ножом у горла, в свои последние секунды жизни. На стенах, книжных полках теснились фотографии: Серега на сцене в роли Гренгуара, в компании известных актеров во главе с самим Никитой Михалковым, в обнимку с вечно молодой Эвелиной Казуровой.
Теперь Нэсса не было нигде. Абсолютно. Зато присутствовал кот. На стене висел календарь с изображением Лоренцо на фоне морского бриза. Запечатлел его явно профессионал: с выгодного ракурса, с мягким освещением, благодаря чему усатый-полосатый стал похож на рысь или тигра диковинной расцветки. На книжной полке красовался другой снимок. Там питомец Серого возлежал на нарядной подстилке, положив на лапы свою вытянутую ушастую голову с какой-то не кошачьей, а человеческой печалью в глазах. И даже на письменном столе стояла фотография в узорной рамочке, где зверь крепко спал, вытянувшись во всю длину.
Да, похоже, кот в этом доме занимал главное место. Все человеческое: диван, стол, стулья, шкафы – было пыльным и неухоженным. Зато когтеточки, домик, лежаки, игровые треки, плюшевые тоннели и даже миски для корма казались только-только купленными и, судя по виду, прилично дорогими. Казалось, хозяин дома тут Лоренцо, а Нэсс состоит при нем в качестве прислуги-приживалки.
Нэсс, который, сколько я его помнил, никогда не питал особой любви к зверью.
5
Серый появился в комнате с подносом, который держал, как заправский официант, на растопыренных пальцах. Быстро расположил на столе тарелки с нарезками, овощи, две пиалы с маринованными грибами и огурчиками. Расставил рюмки, стаканы и вновь убежал в сторону кухни. Пока он гремел посудой и хлопал дверью холодильника, в комнате возник Лоренцо. Поведя полосатой вытянутой мордой, он резво вскочил на диван, поставил передние лапы на стол и начал тыкаться носом в еду.
Я хотел было шугануть наглеца, но меня упредил Нэсс, появившийся в дверях:
– Не трожь его. Он только понюхает, а есть не будет. Наша светлость таким не питается.
Последнюю фразу бывший приятель произнес с какой-то извиняющейся нежностью, как будто бы просил прощения за проказы несмышленого ребенка. Погладил кота, Следом водрузил на стол пузатый графин с перелитой в него водкой.
– Ну, вроде все, – с удовлетворением в голосе произнес он. – Кстати, знаешь, как они раньше назывались? – кивнул он на вместительную граненую рюмку из толстого стекла, поставленную передо мной.
– Лафитник.
– Верно. А ты в курсе, что в старину в них подавали водку самому дорогому гостю?
– Намекаешь, это типа мне такая крутая уважуха?
– Не намекаю. Просто рад тебя видеть. Честно, – повторил он и, разлив водку, с ходу махнул ее.
Выпив, Нэсс еще с минуту сидел с полуприкрытыми глазами. Его бледное, с нездоровой синевой лицо начало розоветь, как картинка на мониторе, когда в настройках прибавляешь яркости.
– Все, вроде начало отпускать, – пробормотал он. – А еще говорят, что, мол, водка – яд… Да ни фига подобного! Я, когда сердце прихватит, только ей и спасаюсь. Ну что, давай за встречу, что ли? А то мы первую как-то без тоста, не по-человечески…
Вновь опрокинув рюмку, Серый опять погрузился в свою причудливую медитацию. Когда же он открыл глаза, в них появился забытый блеск. Как у того, прежнего Нэсса.
– Сколько же мы не виделись? – как давеча у магазина, переспросил Серый. – Девять лет? Да, вот как бывает, едрен-шмон!
– Ну так это по твоей инициативе мы не общались.
– Это да, – вздохнул Нэсс.
– Так кто же виноват? Ты же решил новую жизнь начать, верно? Все что раньше, – за борт, чтобы не компрометировать себя приятелями-ватниками перед вашими рукопожатными, так?
Вознесенский молчал.
– Вот только жизнь, зараза, по-другому повернулась, – продолжал я. – Сначала обласкали, приветили, а потом, видно, что-то пошло не так! Где они были, твои соратники по борьбе, когда тебя отчим с квартирой кинул? Почему не забили во все колокола? Почему не наняли в адвокаты Резника, Кучерену или, на худой конец, Падву? Как позволили тебе перебраться в эту хибару в кукуево-тутуево?
– Ну эту, как ты говоришь, хибару я себе сам, положим, выбрал. Двенадцатиэтажку под сдачу определил, а в этой решил жить. Как-никак старина. Зайдешь, и как будто бы в позапрошлый век попал.
– Неужели? И все остальное тебя тоже устраивает? Тебя, который с пеленок как сыр в масле катался: импортная жвачка, шмотки, видак, спецшкола и…
– А вот тут ты не прав, – неожиданно перебил меня Нэсс. – Не с пеленок. И жвачек со спецшколой у нас в тайге не было.
– В какой еще тайге?
– В обыкновенной, под Ухтой.
– А ты-то там с какого перепугу оказался?
– Батя мой там служил. Да, батя, – повторил Серый. – Он, папаня мой настоящий, чтобы ты знал, конвойной ротой командовал при зоне.
– Так он у тебя из наших? Ну, то есть «вэвэшник»3 был?
– Из них самых. Саратовское училище заканчивал.
– А как же… – у меня в голове не укладывалось, как могла до болезненности аристократичная Стелла Николаевна связаться с простым воякой и укатить с ним в таежную глушь. Да и где они могли познакомиться?
– А так, – угадал мои мысли Нэсс. – Угораздило мою матушку перед последним курсом в институте съездить в деревню под Чехов. Там у ее подруги тетка жила. Ну и решили вместо надоевшего моря отдохнуть на лоне природы. На свежем воздухе, как говорится, и парном молоке. А дед с бабкой сдуру отпустили ее. Вот там они и встретились: папаня-то мой местный был и тоже на каникулы приехал из своего Саратова. Ну а там, как водится, втрескалась в него до потери пульса…
Я кивнул, представив юную Стеллу Николаевну, которой порядком поднадоели однокурсники из Иняза, этакие самовлюбленные маменькины и папенькины сынки. А тут, в какой-то деревенской глуши, встречается бравый курсант, без пяти минут офицер, весь такой самостоятельный и мужественно-загадочный. Как тут не потерять голову, не ослушаться родительской воли и не убежать с любимым на край света!
– Я, чтоб ты знал, даже родился в санчасти при колонии, – между тем продолжал Серый. –Когда у матери начались схватки, как раз неожиданно оттепель наступила, и по проселку из нашей деревеньки под названием Локша в райцентр, где был роддом, только на тракторе и можно было проехать. Так что принимала меня фельдшерица, которая, кроме как зашивать вскрывшихся зэков ни фига не умела. Но я как-то умудрился вылезти на белый свет и выжить. И детство провел в такой дыре, что тебе и не снилось. Ты, наверное, и знать не знаешь, что такое деревушка, в которой единственная достопримечательность – колония?
– Ну, не совсем…
– Ах да, забыл! Ты, помнится, рассказывал, что твои родаки летом вместо морских курортов на байдарках в компании таких же чудиков по всякой глуши плавали.
– Точно, – подтвердил я. – В том числе и в ваши края, где сплошные зоны. Мы однажды даже в столовке для бесконвойников обедали.
– Все равно это не то. Одно дело из лодки походя зырить, а другое – жить. Когда ты зимой от холода околеваешь, а чуть потеплеет, так тебя туча мошкары поедом жрет! Помню, когда как-то летом на каникулы в Златоглавую к бабке с дедом приехал, так несколько ночей заснуть не мог: никто над ухом не жужжит, не кусает. А еще фигел очень, что на улицах люди в штатском ходят и без конвоя.
А жили мы знаешь как? Не лучше, чем зэки в бараке! Хотя нет, наша халупа была похуже: половина древней бревенчатой избы, которую мы снимали. Полкомнаты – здоровенная печь, которая больше чадила, чем грела, да три ржавые солдатские койки. Две, сдвинутые по одну сторону печки, там предки спали, и одна по другую – моя. Я, едрен-шмон, шесть месяцев в году, не раздеваясь, дрых под двумя одеялами и списанным караульным тулупом. А иначе бы от холода окочурился. Ну, как я тебе картинку нарисовал?
– Жесть, – покачал головой я, недоумевая, как в подобных условиях могла существовать утонченная, привыкшая к городским удобствам Стелла Николаевна.
– Вот-вот, – подтвердил Вознесенский и, вновь влет угадав мои мысли, изрек: – Мать тоже моя всю жизнь с ужасом вспоминала те годы. Вместо того чтобы после диплома идти работать в Патриса Лумумбы, куда ее должны были распределить благодаря связям деда, она сама напросилась в тайгу, учить английскому детей конвойников и уркаганов. Тех самых, которых батя мой стерег. Многие из заключенных, кому посчастливилось, отмотав две трети срока, сумели перейти на поселение. Ну, то есть жить не в бараке за тремя рядами колючей проволоки и под прицелом часовых на вышках, а в поселке, без конвоя. Где часто сходились с местными бабами – так и оседали.
Кто-то брался за ум, а кто-то продолжал шаромыжничать, сев на шею жене. Как тот же Сивый, отец моего одноклассника Жеки Падунца. Его сынку тогда шел всего тринадцатый, но он успел нахвататься от своего папаши и его дружков зэковских замашек. Собрал вокруг себя еще троих пацанов, отпрысков таких же отпетых урок-алкашей, и подбивал их на всякие пакости, а себя, прикинь, заставлял величать не иначе как Ханом – в честь «смотрящего»4 местной зоны.
Вот этот самозваный малолетний Хан и решил терроризировать нас, детей конвойников. И так получилось, что в нашем пятом классе из таковых оказался один я. Короче, начали ко мне эти четверо докапываться. Вначале потребовали ежедневной дани – двадцати копеек, что на завтрак родители давали. Когда же я послал их куда подальше, то налетели всей кодлой. Тогда меня спасла завуч, заглянув на шум в наш мальчишеский туалет. Следом примчалась матушка и даже пыталась отчитать Падунца с дружками, но… Маман хоть и достаточно пожила к тому времени в здешних местах, но так и не избавилась от своей непроходимой интеллигентности. И вместо того чтобы пригрозить этим уродцам, пыталась взывать к их совести, так и не поняв, что это понятие отсутствует у подобных особей на генетическом уровне, как хвост у макаки. Так что стоит ли удивляться, что через несколько дней они вновь накостыляли мне, и куда хлеще.
На этот раз они подловили меня по дороге домой, в глухом проулке. Я не помнил, сколько раз меня сшибали с ног, пиная, как мяч, под злорадные выкрики Жеки:
– А ну еще разок наподдай! Пусть знает, ментеныш!
Знаешь, тогда мне впервые захотелось умереть. Сдохнуть в неполные двенадцать лет. Чтобы никогда не чувствовать того, что испытал в тот день! Это было сродни тому, как если бы ты рухнул в пропасть. И у тебя только одно желание – скорее долететь до дна, чтобы страх и муки разом оборвались!
В таком состоянии и обнаружила меня мать, придя с работы. Она, естественно, дико перепугалась и потащила меня в батальонную санчасть. Туда же следом явился и батя. Правда, на мой побитый вид отреагировал не особо, а потом, дождавшись, пока дежурный врач-старлей обработает мои синяки и ссадины, увел к себе в роту. И там, закрывшись в канцелярии, начал выяснять, кто и за что так не по-детски отметелил меня.
– Значит, говоришь, ментенышем тебя обзывали? – поинтересовался он. – Ну-ну…
– Угу. А еще он говорил, что ему ничего не будет, потому что ему двенадцать всего, таких не сажают…
– В том-то и дело, что не посадят, – все так же странно глядя на меня, согласился отец. – Ну, и чего ты думаешь делать? По-прежнему голову подставлять под их тумаки или дань платить, чтобы лишний раз не трогали?
– А чего я могу против четверых?
– Против четверых – ничего. А вот с каждым поодиночке – сможешь. Они же все задохлики. Вон тот же Жека с семи лет курит как паровоз, а может, уже и в бутылку не раз заглянул. Ты его куда сильнее будешь. Вот и отлови этого говнюка и врежь ему. И как следует, а не до первой крови! Иначе они тебя зачморят, как тряпку!
Батя говорил со мной еще долго и добился своего: к концу нашего разговора я уже так ненавидел Хана и так мечтал порвать его, что не мог дождаться завтрашнего дня. И даже во сне я то и дело видел, как глушу этого зэчьего ублюдка то колом, то кочергой от нашей печки, а он, сволочь, все не подыхает и не подыхает…
А назавтра, на первом же уроке, дождавшись, когда Падунец отпросится в туалет, а на самом деле покурить, я, выждав для приличия пару минут, тоже попросил разрешения выйти. Классная хоть и с неудовольствием, но отпустила. И я тут же стремглав ринулся в уборную, где жадно смолил «беломорину» вчерашний обидчик.
Он даже не успел поднять на меня глаза, когда на его голову обрушилась швабра – первое, что попалось мне на глаза, когда я вбежал в сортир. Не помню, сколько времени лупил его со всей дури. Очухался, лишь когда меня схватили и вырвали из моих рук обломок палки – все, что к тому времени осталось от «лентяйки». Жека сидел на полу с залитой кровью башкой, а рядом кипятилась наша уборщица тетя Катя:
– Что ж вы делаете, ироды?!
Туалет мигом заполнился людьми. Классная что-то гневно кричала мне в лицо, возле поверженного Хана суетилась медсестра. Потом появилась завуч, следом прибежала мать… Затем всем скопом меня долго песочили в директорском кабинете, кричали, чем-то грозили. А матушка плакала еще сильнее, чем вчера, когда увидела мою разбитую физиономию.
В избушке, где квартировало наше семейство, продолжилось то же самое. Мама, заламывая руки, костерила меня на все лады. А когда вечером вернулся со службы отец, весь ее гнев переключился на него.
– Это все ты! – кричала она. – Ты его с пеленок драться учил!
– Учил, – невозмутимо парировал батя. – И что?
– Так полюбуйся! Мне фельдшер сказала, что наш этому Жене нос сломал!
– Бывает, не рассчитал, – с фальшивым сожалением качал головой отец, пряча усмешку.
– Посмотрите, весело ему! – всплеснула руками мать. – Ты его кем хочешь вырастить, бандитом?!
– Нет, всего лишь мужиком.
– Мужиком – это, по-твоему, людей калечить?
– Мужиком – это значит уметь за себя постоять. Или ты забыла, как его вчера эти сопляки измордовали?
– Не забыла! Я сегодня сама хотела после работы с родителями этих мальчишек поговорить…
При последних словах матери стало смешно даже мне: поговорить что с предками Хана, что с родаками его дружков было довольно трудно. Хотя бы потому, что они почти не бывали трезвыми.
– А уж это позволь мне взять на себя, – решительно оборвал маму отец и начал не спеша переоблачаться из форменного бушлата в телогрейку, попутно приказав мне одеваться.
– Куда вы? – насторожилась матушка.
– К родителям. Ты ж сама говорила, что надо бы с ними пообщаться…
Сперва я подумал, что мы и вправду пойдем домой к Хану, но батя споро зашагал в сторону сельмага, где по вечерам собирались местные забулдыги.
Привычная стайка из нескольких мужиков обнаружилась за магазином. Не доходя до них шагов десяти, отец вгляделся в темноту и властно скомандовал:
– Сивый! А ну ходь сюда!
– Это че еще за хрен… – от компании отделилась долговязая фигура. – Ха, гражданин начальник, ты? – настороженный тон Жекиного папаши сменился презрительно-насмешливым. – Аж не признал сперва! За каким прикочумал? – уголовник говорил, вязко растягивая слова, словно пускал слюну.
– Ща узнаешь.
Отец ударил коротко, без замаха. Сивый полетел на землю, но тут же вскочил, яростно хрипя:
– Ты че творишь, вертухай?..
Новый удар, на этот раз кованого офицерского сапога, не дал ему договорить. Трое собутыльников рыпнулись было на помощь, но отец, отступив назад, выдернул левую руку из кармана, на которой оказался намотан солдатский ремень с увесистой пряжкой:
– Не дергаться, падлы!
А затем, вернувшись к Сивому, вновь саданул ему под ребра.
Я в ужасе смотрел, как папаня жестоко, страшно избивает человека. Мне казалось, он хочет не просто отметелить его, а втоптать в землю. Время от времени мой родитель приподнимал его за ворот, что-то говорил – и вновь мордовал, цедя что-то сквозь зубы. Наконец, когда в последний раз он поднял Жекиного папашу и поставил на колени, удерживая за волосы, я расслышал:
– Ну, ты все понял? Понял, кто ты есть по жизни?!
– Понял… – придушенно прохрипел Сивый.
– И кто? Только громче, чтобы все слышали! Ну!
– Чушкарь… Падаль парашная5… – неживым голосом выдавил из себя отец Хана.
– То-то! И знай свое место, мразь!
Отец швырнул Сивого на землю, показательно вытер об него сапоги – и неспешно двинулся прочь, подхватив меня за руку.
Потом мы сидели на пустыре за нашим домом. Я все еще был в шоке от увиденного, а батя… Нет, он не успокаивал меня. Просто говорил со мной наравне, как со взрослым, объясняя, что такая вот шушера, подобная Жекиному папаше, понимает только силу. И если не ты, то тебя. Третьего не дано.
6
– Вот так, а ты говоришь, всю жизнь в масле катался, – завершил свое повествование Нэсс.
Нет, Серый хоть и изменился до неузнаваемости, но ничуть не утратил дара рассказчика. Казалось, я только что не выслушал историю, а просмотрел ее на экране, так явственно представились мне все описанные сцены: драка в школьном туалете, избиение уголовника за сельмагом…
– И чем все это закончилось? – опомнившись, поинтересовался я.
– Для кого? Если для меня, то грозились исключить из пионеров, вызвать на совет дружины, но потом как-то все затихло. Эти гопники тоже отстали: Жека, чтобы не позориться, начал лепить отмазки, что, типа, я чокнутый, могу убить и ничего мне за это не будет. Даже клялся своим дружкам, будто видел справку, где написано, что Вознесенский особо опасный псих. Но, думаю, дело было не только в том, что Падунец огреб от меня. Просто еще сыновья батиных сослуживцев, которые были постарше, в свою очередь, жестко поговорили со всей этой шоблой из зековских детишек, и те притихли.
А вот для отца все вышло боком. Он же будущим летом должен был ехать в Москву, в академию! Мать дождаться не могла, когда мы выберемся и забудем, как страшный сон, эту тайгу с зоной, а тут на тебе! Сейчас бы, конечно, батю вообще за подобное выгнали со службы, а то и посадили! А тогда все кончилось выговором и крестом на будущей учебе. И это при том, что Сивый официально не жаловался – это по их понятиям считалось западло. Но тем не менее до начальства дошло все, что произошло тем вечером на задворках магазина. И не только до комбата, но и до дивизии, которая была за сотню километров! В общем, учеба и дальнейшая карьера капитана Вознесенского накрылись медным тазом.
Примерно месяц в нашем доме не случалось вечера без скандала. В конце концов мать отправилась в райцентр и подала на развод. Не сразу, но их с батей все же развели. Случилось это как раз к началу летних каникул. После чего меня увезли в Москву.
Поначалу я скучал по отцу. Он даже мне снился, причем чаще всего таким, каким я его видел перед отъездом на перроне: с серым лицом и виноватыми потухшими глазами. Будь батя гражданским, рассчитался бы и рванул следом, если не сойтись с матерью, так хоть быть рядом с сыном. У него же дом имелся под Чеховом. Но военным в ту пору уволиться было невозможно от слова «совсем».
По приезде мы обосновались у родителей матушки на Октябрьском Поле. Да-да, сперва я обитал там. Это потом, когда в нашей жизни появился новый папа, Евгений Ростиславович, дед через свои знакомства сумел выбить кооператив на Нахимовском. Вернее, взял его в другом месте, быстро выплатил пай, а потом провернул обмен. А до этого мы обитали в сталинке, на Народного Ополчения, где еще со времен Иосифа Виссарионовича давали квартиры только особо заслуженным людям.
Таким был и мой дед. У меня до сих пор хранится «Большая советская энциклопедия», где ему, академику, Герою Соцтруда и генерал-полковнику Николаю Павловичу Юрасову, посвящена солидная статья. Помнишь фото у нас в гостиной, где дед с сослуживцами сняты вместе с Гагариным? А ведь папаня моей матушки зазнал первого космонавта, когда тот был всего лишь одним из кандидатов на полет!
Работал дед под началом самого Королева. Когда еще мой гросфатер не был академиком, а всего лишь молодым доктором наук, Сергей Павлович выделял его из всех своих учеников. Он же, после первых полетов в космос, представил Николая Павловича к ордену Ленина и выбил первую квартиру. В Останкино. Та, на Октябрьском Поле, появилась потом, когда Юрасов из членкоров был произведен в академики и получил Золотую Звезду.
За всеми своими военными заботами он мало интересовался домашними делами, доверив их бабушке. Помнишь Наталью Стефановну? Как теперь говорят, прошаренная была мадам! Бают, что хохлушки, в особенности с Западной Украины, почти все ведьмы. Во всяком случае, в их селе под Червоноградом ее мать, мою прабабку по имени Кшися, побаивались. Шептались, что порчу может навести, а то и уморить до смерти. Не знаю, правда ли это, но что ее дочь сумела после школы выбраться в Москву, устроиться лаборанткой в засекреченный, работающий на космос центр и вдобавок ко всему окрутить молодого перспективного доктора наук – как говорится, непреложный факт.
Когда мать задумала развестись с отцом, об этом знала только бабка. И всячески ее подначивала ни в коем разе не мириться с мужем. В отличие от деда, пусть ученого, но все же носившего погоны и потому изначально не возражавшего против брака дочери с лейтенантом-конвойником, Наталья Стефановна восприняла выбор единственного ребенка как катастрофу. В свое время поняв, что отговорить единственное дитя от свадьбы не удастся, она сделала вид, что смирилась, а сама стала ждать момента. Именно из-за своей тещи отец все двенадцать лет прослужил в тайге при зоне, хотя дед бы мог решить этот вопрос и перевести его в Москву. Он же был лично знаком с Яковлевым, командовавшим в ту пору внутренними войсками. Как-никак его части охраняли все предприятия и НИИ, которыми рулил академик Юрасов. Но бабушка, прикинувшись донельзя правильной, заявила благоверному: пусть всего добивается сам! Зять должен быть достоин тебя, выбившегося на самые верха из рядовых военных инженеров!
Короче говоря, дед узнал о разводе только по нашем возвращении в Москву. И сильно опечалился, узнав, что его единственный внук будет расти без отца. Он даже вновь хотел позвонить генералу армии Яковлеву, чтобы тот помог бывшему зятю с академией, надеясь, что когда мой батя окажется рядом, они с матерью по-любому будут общаться и, возможно, даже помирятся и сойдутся. Но бабушка сделала все, чтобы наш академик напрочь отказался от этой затеи. Тем более у нее были свои планы на дочь и внука.
В первую очередь она решила пристроить меня в английскую спецшколу на Арбате, где учились отпрыски разных шишек, как правило, дипломатов, внешторговцев и других тогдашних «блатняков». Но годы, проведенные в деревенской восьмилетке, сыграли свою роль: если диалектом туманного Альбиона благодаря матери я владел неплохо, то по остальным предметам явно не дотягивал до уровня, который требовался шестикласснику элитной бурсы. В общем, скрепя сердце, Наталье Стефановне со Стеллой Николаевной пришлось определить меня в обычную школу, располагавшуюся через дом.
Тот год был тяжким. Первую половину дня я проводил в школе, а вернувшись, тут же начинал совершенствоваться в алгебре, геометрии, физике, географии… Домашние отыскали мне самых лучших педагогов, а химии меня учила сама Эльвира Зиновьевна Розенкрейцер, дочка бывшего заместителя наркома, отвечавшего как раз за химическую промышленность и расстрелянного перед началом войны. После, при Хрущеве, его, естественно, реабилитировали и объявили жертвой сталинского террора. Правда, еще позже выяснилось, что Зяма Розенкрейцер на самом деле был чуть ли не главным закоперщиком изничтожения всех более или менее толковых специалистов в своем ведомстве.
Не знаю, смыслил ли что-нибудь в науке тот замнаркома или нет, но дочь его знала предмет будь здоров и даже преподавала на химфаке МГУ. Натаскала она меня так, что даже сейчас, через почти сорок лет, я помню большинство формул. И сама Эльвира стоит у меня перед глазами как живая. Особенно когда после занятий она, маленькая, изящная, лицом чем-то напоминающая Фанни Каплан, сидела у нас на кухне с бабкой и, дымя длинной заграничной сигаретой, вспоминала свое детство в знаменитом доме на Набережной, откуда их с матерью после ареста папы выселили… Нет, не в Магадан, а всего лишь в коммуналку на Маросейке. Но об этом мадам Розенкрейцер вещала так трагично, что очередь в туалет казалась вереницей людей в печь крематория, а общая кухня, где одновременно готовили несколько соседей, представлялась по меньшей мере газовой камерой в Освенциме или Майданеке.
Бабушка слушала ее, постоянно поддакивая, и, в свою очередь, вещала Эльвире Зиновьевне про Голодомор на Украине, устроенный, разумеется, Сталиным, дабы истребить непокорных западенцев, не желающих жить в одном государстве с москалями. Правда, потом, когда я узнал, что в те годы Львовская область, где, по словам бабки, была самая жесточайшая голодуха, была в составе Польши, мне стало непонятно: при чем здесь Иосиф Виссарионович? Жаль, это стало известно мне, когда Натальи Стефановны, как и Эльвиры Зиновьевны, уже не было в живых…
После ужасов Голодомора и коммунального жилья разговор, как правило, перетекал на меня. Вначале бабушка с трагическим надрывом в голосе в сотый раз повествовала о жутких годах под Ухтой, про зону и отца-вертухая. Да-да, Наталья Стефановна величала моего батю именно так, словно какой-нибудь зэк со стажем.
– Кошмар! – каждый раз, слушая о нашем с матерью недавнем житье, восклицала Эльвира Зиновьевна.
Поразительно, но самих заключенных, в отличие от тех, кто их стерег, Эльвира с бабкой жалели. Во всяком случае, когда речь заходила о них, голос что одной, что другой начинал звучать сочувственно и тепло. Прямо как у народной артистки Казуровой, когда она рекламирует приюты для животных и просит взять домой кошечку или собачку…
Все это дико бесило меня: я-то помнил Сивого с его сыночком Жекой да других блатных. И однажды, выбрав момент, поинтересовался: почему конвойники плохие, а сидельцы несчастные? Ведь на зону они попали за серьезные дела!
На мой вопрос бабушка замешкалась, а мадам Розенкрейцер разразилась длинной тирадой, смысл которой был в том, что в этой стране – да-да, она так и сказала: «в этой» – верить, что приговор кому бы то ни было верен и справедлив, просто глупо. Она бы, наверно, сподобилась пояснить, почему и в чем конкретно так несправедлива страна, если бы бабуля, опомнившись, не зашикала на нее, а мне не высказала, что влезать в разговоры взрослых как минимум некультурно.
Кстати, такое скрытое презрение ко всему окружающему в доме маминых родителей я замечал еще раньше, когда приезжал в Москву на каникулы. К бабушке постоянно приходили подруги, напыщенные, молодящиеся, в импортных шмотках. Почти все они дымили как паровозы и вели утонченно-мутные беседы. Именно тогда я впервые услышал про Солженицына, о котором бабка с товарками говорили с почтительным придыханием. Но самого большого благоговения удостаивался опальный академик Сахаров.
– Слышали? Андрей Дмитриевич снова голодает! Вчера в час ночи по «Свободе» передали!
– Какой кошмар!
Кстати сказать, по малолетству я думал, что беднягу-академика морят голодом, и не где-нибудь, а в тюрьме. Только потом, спустя много лет, я узнал, что их ссыльный кумир отказывался от еды добровольно, по наущению своей жены. И жил на всем готовом в благоустроенной и даже роскошной по советским меркам квартире в Горьком.
От Сахарова, Буковского и других диссиденствующих борцов непонятно за что бабка и ее гости просто млели. Зато когда речь заходила о ком-то из тех, кто имел отношение к власти, причем не только о кремлевских шишках, а любых, вплоть до участкового, в их голосах слышалось явное презрение.
Спросишь небось: а как же дед? Как он, академик и генерал, позволял такие сборища и разговоры в своем доме? А никак. Наш Николай Павлович был вечно загружен работой и, приехав домой, сразу же после ужина уходил к себе в кабинет. Там у него был отдельный городской телефон, по которому он постоянно звонил, что-то кому-то приказывал, кого-то за что-то отчитывал. К тому же при нем ни бабушка, ни гости старались не поднимать подобных тем.
Однажды такие разговоры закончились скандалом. Случилось это в восемьдесят четвертом, когда после переезда в Москву я пошел в новую школу. Русскому и литературе нас учила Олеся Андреевна – маленькая рыжеватая девчушка, выглядевшая куда моложе своих двадцати четырех. Одень ее в школьную форму, запросто сошла бы за десятиклассницу. Нехватку опыта и собственную неуверенность она компенсировала неумелой напускной суровостью. По-моему, русичка просто побаивалась тридцати с лишним подростков, порученных ей советской школой. Ну и мы, соответственно, платили ей той же монетой. Как теперь говорят, троллили ее: тихой сапой подначивали, выводили из себя. Больше всего в этом преуспел пацан, чья мамаша трудилась в РОНО. Он каким-то образом загодя умудрялся узнавать тему урока, пару дней капитально ее штудировал, а потом подлавливал Леську – так мы звали нашу училку между собой – на разных мелких неточностях и оговорках.
Мне тоже хотелось как-нибудь посрамить русичку в смысле эрудиции, и однажды случай представился.
Где-то в середине года мы начали проходить Шолохова. Если не ошибаюсь, «Судьбу человека». Так вот, когда Олеся Андреевна начала с упоением рассказывать, каким гением был знаменитый писатель из станицы Вешенской, меня угораздило выдать, что это еще большой вопрос, принадлежат ли перу автора все его гениальные творения.
В классе повисла тишина.
– А кто же, по-твоему, их написал? – наконец вымолвила училка.
– Кто? – я хитро оглядел опешивших одноклассников. – Крюков, вот кто!
– Какой еще Крюков? – еще больше недоуменно вытаращилась классная.
– Федор Дмитриевич Крюков, – я решил блеснуть эрудицией. – Знаменитый дореволюционный писатель!
Накануне у нас дома случилась очередная вечеринка с бабушкиными подругами, и одна из них, ведавшая в Минкульте вопросами литературы, выпив, доказывала всем, что настоящий автор «Тихого Дона» как раз тот литератор-казак, погубленный большевиками. И чуть ли не клялась, что Шолохов самолично снял полевую сумку с рукописями с убитого писателя.
– Откуда ты это взял?! – воскликнула Леська.
До сих пор не понимаю, что остановило меня тогда сказать: мол, услышал все это на семейных посиделках. Впрочем, то, что я выдал вместо этого, повергло бедную Олесю Андреевну в еще больший шок.
– Солженицын по радио говорил.
Накануне бабушкина подруга в качестве последнего неопровержимого доказательства пересказывала последний эфир «Голоса Америки», где автор «Архипелага ГУЛАГ», по мнению товарки Натальи Стефановны, не оставил от Шолохова камня на камне.
К чести Олеси, она быстро пришла в себя и перевела разговор на другую тему. Но, видимо, не удержалась и поведала кому-то из учителей о сказанном шестиклассником Вознесенским. Во всяком случае, уже к вечеру бабушке позвонила какая-то знавшая ее училка и в красках рассказала о моей выходке на литературе.
Что было дома! Когда явилась с работы мать, они с бабкой и с оказавшейся у нас в тот вечер Эльвирой Зиновьевной буквально извелись, накручивая сами себя и наперебой рассказывая, что теперь ждет и меня, и матушку, и всю остальную родню. Один только КГБ за весь вечер упомянули несчетное количество раз.
– Неужели ты не понимаешь, чем это может закончиться?! – беспрестанно восклицала мама. – Тебе же скоро тринадцать! Как же ты не подумал, что можно говорить, а что нельзя?
– Все, что сказано дома, должно оставаться тут! – вторила ей бабушка.
– Кошмар! – заходилась в стенаниях Эльвира Зиновьевна. – Вот что значит общеобразовательная школа! В нормальной к такому бы отнеслись как надо!
Под нормальной дочь сталинского наркома имела виду спецшколу для избранных. Навроде той, куда меня собирались определить после переезда в Москву. И на следующий год все же перевели.
7
– Так чем вся эта история с Шолоховым и Солженицыным закончилась? – перебил я повествование бывшего приятеля.
– Ничем таким страшным. И для меня, и для моих домашних. Они, кстати, больше всего боялись даже не пресловутого КГБ, который поминали весь вечер, а чтобы о случившемся не узнал дед. Он, конечно, был весь в работе, в науке, но уж если его реально чем-нибудь достать, то никому бы не поздоровилось. Помню я пару таких моментов, когда в нем просыпался суровый генерал? и наш Николай Павлович начинал так строить и ровнять все семейство, что по меньшей мере на неделю дома воцарялся натуральный дисбат. Поэтому и маман, и бабушка сделали все, чтобы до него даже отголосков не донеслось.
Моя Наталья Стефановна на следующий же день побежала в школу и разыграла целое кино. Дескать, накануне у нас в гостях была знакомая-литературовед и возмущалась клеветой Солженицына на Шолохова. А я услышал, но, типа, не понял, в чем дело, и решил на литературе поумничать. Бабка с воодушевлением рассказывала, как мне влетело и еще влетит от всех родных. И чуть ли не требовала беспощадно проработать внука на совете пионерской дружины. В общем, своего она добилась: меня в школе вообще не тронули и постарались забыть эту историю.
А с Олесей мы в конце концов помирились. После того как она решила поставить школьный спектакль по «Голубой чашке» Гайдара, а я сыграл там отца. Вообще-то мне хотелось уговорить ее на «Утиную охоту», но стоило только раз заикнуться об этом, как она отрезала: рано еще такие вещи школьникам воплощать на сцене. Жаль, это уже тогда была моя мечта – сыграть Зилова. Я же в десять лет именно в этой пьесе на подмостки вышел!
– Это где же? – поинтересовался я.
– Под Ухтой. Матушка, будучи натурой деятельной и неугомонной, помимо школы, где трудилась, взялась еще вести самодеятельность в батальонном клубе. В том числе и спектакли ставила. Она же в детстве тоже хотела в актрисы податься, а потом режиссерством бредила. Но не вышло, пришлось в Иняз идти. А вот когда в тайгу с мужем укатила, тогда и представился шанс поиграться в Мельпомену. Тем более что кандидатов в артисты было пруд пруди: тех солдат, кто ходил на репетиции, освобождали от хозработ. Жаль только, что большинство этих лицедеев с трудом говорили по-русски: тогда в конвое служили в основном азиаты.
Вначале маман организовывала какие-то простенькие сценки, которые сама же и сочиняла. Но потом в батальон прислали нового замполита, который окончил не что-нибудь, а Львовское политическое училище. Оно такое было единственным на всю страну, где готовили военных культпросветработников. А тамошних курсантов отбирали, как в ту же Строгановку или Щуку. Короче говоря, полноценная творческая бурса, только в погонах.
Такой вот товарищ и прибыл к нам в Локшу. До этого он был начальником дивизионного клуба, но захотел поступать в академию. Вот ему и сказали: поднимешь политработу в nьмутаракани, тогда отправим учиться дальше. Фамилию того офицера уже не помню, но звали его Романом Васильевичем.
Его жена тоже оказалась не чуждой искусству и составила моей маман компанию. Вот они и задумали замахнуться на Вампилова, на «Утиную охоту».
Дядя Рома взялся играть самого Зилова. Он, кстати, и внешне походил на персонажа из пьесы: высокий, лысоватый, с азартным блеском в глазах. Галину, жену главного героя, изобразила его супруга. Саяпиным был назначен солдат-писарь из роты отца, а его жену, властную Валерию, воплотила матушка. И хорошо они смотрелись на сцене, честное слово! Но самой большой находкой стал прапорщик с продсклада, сыгравший Кушака, начальника Зилова! Толстый, важный, самовлюбленный – думаю, сам покойный Вампилов был бы в восторге от такого выбора доморощенных постановщиков.
А я играл Витьку. Помнишь, в самом начале пьесы к Зилову приходит мальчишка и приносит ему похоронный венок? Вот мне и выпало быть малолетним тезкой главного героя: «Здравствуйте! Скажите, вы Зилов?»
Сколько мы репетировали эту сцену! Маман вошла в раж и отрабатывала со мной каждый шаг, каждый жест, каждую интонацию! Клуба нам было мало, мы продолжали повторять все и дома. Как сейчас помню: вместо кулис была печь, я выходил из-за нее, и начинался диалог.
– Здравствуйте. Скажите, вы Зилов?
– Ну я, – отвечала за главного героя мама.
Я плюхал на стул воображаемый венок и произносил:
– Вам.
А дальше мы до бесконечности обыгрывали диалог и так и сяк.
– Ты пойми, Сережа, твой герой смущается, ему неловко, – поясняла мне матушка. – Он на самом деле не хотел никуда идти. А тем более нести похоронный венок! Но, понимаешь, не мог отказать взрослым. Это как школьная линейка: тебе неохота слушать разную белиберду, которую несут директор и учителя, но тем не менее ты же приходишь и стоишь там!
Моя маман, сколько ее помню, всегда с иронией, если не с презрением относилась ко всему этому советскому официозу.
– Понимаешь, – продолжала она, – ему неудобно, и больше всего он хочет скорее уйти. А у тебя вид такой, что ты сам в сговоре со взрослыми и решил жестоко подшутить над главным героем! Постарайся, представь: это что-то вроде нудного и бестолкового пионерского поручения!
Самым нудным, по моему тогдашнему разумению, были эти ежевечерние репетиции. Но одновременно я тогда же поймал себя на том, что ловлю от этого кайф. Особенно если мне порой реально удавалось отыграть тот или иной эпизод. А еще я сам в девять лет осилил «Утиную охоту». А пьеса – это тебе не приключенческая повесть и не фантастический рассказ, едрен-шмон! Там все сухо и нудно: «Свет на сцене гаснет, передвигается круг, и сцена освещается. Перед нами новая декорация. Начинается первое воспоминание. Уголок кафе «Незабудка». На виду одно небольшое окно. Два-три столика. Видна дверь на улицу. Зилов и Саяпин усаживаются за один из столиков…». Скажи, разве может быть это интересно девятилетнему мальчишке? А мне было! Я раз сто перечитал эту пьесу и представлял, какие они: Зилов, Саяпин, Кузаков, Дима-официант…
Главный герой мне виделся совсем не таким, как в описании. Там автор сам дал его портрет: «Зилову около тридцати лет, он довольно высок, крепкого сложения; в его походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности». Мне же он представлялся рано состарившимся мужиком, который выглядит старше своих лет, притом с кучей комплексов. А своей бравадой и раздолбайством Зилов пытается доказать остальным, что он еще ого-го!
Веришь, я примерно так и думал в неполные десять.
Спектакль удался! Когда проверяющие из политотдела увидели его, то организовали гастроли по всей Коми. Я тогда впервые оказался в Сыктывкаре, где стояла дивизия. После Локши этот городишко показался мне чуть ли не второй Москвой, правда, без метро. А еще в качестве премии за роль я удостоился аж целого плеера с наушниками! Ты хоть помнишь, какой это было редкостью тогда, в восемьдесят третьем? Это сейчас у самого завалящего нищеброда есть смартфон, на котором он может хоть музыку слушать, хоть кино смотреть… А тогда, да еще в глубинке, убогая кассетная «Электроника», которая постоянно зажевывала пленку, считалась роскошью.
На следующий год политотдел решил повторить наши вояжи со спектаклями, а по весне отправить «Утиную охоту» на самый главный конкурс художественной самодеятельности – в Москву. Замполит уже видел себя в академии. Остальные тоже ждали аплодисментов и лавров, а кроме того, в очередной раз надеялись по-крупному загаситься от службы. Но для начала дяди с большими звездами из Сыктывкара поручили нам облагодетельствовать самые глухие части. В том числе и ту, что стерегла зону в Чиньяворыке. Есть такое местечко в восьмидесяти километрах от Ухты. В общем, как говорят, неделю ехать на собачьей упряжке, поскольку больше никакой транспорт не пройдет.
Колония эта славилась тем, что когда-то там оттрубил три года солдатской службы будущий писатель Довлатов. А еще тем, что в ней мотали сроки самые конченые беспредельщики.
С самого начала, как только нам объявили, что мы направляемся в эту дыру, из взрослых мало кто обрадовался.
– Говорят, там одни отморозки отбывают? – спрашивал у отца замполит, когда после репетиции они заглянули с женой к нам на огонек.
– А то, – отвечал батя. – Там у сидельцев что ни день, то разборки. Порой в месяц по десять трупов бывает. Знаешь, Роман Васильевич, как эту зону прозвали? «Дикое поле»!
– Да, там надо ухо востро держать, – соглашался дядя Рома. – Из части ни на шаг!
– Не нравится все это мне, – качал головой отец.
И чуйка его не обманула.
До зоны, где когда-то стерег заключенных знаменитый Довлатов, мы добирались целый день. Сразу же оттащили в клуб реквизит и костюмы и, разместившись в санчасти, прилегли передохнуть с дороги, поскольку спектакль намечалось давать уже этим же вечером.
Однако, когда за окном начало темнеть, в части приключился серьезный шухер. Всех бойцов подняли в ружье и отправили оцеплять зону.
– Сидельцы, что ли, забузили? – недоуменно произнес дядя Рома.
– Похоже на то, – согласился прапорщик, игравший Кушака.
Наш исполнитель главной роли отправился выяснять, в чем дело, а когда вернулся, объявил, что наше выступление отменяется. Причем вид у него был какой-то вконец ошалевший. Мы взялись его расспрашивать, но кроме того, что кто-то из зэков пытался сбежать, из замполита ничего выудить не удалось.
Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Тем более такого: через какой-то час солдатское радио донесло, что случилось.
Короче говоря, два сидельца, один, который схлопотал пятнадцать лет за убийство, и второй, отбывавший срок по той же статье, решились рвануть на волю. Вот только как? Полезешь через запретку, тебя часовой мигом изрешетит из автомата. Подкоп сделать тоже не получится – все у всех на виду. И вот кому-то из этих двоих пришел в голову такой план, что…
В общем, эти двое работали в промзоне, куда с воли часто наведывались один расконвоированный зэк и строитель из поселка. Приезжали в основном за досками, которые мастерил деревообрабатывающий цех. Так вот, собравшаяся в побег парочка выждала день, когда бесконвойник и мастер в очередной раз явятся на зону. Заманили их в гараж, долбанули каждому по башке кувалдой, а после… После отрезали головы и сняли с них скальпы!
Да-да! Оказалось, они, когда придумали свой план, сначала месяца два на кошках упражнялись. Поймают, башку отрежут и спускают с нее шкуру. Сколько они их несчастных умучили – никто не ведает. Спросишь, с какого перепугу они всю эту жуть затеяли? А с такого.
Угробив вольного работягу и бесконвойника, два этих побегушника переоделись в одежду убитых, а скальпы, промыв от крови и наскоро просушив, натянули себе на головы. Ну, типа, как маску в «Фантомасе»! И, прихватив документы и пропуска убитых, двинули на КПП. Таким образом они собирались под чужой личиной выбраться на волю.
Однако их хитроумный план полетел псу под хвост. Солдат, дежуривший на проходной, раскусил маскарад и поднял шухер. Эти драпанули обратно в зону. Пока прибежала тревожная группа, пока примчался резерв из конвойников, эта парочка успела стащить свои жуткие маски, переодеться обратно в зэковские робы и даже вымыться в кочегарке. Это-то их и спалило окончательно.
Вначале лагерники нашли в гараже убитых с отрезанными, оскальпированными головами. Тут же устроили шмон своим подопечным. Раздевали догола, искали следы крови. И только двое из нескольких сотен оказались подозрительно чистыми, словно только что из бани. А потом и на одежде одного из них нашлась пара бурых пятнышек…
Спектакль, разумеется, отменили. К рассвету на вертолете прилетело начальство из Сыктывкара, и тем же бортом, по приказу генерала, нас отправили прямиком в Локшу.
8
– Ничего себе! – я помотал головой, отгоняя жуткие картины: перед глазами так явственно стояли две оскальпированные головы. Да, умеет Серый рассказать, ему бы не в артисты надо было податься, а в писатели!
– Да, вот с этого, считай, и завершились наше гастрольное турне и репетиции, – вздохнул Нэсс. – Матушка еще несколько месяцев в себя приходила. Да и жена замполита тоже после пережитого оказалась не в состоянии изображать супругу главного героя. А потом приключилась та самая история, когда батя прилюдно отрихтовал Сивого, папашу Жеки Падунца, после чего академия накрылась не только для отца, но и для дяди Ромы! Как же, не справился с воспитательной работой во вверенном батальоне!
Так что вновь на сцене я оказался только в новой, московской школе. А потом в той, блатной, что была на Арбате, где продержался лишь год…
– Что, язык не потянул?
– При чем тут язык! По-английски я до сих пор так хаудуюдукаю, что много кому фору дам! Матушка все же Иняз закончила и поднатаскала меня в детстве. Дело в другом…
Ты хоть можешь себе представить, что такое элитная спецшкола на Арбате? Кстати, та самая, в которой лет пять назад разразился скандал! Когда журналюги разнюхали, что завуч вела шуры-муры с десятиклассницей, помнишь? Просвещала девчонку, так сказать, в лесбийских прелестях. Вот только не рассчитала, что для малолетки это как бы первое чувство и та будет шокирована, узнав, что ее обоже параллельно спит еще с одной теткой. Девка была в таком горе, что поделилась им со своей лучшей подругой. А та, в свою очередь, растрепала это старшей сестре, которая трудилась в одной скандальной газетенке. Короче, уговорили они на пару школьницу поведать о своей беде под диктофон. Ну и понеслось! Ух, чего там только не накопали! Содом и Гоморра повесились бы от зависти, узнав, что творится в элитном московском лицее!
Тогда, в восемьдесят шестом, там, конечно же, до такого не доходили. И все равно мир, точнее, мирок, царивший в стенах этого заведения, был совсем другим, нежели в обычной школе. Помнишь, как в «Мертвых душах», когда в доме у Собакевича все, от дрозда в клетке до последнего стула, напоминало хозяина дома. «Стол, кресло, стулья – все было тяжелого и беспокойного свойства, – словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!.. И я тоже очень похож на Собакевича!». Вот и там все старались походить на директора, этакого моложавого долговязого хлыща, с вечно наклеенной улыбкой. Он нисколько не напоминал прежних директрис, что в Локше, что на Октябрьском Поле. Те были степенные, важные тетки, и даже походка что у той, что у другой была вальяжная, начальственная. Этот же двигался стремительно и при каждом шаге, казалось, извивался, как змей. Я поначалу гадал, кого он мне напоминает, и вспомнил: Рейгана, едрен-шмон! Мало того, что лицом почти один в один, так еще и манеры, и повадки были, как у тогдашнего заправилы Белого дома!
Когда мы с маман ходили на собеседование, то наткнулись на него в вестибюле. Был ли он заранее предупрежден, что сейчас в его владения заявится новичок с родительницей, или же просто случайно пробегал мимо входа, но, завидев нас, директор остановился, шагнул навстречу, пожал мне руку и со словами «Велком! Велком, май френд!» ухватил под локоть и провел пару метров по ковровой дорожке. Ну чисто как Рейган на первой встрече с Горбачевым!
К тому времени мне уже пошили школьную форму. Да-да, это в обычных среднеобразовательных бурсах было все просто: поехал в «Детский мир» и выбрал себе по размеру кургузую синюю курточку и брюки. А в спецшколе для мажоров такое не прокатывало! Нет, ребята, конечно, носили форму, куда деваться! Но и пиджак, и брюки с положенными металлическими пуговицами были не покупные, а сварганенные на заказ. Из дорогого и добротного материала, лишь по цвету напоминавшие то, что предписывалось носить Министерством просвещения. Вдобавок мне достали супердефицитные в ту пору настоящие американские «вранглеры» и две куртки: замшевую и кожаную. Чтобы я не уступал в прикиде своим будущим соученикам.
А еще перед тем как отправить грызть гранит науки на Арбат, меня два вечера подряд инструктировали маман с бабушкой, чтобы я ни в коем случае не рассказывал про то, что мой отец охранял зону! Вначале вообще хотели представить дело так, что мой фатер не военный, а трудится во Внешторге: как раз перед этим матушка спешно выскочила замуж за родственника каких-то друзей семьи, того самого дядю Женю, Евгения Ростиславовича. Но потом, посовещавшись, решили, что я по-любому проболтаюсь про житье-бытье в Коми, и в конце концов постановили: мы действительно жили в тайге, но мой батя был не конвойником, а ракетчиком. Но это все в прошлом, поскольку в семье у нас теперь новый папа, не чета старому!
Первого сентября перед линейкой классная, как водится, представила меня моим новым соученикам. Три десятка глаз придирчиво осмотрели мою персону, после чего русоволосый пацан, чем-то похожий на Иванушку из старого фильма «Василиса Прекрасная», снисходительно произнес: «Велком!»
Помнится, я офигел от того, что, когда закончился официоз и мы отправились покорять знания, на входе в вестибюль мои одноклассники как по команде стали срывать с себя пионерские галстуки! В прошлых школах не дай Бог тебя увидят без частицы красного знамени на шее – в лучшем случае отчитают. А тут сам директор с завучем стоят и, как ни в чем не бывало, улыбаются, будто так и надо!
Новые сотоварищи устроили допрос на первой же перемене. Вел его тот самый пацан, похожий на сказочного Иванушку, – Борька Милюков, которого все именовали Бобом на английский манер. В нашем седьмом «А» он был кем-то вроде заводилы. Папаня его был не последним человеком в МИДе, а кроме того, приходился потомком тому самому Милюкову из Временного правительства образца девятьсот семнадцатого.
Допрашивал он меня во дворе, за школой, где у учеников была неофициальная курилка. Попыхивая «Мальборо», Боб начал интересоваться, кто я, откуда, где раньше жил и постигал знания. Когда он услышал про отца-ракетчика, сидевшего на точке в тайге, то брезгливо скривился. Точно такое же выражение я заметил на лице еще пары ребят и дерганой девчонки с большими шалыми глазами. Не вызвало интереса и то, что их новый соученик – внук академика Юрасова. А вот то, что моя бабка подвизается в министерстве культуры, а отчим во – Внешторге, смягчило лица одноклассников, а та глазастая даже глянула с приязнью. Потом меня долго пытали о музыке, которую слушаю, и, как я понял, признали хоть и отсталым, но небезнадежным.
Во многом так посчитали благодаря заступничеству Элины Канторовской – так звали ту тощую девку, курившую вместе с нами. Оказалось, я ей чем-то приглянулся. Об этом она сама сообщила мне, когда спустя полгода у нас случился роман. Эля была тоже не из простых: со стороны отца приходилась правнучкой пламенному революционеру Карлу Радеку, а бабушка ее по матери была известная в ту пору художница.
Кроме родичей, Канторовская была знаменита и тем, что с ранних лет сочиняла стихи. Родители и учителя пророчили ей славу Ники Турбиной, которая тогда, как теперь говорят, была в тренде среди вундеркиндов. Вот и Элинкой восхищалась вся тогдашняя околотворческая интеллигенция. Особенно стихом под названием «Убийство мира»:
Из этих я добыла строк
Свой страх нерукотворный
И в сторону глухих дорог
Убила мир покорно.
Лежал он с волчьей ягодой в зубах,
Как мальчик с ядом на губах…
– Гениально! – наперебой восклицали взрослые. – Какая философия! Какой подтекст! Девочке прямая дорога в литературу!
Сама же Элли – так она именовала себя тоже на английский манер, – призналась мне, что мечтает поступить не в Литературный, а во ВГИК.
Но это случилось позже. А пока я осваивался в новой компании, которая напоминала мне то ли тайный кружок, то ли революционное полуподполье. Во всяком случае, семиклассники на полном серьезе обсуждали происходящее в стране и даже строили прогнозы. Наверное, со стороны это выглядело смешно и нелепо: стоят такие шпингалеты и прикидывают, выживет ли Горбачев Лигачева и усидит ли во главе Московского горкома Ельцин, над которым в то время стали сгущаться тучи. Понятно, что они попросту пересказывали то, что слышали дома от взрослых. А если учесть, что те были людьми, приближенными к верхушке, то предположения насчет будущего оказались впоследствии более или менее верными.
Впрочем, если отпрыски партийных шишек всего лишь играли в больших дядь и теть, степенно, с иронией прохаживаясь по кремлевским воротилам, то мажоры из числа детей актеров и других небожителей выдавали порой такое! Особенно два закадычных друга – Влад Савельев и Русик Златкин.
Владик – рослый здоровяк, выглядевший в свои четырнадцать старше как минимум года на три-четыре, был сыном директора самого крупного и крутого издательства «Книга СССР», мама же трудилась главредом другого – «Зарубежный фолиант». Дома у них перебывала вся творческая знать, причем не только писатели, но и артисты с режиссерами. Во всяком случае, он то и дело притаскивал фотки, на которых был запечатлен с разными знаменитостями, в том числе и с известной и самой модной в то время певицей.
Златкин же был внешне полной противоположностью своему приятелю: маленький, с узкими плечами и большой бабьей задницей, с выражением вечной злобной обиды на маленьком носатом лице. Его папаша преподавал в консерватории, а мать подвизалась в музыкальных критиках. Кроме того, Златкин приходился, кажется, внучатым праправнуком Иде Авербах, жене наркома НКВД Ягоды, которая, в свою очередь, была родной племянницей самого Свердлова. Об этом он как-то обмолвился сам.
На перекурах за школой Влад со Златкиным частенько предавались мечтаниям. И не о чем-нибудь, а о переустройстве страны.
– Реально всю эту Азию – на фиг! – разглагольствовал Савельев, крутя в пальцах тлеющую сигарету. – Кормить еще этих чернозадых! Пусть свой хлопок хавают!
– Ништяк, – кивал Русик. – Пинком под зад. И Кавказ тоже.
– А вообще и Сибирь с Уралом на хрен не уперлись, – продолжал двигать мысль Влад. – Как и Поволжье с разными татарами-башкирами. У нас дома с батей недавно один историк бухал. Так он сказал, что самое лучшее время было – это Новгородское вече. Когда все отдельно и каждый сам себе хозяин.
– Верняк, – подтверждал Златкин. – А я бы вообще Кремль на фиг взорвал, а вместо него построил охрененный Диснейленд!
Правда, такими отважными они были не всегда. Как-то мы дымили на заднем дворе, когда к школе подкатила серая «Волга». Оттуда вышел полноватый дядечка в костюме и, прострелив двор цепким, запоминающим взором, уверенно вошел в вестибюль.
– Кажись, из Конторы, – приглушенно произнес Савельев, проводив незнакомца настороженным и испуганным взглядом. Вслед за ним в страхе замолкли и остальные.
Конторой в ту пору называли КГБ.
Не только наша компания обеспокоилась появлением неизвестного товарища в костюме. Когда мы вернулись в стены бурсы, в коридоре стоял встревоженный директор и смотрел на дверь канцелярии, где, очевидно, скрылся пришелец.
Потом выяснилось: мужик и впрямь оказался при погонах. Но не из госбезопасности, а с Петровки. Кажется, он был замначальника столичного ОБХСС, приходился дядей школьной секретарше и, оказавшись рядом, заехал к племяннице по какому-то делу. Но тем не менее даже я, пацан-семиклассник, запомнил, как и учителя, и ученики стали с опаской поглядывать на родственницу человека из органов.
Впрочем, это событие я быстро забыл, ибо в моей жизни появилась Элли, Элинка Канторовская.
Впервые она серьезно заинтересовалась мной, когда мы играли в «Ромео и Джульетте». Пьеса ставилась, разумеется, на языке Шекспира. Вначале мне досталась роль Балтазара, слуги Ромео, а самого отпрыска семейства Монтекки должен был играть парень классом старше. Нет, язык он знал не в пример мне, но вот актер из него был никакой. Стоило мне несколько раз показать ему, как должен произносить тот или иной монолог его персонаж, – и завуч, которая ставила спектакль, отдала главную роль мне. А Джульетту… Джульетту, как ты уже догадался, играла Элли.
Вот тогда-то между нами и заискрило. Причем это нисколько не напоминало то чувство, какое я испытывал раньше, еще в Локше, к хорошенькой однокласснице. Да и та была совсем другой: молчаливой, тихой, вечно задумчивой. Мне тогда просто хотелось как можно подольше быть вместе, дышать одним воздухом, запомнить себя рядом с ней.
Здесь же все было абсолютно по-другому. Элли я тупо хотел, как хочет обуреваемый гормонами подросток неполных четырнадцати лет. Тем более она сама вешалась мне на шею, при встрече и на прощание могла запросто чмокнуть в губы. Особенно долгими эти поцелуи были после репетиций. А когда под Новый год с блеском состоялась премьера, где кроме начальства из РОНО были и гости из МИДа, который как бы шефствовал над школой, – сам директор разрешил юным актерам не приходить в школу два дня, оставшиеся до каникул. Вот тогда-то все и случилось.
Родители, в свою очередь, решили по-своему наградить чад за триумф, отпустив нас праздновать сценический дебют домой к Бобу. С ночевкой. Для обычной школы это было бы возмутительно, если учесть, что нам в ту пору было по тринадцать-четырнадцать лет! Но для отпрысков элиты, в отличие от быдло-пролетариата, как именовали остальных мои одноклассники, имелись послабления. И вечером, как сейчас помню, это было двадцать пятое декабря восемьдесят шестого, мы собрались на хате у Милюкова.
Родители его который год обитали в загранке, а за ним приглядывала бабка, этакая молодящаяся особа лет под семьдесят. Впрочем, ну как приглядывала: несмотря на свой преклонный по нашим меркам возраст, она все еще пыталась устроить личную жизнь после смерти мужа и поэтому внуком почти не занималась. Вот и в тот вечер госсматерша Боба накрыла стол и укатила к кому-то на дачу, то ли к подруге, то ли к кавалеру.
Обычно, собираясь у Борьки, мы смотрели по видаку разные заграничные фильмы. В том числе и запрещенную у нас в Союзе «Греческую смоковницу», от которой потом я не мог заснуть несколько ночей. В этот же раз, когда нас собралось трое пацанов и столько же девчонок, репертуар оказался куда круче.
Сперва, как водится, мы нахлестались заграничного «Мартини», а потом Боб сунул в видак кассету. Вначале на экране замелькали виды летнего Майами, по которому, поднимая белоснежные буруны волн, летел катер. Следом возник пляж, где расположились в различных соблазнительных позах штатовские девы в едва заметных купальниках. И спустя пару секунд камера показала трех совершенно голых баб, идущих окунуться. Причем оператор намеренно задерживал объектив на каждой из сокровенных женских достопримечательностей. И это было только еще на фоне титров.
А дальше начался сам фильм. Каждая сцена изобиловала такими подробностями и деталями, показанными крупным планом, что поначалу я почувствовал тошноту вместо возбуждения. Это была самая настоящая жесткая порнуха. Неудивительно, что все мы уже после первой сцены изрядно завелись и потихоньку, парами начали покидать гостиную. До финала досмотрели только мы с Элли. И то потому что вначале она сомлела от выпивки и очухалась ближе к концу фильма. А я… Потому что просто не знал, что делать. Зато ведала Элинка, выкарабкавшаяся из хмельного сна и быстро овладевшая мною.
Все произошло бурно и практически стремительно.
– Ты что, еще девственник? – поинтересовалась одноклассница, закуривая. – Правда? Во прикол!
Сама же Элька, неделю назад отпраздновавшая четырнадцатилетие, как выяснилось, обладала опытом, которому позавидовали бы взрослые. Впрочем, не она одна: подобный «анамнез» в нашем классе был почти у всех. Как говорится, продвинутой школе – продвинутых учеников. Во всех отношениях!
С того вечера я стал постигать постельные премудрости под чутким руководством Элли. Все зимние каникулы мы только и ждали момента, когда ее бабка-художница слиняет куда-нибудь и квартира в новостройке на Калининском будет в нашем полном распоряжении.
Что смотришь, осуждаешь? А ведь признайся, ты-то в тринадцать-четырнадцать лет разве не мечтал о взаправдашнем сексе? То-то, едрен-шмон!
Я в ту пору не представлял себя без Элли. Всерьез думал, что после школы мы поженимся, и тогда наши плотские восторги соединятся в счастливую бесконечную цепочку. Чем однажды поделился с ней, когда мы отдыхали между телесными безумствами в ее комнате.
– Ну ты гонишь! – расхохоталась она в ответ. – Поженимся… Обалдеть!
– Ну че ты, в самом деле! – ее смех породил в душе колкую обиду.
– На фиг это нужно! Это только здесь, в совке, этим заморачиваются. Вон, в загранке уже давно все свободно встречаются. Сегодня сошлись, завтра – разошлись, захотели – опять стали вместе, – одноклассница явно повторяла услышанное от взрослых, копируя вплоть до интонаций. – А тут неженатых даже за бугор не выпускают! Отстой!
– И че хорошего в этом?
– В чем? В том, что загранка не светит?
– Не…
– А, ты вот про что… Так постоянно с одним и тем же трахаться офигеешь!
– Угу… – промычал я в ответ, через силу изображая согласие.
На самом деле мне было настолько тошно, что я чуть не разревелся. А ведь понимал, что у Эльки я не первый. И не второй, и, скорее всего, даже не десятый! Наверное, просто гнал от себя такие мысли. Подобное состояние уже случалось со мной года три назад, когда в Локше из соседней колонии в побег рванули сразу четверо сидельцев. Причем ушли, зарезав двоих солдат и забрав автоматы. Тогда нас всех заперли по домам, отцы ушли шерстить тайгу, а матушка с женой старшины батиной роты все переживали, что тем зэкам терять нечего и они будут биться до последнего. А я, чтобы не думать о том, что папу могут убить, внушал себе, что этих отморозков обязательно если не наши застрелят, то сожрут волки. Кажется, у психологов это называется защитным барьером…
Вот такой я и выставлял, когда нет-нет, да и закрадывалась мысль насчет Канторовской и ее похождений до меня, а возможно – и параллельно со мной. Помню, однажды мы курили на перемене с Бобом, и он, как бы между делом, бросил:
– Элли герла четкая. В койке любого утомит!
– В смысле? – поначалу не понял я.
– В смысле, ей все мало. А как она орет во время этого дела: «Move it! Harder! More!»
Но и тогда я сделал все, чтобы пропустить все это мимо ушей, и главное – мимо сознания. Как же все-таки мы любим обманываться! И не только в детстве. Но, как говорил Анисимов: «Иллюзии рано или поздно рушатся вдребезги, столкнувшись с реальностью!»
Это столкновение и произошло благодаря Савельеву. Тогда, весной восемьдесят седьмого, намечался очередной сейшен у Боба, куда меня почему-то не позвали. Это и озадачило. А нехорошие предчувствия появились, когда случайно услышал, как Влад и Милюков обсуждали будущее мероприятие.
– У меня камера есть, – говорил Милюков.
– И я свою принесу, она почти что профессиональная, – отвечал Савельев. – С тебя только чистая кассета, а лучше две, ну чтобы про запас. А еще надо бы… – тут он заметил меня и замолчал.
«Интересно, что они там затевают?»
Выяснилось это очень скоро. Наверное, это и стало началом того, что впоследствии маман с бабушкой назвали катастрофой. Да еще обвинили в этом не кого-нибудь, а моего отца…
9
Нэсс замолчал, затем выбрался из-за стола и торопливо пошаркал в сторону туалета.
Следом поднялся и я, чтобы размять затекшую поясницу. За окном уже сияло солнце. Золотистый луч застыл отблеском на громоздившейся у подоконника причудливой когтеточке, чем-то похожей на цветок-вьюн. Столбики, обмотанные прочными, с пропиткой веревками, сменялись извилистыми тоннелями, лесенками и заканчивались наверху шикарным лежаком. Внизу, в основании, был не менее добротный и нарядный домик, обшитый каким-то дорогим материалом, напоминавшим бархат. Присев, я провел ладонью по мягкой, нежной поверхности – и тут же ощутил укол в районе запястья: кот, неслышно приблизившись, упер в мою кисть переднюю лапу и слегка выпустил когти. Зеленые глаза смотрели то ли сердито, то ли обиженно.
– Мря-а-ау!
Я убрал руку, и зверь тут же сменил гнев на милость, поощрительно потеревшись о ноги.
– Общаетесь? – появившийся в дверях Серый умильно уставился на своего любимца.
– Можно и так сказать, – отозвался я, растирая место, задетое Лоренцо. – Потрогал вот когтеточку, а он возмутился.
– Да, он такой, собственник. Не оцарапал, надеюсь?
– Нет, только уколол. Как выражается моя жена: когтистой лапою злодея…
– Точно! – Нэсс неожиданно хлопнул себя по лбу и метнулся к письменному столу.
Дернул ящик. Вытащил на свет пластиковую аптечку. Извлек оттуда маленький стеклянный тюбик. Откупорил, сунул внутрь шприц-ручку. Аккуратно сцедил пару капель и, задрав майку, воткнул в живот.
С минуту он сидел, прикрыв глаза, как наркоман, ждущий, пока доза всосется в кровь и унесет сознание в обители вечного кайфа. Затем встряхнулся и посмотрел сначала на кота, а затем и на меня, одновременно виновато и благодарно.
– Вот и не верь после этого в мистику. В то, что все в жизни предопределено свыше. Не встреть я тебя, однозначно бы запамятовал. Пришел бы из магазина, принял свои триста и завалился спать. И все…
– Что «все»? Ты на иглу подсел, что ли? – попробовал пошутить я.
– Ага. На инсулиновую. У меня же диабет. Доктора предупреждали, чтобы инъекции ни в коем разе не пропускал. Иначе сахарная кома… Ладно, давай за тебя, – Серый вновь спешно наполнил рюмки. – И за его высочество, – он погладил кота, который уже занял на софе свое место рядом с хозяином. – Если бы не вы – может, и не дожил бы до утра… Блин, совсем забыл! – он виновато обратился к питомцу. – Я же тебе вкусняшку прикупил.
Лоренцо, словно понимая, о чем идет речь, встрепенулся и поскакал в сторону кухни. Туда же заторопился и его то ли владелец, то ли вассал.
Некоторое время в комнату долетало требовательное мяуканье. Наконец неразлучная парочка появилась. Кот, продолжая протяжно орать, поставил передние лапы на стол, не сводя взгляда с рук хозяина, которые распечатывали упаковку вяленых колбасок. Пододвинув пустую тарелку, Вознесенский начал их поспешно крошить туда, одновременно мягко отстраняя зверя, которому не терпелось наброситься на вожделенное лакомство.
– Ну все, вот теперь давай, ешь, – проговорил Серый, отстраняясь, и тут же, спохватившись, извиняюще глянул на меня. – Ничего, что я так?
– Ладно уж, – я великодушно махнул рукой, наблюдая, как усатый, забравшись передними лапами на стол, с громким урчанием поглощает гостинец. – У самого двое котофеев. Правда, я своим никогда такого не позволяю.
– Да, наверно, так и надо, – не стал спорить Нэсс. – Только мне давно уже трапезу разделить не с кем. Никого не осталось, только вот он, – в который раз бывший приятель с нежностью посмотрел на кота. – Ну что, Лори, за тебя! – он снова опрокинул рюмку и замер в предчувствии новой волны алкогольной нирваны.
С минуту он молчал, блаженно прикрыв глаза, а затем оживился вновь.
– О чем я давеча говорил? Ах, да, что все предопределено свыше! Вот смотри: разминулись бы мы с тобой сегодня хоть на полминуты – и не попал бы ты сюда, не полез смотреть когтеточку, не задел тебя Лорик когтем… И ведь ты не сказал «цапнул», а именно – «уколол»! И только тогда я вспомнил об инсулине. Так и в остальной жизни… Если бы я не сбежал из той блатной спецшколы на Арбате, моя жизнь однозначно бы повернулась по-другому. И притом далеко не в лучшую сторону. А виной моего ухода стала не кто-нибудь, а Элли, моя первая и на тот момент единственная женщина.
Помнишь, я рассказывал про то, как у Боба по весне замутили тусовку, а меня не позвали? Так вот, я уже успел позабыть про ту вечеринку, но однажды Элли сама проболталась про нее. И не просто проболталась, а, как у вас, ментов, говорят, предъявила неопровержимые доказательства.
В тот день, а это была, разумеется, суббота, после школы мы с Элькой отправились к ней. Как водится, приняли для тонуса, включили видак и вскоре стали повторять в реале то, что творили на экране актеры. А вытворяли они будь здоров чего – в этот раз порнуха оказалась забористой! Когда же в финале главная героиня стала развлекаться одновременно аж с четырьмя любовниками, Элли сокрушенно вздохнула:
– Эх, надо было кого-нибудь еще из наших пригласить!
– А ты выдержала бы? – я принял эти слова за шутку и решил поддержать ее. – Коньки не откинула бы от стольких сразу?
– Фигня! – пьяно хмыкнула подружка.
– Ну, пока не попробовала, все фигней кажется…
– Ха! – одноклассница снова осклабилась. – Думаешь, нет? На что спорим?
Не дожидаясь моего ответа, она поднялась, выползла из комнаты и спустя минуту вернулась с видеокассетой. Нетвердой рукой вставила в магнитофон, ткнула кнопку воспроизведения.
…Элька не соврала. То, что я увидел на экране, вполне могло конкурировать с заграничной порнухой. Нет, не по качеству съемки и исполнения – подростки с любительской камерой никак не могли сравниться ни с профессиональными операторами, ни с матерыми, натасканными актерами. А вот по качеству жести – вполне. В этом не уступали друг другу ни Боб, ни Савельев, ни еще двое пацанов из нашего класса и один из параллельного, вытворявшие с Элли нечто запредельное. А она лишь пьяно ухмылялась и изо всех сил старалась изобразить африканскую страсть… От увиденного меня вырвало прямо в гостиной.
Я не помнил, как оказался дома, а ведь от «Смоленской», где жила подружка, до «Октябрьского поля» надо было ехать на метро, притом с пересадкой. Как меня, пьяного вусмерть, не загребли менты, до сих пор не пойму. Мать потом рассказывала, что когда отворила дверь, я просто рухнул через порог…
Все воскресенье меня истязало похмелье. Но больше всего мучили мысли о том, как я войду в класс после того, что увидел и узнал. Я был готов убить Боба, Влада и остальных… Хотя, с другой стороны, разве Элли строила из себя верную однолюбку? Сколько раз она сама рассказывала мне про свои постельные похождения! А сколько раз подруга прозрачно намекала, что обычный секс один на один не идет ни в какое сравнение с групповухой? А тот же Милюков, разве он не давал понять, что не раз наведывался в гостеприимную Элькину плоть? И вообще, разве мы всей нашей компанией не мечтали о том, что свободные отношения гораздо лучше: ни тебе клятв, ни обязательств?
Конечно, тогда, в седьмом классе, я думал иными словами, но смысл был примерно таким.
Наутро я потопал на учебу с большим опозданием. Еще подходя к школе, я увидел Элли, которая нервно курила, явно кого-то высматривая. Завидев меня, призывно замахала:
– Хай!
Когда я подошел, она протянула мне нераспечатанную пачку «Кэмэла» – моих любимых в ту пору сигарет.
«Небось специально надыбала. Сама-то «Пелл-Мелл» курит!»
– А я, честно, чуть на измену не села, – дождавшись, пока я сделаю первую затяжку, затараторила Канторовская. – Думала, ты в реале коньки отбросишь. У тебя вид был, как у зомби из «Апокалипсиса»! И с чего бы? Ты раньше от вискаря не рыгал…
Я промолчал в ответ.
– Ты хоть как, нормально доехал? – продолжала расспрашивать меня Элинка. – Остался бы у меня, Софка все равно только вчера вечером домой пришкандыбала. А твоим бы я сама позвонила…
Софкой подружка называла свою бабушку. Вообще в мажористых семьях дедов и бабок величали исключительно по имени, как друзей-ровесников. Обратиться иначе в их кругах означало показать себя отсталым быдлом.
– Вчера тебя сильно колбасило? – стряхнув пепел, одноклассница вновь воззрилась на меня. – Дома родаки мозг не выносили?
– Да так, – неопределенно ответил я, догадываясь, что ее интересует совсем другое.
Еще минут пять Элинка трепалась о разной ерунде, время от времени бросая на меня испытующе-вопросительные взоры. Пока наконец не решилась.
– Слушай, – медленно, чуть ли не по слогам проговорила она. – Ты своим про вчерашнее не рассказывал?
– О чем? О том, что я у тебя нажрался? Или про то, что у нас еще было?
– Да это чухня! – фыркнула Элли. – А то твои не знают, что ты бухаешь и трахаешься!
– Тогда про что? Про этот, как его… Группешник?
– И он, в общем-то, фигня полная! Подумаешь… Ты, главное, про кассету никому не трепанул?
– Не…
– Фу-ух! – Элинка выдохнула так смачно, что на пару секунд ее лицо исчезло за облаком табачного дыма. – Слава Фрейду! А то я уж думала пленку по-быстрому изрезать и в унитаз на фиг. И Джона предупредить – он наверняка себе копию записал.
– Джона?
– Ну дядьку Влада. Который на «Мосфильме» работает. Он, кстати, и снимал нас на пару с Кренчем из параллельного. А потом у себя на работе с двух кассет смонтировал.
Мне снова стало дурно. Я представил взрослого, и, возможно, даже старого мужика, который запечатлевал, как куролесят малолетки. А может быть, не только снимал…
Не знаю, что отразилось на моем лице, но Элли как-то сразу подобралась и вновь вкрадчиво заворковала:
– Между прочим, Влад сначала хотел и тебя на сейшен пригласить, но я отговорила. Ты же пока, Серж, извини, не продвинутый. А еще хочешь актером стать!
– Это-то здесь при чем?
– Ну ты даешь! Ты знаешь, что артист в первую очередь должен уметь полностью раскрепощаться? Во всех смыслах! И уметь на камеру все!
– У нас вроде порнуху не снимают…
– Пока! Подожди, все о’кей будет. Совок гребаный скоро кончится!
Поразительное дело! Больше всего тогдашними порядками возмущались те, кто катался как сыр в масле. Слово «совок» я впервые услышал в доме родителей матери на Октябрьском Поле, от бабушкиных гостей. Как сейчас помню: собирались у нас в гостиной расфуфыренные молодящиеся дамочки и их не менее лощеные кавалеры. И вот, дымя импортными сигаретами и попивая редкие зарубежные виски и аперитивы, они крыли на чем свет стоит «эту страну».
Что уж говорить об английской спецшколе на Арбате! Мои одноклассники твердили то же самое, только не с брезгливостью, как взрослые, а с подростковой максималистской ненавистью.
Помню, как в начале того же восемьдесят седьмого мы смотрели у Боба «Рэмбо-2», где отважный Джон, досрочно освобожденный из тюрьмы, летит во Вьетнам и круто мочит местных, а также помогающих им советских солдат. Когда Сталлоне лихо расстреливал в джунглях русских десантников, одноклассники хлопали в ладоши и кричали: «Йес!» А ближе к концу фильма, где непобедимый Сильвестр сумел взорвать наш вертолет, все как один аж взревели и спешно полезли чокаться бокалами.
Даже тогда, в неполные четырнадцать, для меня это было как-то запредельно. А тут еще Савельев, заметив, что я не ору от радости в унисон со всеми, окликнул меня:
– Ты чего, Серж? В смысле, что такой надутый?
– Перебрал, кажись. Не надо было вискарь с бренди мешать, – соврал я.
Как же в нас живуч этот страх – оказаться не таким, как все!
И все-таки, очевидно, рубеж был пройден. Если раньше я убеждал себя, что все идет по плану, как пел незабвенный Егор Летов, что продвинутые люди и должны так мыслить и так поступать, то теперь все больше чувствовал неприязнь к школьной тусовке. Нарыв лопнул на майских праздниках, когда мы вновь собрались у Милюкова посмотреть очередную новинку, только-только снятую в Штатах. Называлась она «Рожденный свободным».
Начиналось все с вида какого-то заброшенного селения, которое тут же обозначили титрами: «Деревня Виктор. СССР». Следом начали чередоваться кадры: бежит стадо то ли лосей, то ли оленей, а перед ними по полю несется молоденькая девчонка. Судя по всему, она убегает от этих взбесившихся животных, но тут ей наперерез кидается толстый усатый мужик, валит ее, душит и добивает ножом. И сразу же после этого вновь идет текст: «Железный занавес России простирается на тысячи миль по Европе. В некоторых местах он сильно укреплен. В некоторых местах он состоит лишь из изгороди из колючей проволоки. Нередко происходят случайные пересечения границы…»
Ну а дальше пошло-поехало. Четверо друзей-америкосов, приехавших развлекаться в Финляндию, случайно забредают в лес, переходят кордон и попадают в деревню Виктор. Там они понимают, что сделали что-то не то и за нарушение границы могут оказаться в советской тюрьме, где не будет ни чипсов, ни «кока-колы». В этот-то момент их и вяжут местные мужики с ружьями и вилами. Но ведут почему-то не в милицию, а в церковь. Пленников ставят на колени и готовы вот-вот пристрелить, прямо во время службы. Но тут в храм пробирается отставший от друзей и потому не попавший в плен их четвертый приятель, вооруженный арбалетом, меткой стрелой убивает настоятеля и вызволяет дружков.
Чудеса продолжаются. В сельмаге, среди пустых банок, лихой квартет обнаруживает ящик с динамитом. В это же время в деревню Виктор прибывают военные и начинают охоту на пришельцев. Но отважные американцы, в которых русские не могут попасть, даже паля из автоматов в упор, сметают заслоны неприятеля и захватывают грузовик. Начинается погоня. Уходя от преследователей, янки вламываются на кладбище и сносят грузовиком могильные кресты. Покружив по погосту и сровняв с землей все, что только можно, четверка вновь возвращается в деревню. Швыряя динамитные шашки, они разносят село полностью: на экране видно, что все строения полыхают огнем, а на земле штабелями лежат трупы военных и местных жителей.
Победив всех, лихая четверка отправляется по направлению к границе. Но, заплутав, выходит к железнодорожной станции, которую охраняет усиленный караул солдат. Они-то и пленяют незадачливых рэмбо. А потом конвоируют их в здание, напоминающее деревенский дом культуры, на котором почему-то написано «Рабочий лагерь строгого режима имени Виктора».
Оттуда они вскоре и уходят в побег, прихватив с собой одну из заключенных девушек-сокамерниц. Но в самом конце пути, когда остается преодолеть лишь рубеж колючей проволоки, попадают в засаду. Из четверых в живых остается лишь один да его подруга-арестантка. И этот уцелевший янки начинает мстить. Громит лагерь, заодно наведавшись на склад, где захватывает целый арсенал, включая гранатометы, огнеметы и базуки. Ну а дальше начинается сущий экшен: стрельба, взрывы, погони, вокруг все полыхает, а то и вовсе рассыпается в прах, как при землетрясении. И сквозь этот кошмар, опять же на захваченной машине, лихо мчится герой-американец, тараня и снося пограничные шлагбаумы, кордоны, заставы. И в конце концов прорывается в Финляндию.
Финальные титры идут на фоне последних кадров, где отважный штатовский студент со своей подругой топают по снежному полю в заново обретенный свободный мир.
Когда кино закончилось, в глазах Элли и еще пары девчонок из нашего класса стояли слезы умиления. Да и пацаны заметно расчувствовались. Лишь меня разбирал гомерический хохот.
– Серж! С чего тебя так плющит? – вытаращилась на меня Элли.
– Это просто финиш! – кое-как отдышавшись, вымолвил я. – Такой хрени я еще не зырил!
– Ты о чем?
– Об этом, – я кивнул на экран.
– Ты хочешь сказать, что в «Рожденном» все неправда?
– Однозначно.
– Ты просто дальше Москвы не выезжал, – уверенно произнесла другая наша одноклассница. – Там везде такая жуть.
– Ха! Да я до одиннадцати лет вообще в тайге жил!
– Ну это ты пургу гонишь! Где жил, в берлоге с медведем?
– В поселке, где часть отца стояла. И еще до фига где бывал! И зоны тоже видел: их таких, как в этой штатовской лабуде, ни фига не бывает!
– А какие же они бывают? – присоединился к разговору Златкин.
– А такие! Бабы и мужики вообще в отдельных зонах сидят! И с оружием никто из охраны внутрь не ходит. Только по периметру на вышках с автоматами стоят!
– Че-то ты гонишь…
– Не гонит, – медленно произнес Боб, до сей поры молча наблюдавший за нашей перепалкой. – У него же фатер зону охранял. Так ведь, Серж?
Как раз накануне этой вечеринки в Москве проездом оказался отец. Матушка с бабкой наотрез отказались принимать его дома. Тогда батя, вызнав, в какой школе я учусь, подошел туда, подгадав как раз к концу уроков. Приезжал он, кстати, поступать в академию, куда наконец-то ему дали направление, после того как он искупил свою вину командировкой в Чернобыль. Появился в нашем школьном дворе, разумеется, в форме. И кто-то, скорее всего из взрослых, сразу определил в незваном госте по краповым петлицам и околышу на фуражке, офицера-конвойника.
– Да! Охранял! – произнес я. – И что?
Мое состояние в тот момент было как у мошенника, чей обман неожиданно вскрылся. И одновременно с трусливым стыдом меня переполняла злость: а почему я должен стыдиться, что мой батя конвойник? Не педик же, в конце концов, как старший брат того же Русика, студент консерватории, чуть ли не в открытую живущий со старым профессором?
Об этом я знал от своих одноклассников. Но если в прежней школе о гомиках говорили с отвращением, как о чем-то мерзком, то на Арбате над всеми этими добродушно и понимающе потешались. А Элли как-то и вовсе обмолвилась, что однополая склонность – первый признак таланта, если не гениальности.
– И что? – вновь повторил я уже с вызовом.
– Да так, все с тобой ясно. И с твоим ментом-фатером тоже, – уничижительно хохотнул Златкин.
Его лыбящаяся рожа окончательно добила меня.
– Лучше ментом быть, чем в зад долбиться, как твой братец! – залепил я.
Презрительные смешки и шушуканье вмиг смолкли. Одноклассники уставились на меня, как если бы я сотворил нечто запредельное. Ну, например, вышел на середину гостиной, снял штаны и справил бы нужду на глазах у всех.
Естественно, меня выставили взашей. Но этим дело не закончилось. Уже с понедельника весь класс объявил мне бойкот. Да и в школе со мной практически перестали разговаривать. Даже учителя обращались ко мне нехотя, ни разу не назвав ни по имени, ни по фамилии. И я понял, что тут, на Арбате, я больше не выдержу.
Поначалу я представлял, что как-нибудь доберусь до дедова охотничьего «Зауэра», который хранился в самом настоящем, полтора метра высотой, сейфе в его кабинете. Принесу в школу и устрою там нечто вроде американского блокбастера в реале!
Конечно, это были только мечты. На деле же я хотел попросить маман перевести меня обратно в прежнюю школу. Но тут же понял, что она выдаст в ответ: «Как ты только можешь об этом думать?! Мы сделали почти невозможное, чтобы ты учился в нормальном месте, с приличными ребятами!»
Нет. Этот вариант отметался с ходу.
А потом я понял, как смогу осуществить все задуманное. В том числе и свою жестокую месть и Бобу, и Русику, и Элли, и всем остальным.
И вот настал тот день, когда я оказался в кабинете деда…
10
Нэсс вновь замолчал, а затем в который раз наполнил рюмки.
– Знаешь, у нас в институте был такой тост: за сбычу мечт! Да-да, какой-то шутник специально придумал его так нелепо и косноязычно, – он расплылся в ностальгирующей улыбке. – Вот скажи, у тебя все получилось, что задумывал?
– Не сказать, чтобы все, но в целом жизнью доволен.
– А вот я не задумывал, а знал. Знал, что обязательно выйду на сцену. Правда, даже представить не мог, что путь туда мне проложит мой новый приятель Вадик, имеющий такое же отношение к искусству, как испанский летчик к реставрации Петродворца!
Все началось с того, что я подружился с ним с первым, когда перешел в школу на Нахимовском. Вадик меня и уговорил заниматься вместе с ним борьбой в знаменитой спортшколе в Теплом Стане. Вообще-то, туда принимали лет с десяти-одиннадцати, но приятель уломал тренера, и тот разрешил мне приходить.
Конечно, маман и отчим были не в восторге от моего нового увлечения. Но тут сказал свое веское слово дед. После того, что случилось на Арбате, он стал больше интересоваться делами внука. И даже выделил деньги на самбистскую куртку и борцовки. Кстати, и в нашей с тобой школе на Одесской улице я оказался тоже с подачи моего Николая Павловича. Когда матушка вышла замуж за своего Женю, наш академик организовал им трехкомнатный кооператив на Нахимовском. Правда, когда они надумали переехать туда вдвоем, оставив меня на Октябрьском Поле, то генерал Юрасов сразу же заявил: забирайте Серегу к себе! А то ишь, хитрые, решили его на нас с бабкой повесить!
Так я оказался вновь в «некультурном» обществе, да еще стал, как выражался Евгений Ростиславович, «хулиганом в законе». Как же, приличные дети готовятся поступать куда-нибудь типа Института международных отношений, а этот в свободное время с такими же здоровенными оболтусами друг другу руки ломают!
А мне было в кайф. До того, что я даже бросил курить. Да и разве может сравниться попыхивание едкой сигаретой с атмосферой спортзала! Когда ты, переоблачившись в раздевалке в куртку, треники и зашнуровав борцовки, спешишь на ковер. Хотя нет, вначале мы разминались наверху на тренажерах, а потом шли через «галерею красоты» – так мы назвали коридор первого этажа, с рядом зеркал во всю стену. Там, под светом люминесцентных ламп, особенно рельефно играли под кожей мускулы, и казалось, марширует этакий парад физкультурников.
Поначалу я выглядел на фоне других долговязым задохликом, но вскоре, втянувшись и начав серьезно качаться, стал не шибко заметно отличаться от остальных. Сама тренировка начиналась в шесть, но мы обычно старались прийти пораньше. Чтобы потягать гири, пожать от груди штангу, попахать на тренажерах. А потом еще два часа отрабатывать броски, захваты, подсечки и бороться до изнеможения!
Уже чуть больше чем через полгода, к концу восьмого класса, я удивил многих, в том числе и нашего физрука Матвеича. Если в начале сентября мне удалось поднять свою тушку на перекладине от силы три-четыре раза, то к маю я спокойно подтянулся аж пятнадцать раз. Дед Витя, как мы за глаза звали учителя физкультуры, аж присвистнул:
– Вот это да!
Да, занятия борьбой во многом предопределили мою судьбу. В том числе и с поступлением во ВГИК. Помнишь, в конце восьмидесятых страна праздновала пятидесятилетие Высоцкого? По телевизору постоянно крутили фильмы с ним, записи с концертов и, конечно же, спектакли. Больше всего показывали «Гамлета» и «Пугачева». Особенно монолог Хлопуши, где в ту пору еще будущий Жеглов бился среди натянутых цепей и возглашал:
…Проведите! Проведите меня к нему!
Я хочу видеть этого человека!..
Сцена была потрясающая! Я специально не раз перечитал поэму Есенина и понял, что здесь именно тот случай, когда постановка лучше литературного творения. И невольно сам мысленно не раз примерял на себя эту роль, восклицая в унисон Высоцкому:
… И холодное, корявое имя сквозь тьму
Приближал я, как хлеб, к истощенным векам…
И вот в минуты такой медитации в голове начинал созревать свой собственный сюжет этой сцены. Нет, не созревать, а, точнее, проглядывать, как мутный контур сквозь запотевшее стекло.
Окончательно он проявился не где-нибудь, а на тренировке. После разминки на тренажерах мы шествовали в борцовский зал, когда в ряды мускулистых торсов вдруг вторгся сиреневый женский костюмчик. Русичка из спортшколы была субтильной и едва достигала плеча самого низкорослого из нас, но все тотчас замерли, будто натолкнувшись на стену.
– Ну? – голос учительницы звучал одновременно требовательно и умоляюще. – Вы подумали?
– Давайте, как в прошлом году… А что, ведь классно было! – забормотали наперебой парни.
Оказалось, речь идет о грядущем праздничном вечере в честь Дня учителя. Обычно он проходил так: в актовом зале собирается вся школа, младшие читают со сцены стихи, поют хором, а под занавес старшеклассники устраивают показательные выступления с бросками и постановочными схватками.
Но русичка, прозванная учениками Дюймовочкой, которую назначили ответственной за творческую часть торжества, посчитала, что этого мало, и требовала от ребят, как сказали бы сейчас, «креатива». Вот тут-то мысли насчет новой сценки из «Пугачева» одномоментно оформились в четкую картинку.
– Есть идея! – провозгласил я, выступив вперед.
– Да? А ты кто? – уставилась на меня Дюймовочка.
Парни объяснили, что я не здешний, а из тех, что приходят исключительно на тренировки. Поначалу училка скуксилась, но когда я красочно описал свою задумку, у русички аж заблестели глаза:
– Это гениально! Шедеврально!
Моих помощников по сцене из «Пугачева» отсеивали долго и тщательно, вместе с тренером. Он сам подбирал мне партнера для каждого момента, отрабатывал с нами тот или иной прием. Дюймовочка из наставницы-режиссера постепенно превратилась в восторженную зрительницу. Она то и дело хлопала в ладоши, повторяя, как мантру:
– Шедеврально! Гениально!
На генеральную репетицию она привела с собой молодящуюся дамочку, которой постоянно комментировала все происходящее, продолжая повторять про шедевральность, гениальность и эксклюзив. Дамочка же хоть и не заходилась в ответ в восторгах, но смотрела с неподдельным интересом.
– Это обязательно должен увидеть Борислав Владимирович! Обязательно, слышишь? – то и дело повторяла русичка своей товарке.
Слух о том, что самбисты-десятиклассники готовят какой-то сногсшибательный номер, быстро распространился за пределы спортшколы, и в День учителя актовый зал был переполнен. Многие пришли с фотоаппаратами, а пара-тройка человек даже с видеокамерами, которые в те годы были большой редкостью.
Наш выход придержали под конец вечера. Занавес долго не открывали, чтобы на сцену успели постелить маты и занести декорации. Наконец длинная штора поползла вверх, и все увидели троих самбистов в полной экипировке и четвертого, раздетого по пояс, как Высоцкий в том знаменитом спектакле. Это был, естественно, я.
Двое ребят удерживали меня за плечи. Еще один встал впереди, преграждая путь. А я все рвался, хрипя, как автор «Охоты на волков»:
– Я три дня и три ночи искал ваш умет.
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль…
Мои партнеры, изображавшие сообщников главаря яицких мятежников, то и дело оттесняли меня, а под конец и вовсе навалились, заставляя опуститься на колени. До заключительного четверостишия я так и стоял и, лишь дойдя до слов: «Вот за эту услугу ты свободу найдешь. И в карманах зазвякает серебро, а не камни…», стал подниматься на ноги:
– Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж!
В этот момент я лихо сшиб подсечкой наземь переднего «казака».
– Проведите ж меня к нему!
После этих слов бросил через бедро другого. И, наконец, в унисон с заключительным выкриком:
– Я хочу видеть этого человека! – перекинул через спину третьего.
Зал взорвался аплодисментами. Мои помощники одномоментно вскочили на ноги, взяли меня за руки и повели раскланиваться, как в театре наиглавнейшую звезду спектакля – это тоже было отрепетировано не чуждой сценических тонкостей Дюймовочкой. Сразу же после нашего номера она пожаловала за кулисы вместе с приятельницей, которую приводила на генеральную репетицию, и немолодым тучным мужиком, чье лицо было до боли знакомо.
– Вот, Борислав Владимирович, это и есть наш Сергей, – торжественно представила она ему меня.
Тот вальяжно протянул руку. Пожимая ее, я ожидал, что он назовет себя, но тучный лишь окинул меня оценивающим взором и, не говоря ни слова, покинул сцену, сопровождаемый восклицаниями Дюймовочки:
– Это невероятно! Мальчик превзошел самого Любимова!
Позже русичка объяснила мне, что Тучный не кто иной, как сам Борислав Курылев – народный артист СССР, лауреат всевозможных премий и, самое главное – один из ведущих мастеров ВГИКа. И я обязательно должен попробовать поступить туда. Да, именно туда, а не в ГИТИС, куда собирался поначалу. Ибо в театральном меня никто не знает, а у себя в институте Борислав Владимирович замолвит словечко.
Дюймовочка не просто уговорила меня попытать счастья пролезть в главную кузницу киношников, но сама взялась за мою подготовку к экзаменам. Тут здорово помогла ее лучшая подруга, та самая, которую учительница привела еще на репетицию. Как выяснилось, она тоже трудилась во ВГИКе, уча будущих лицедеев сценическому движению. Через нее мне нашли нескольких тамошних преподавателей, которые взялись меня натаскивать, и практически за копейки. Очевидно, всем им в красках рассказали о моей необычной интерпретации отрывка из «Пугачева».
Маман с Евгением Ростиславовичем, кстати, поначалу поругались из-за моего выбора. Отчим считал, что учиться надо либо в МГИМО, либо, на худой конец, в другом институте, где после можно пристроиться на хлебное место с регулярными заграничными вояжами. Но матушка, сама в прошлом мечтавшая блистать на сцене, настояла на своем.
Сколько же нервов сожрало мне поступление! Среди абитуры постоянно находился тот или иной всезнайка, утверждавший, что у преподов имеется установка заваливать всех, кроме блатных, кому и без того заранее приготовлено место на знаменитой фабрике актеров. Если бы не подруга Дюймовочки, я бы точно психанул, плюнул и забрал документы. Но именно она, заметив смятение на моей физиономии, отозвала в сторонку и сказала, как отрубила:
– Запомни, дружок: если ты оробеешь или замешкаешься, особенно на экзамене по творчеству, то точно не пройдешь. Соберись и будь готов изобразить все, что угодно. И главное: не бойся!
То самое испытание, которое мы между собой называли смотринами, происходило практически как в фильме «Карнавал». Правда, передо мной, в отличие от героини Муравьевой, не восседала легендарная Лидия Смирнова, но тем не менее знаменитостей присутствовало достаточно. В том числе и моя главная надежда – Курылев.
Сперва я подумал, что он представит меня, расскажет про мой дебют в образе Хлопуши-самбиста. Но Борислав Владимирович лишь коротко глянул в мою сторону.
Допрашивать меня начали две совсем незнакомые тетки средних лет. Вначале задали дежурные вопросы, где родился, где учился и тому подобное. А потом расположившийся по правую руку от ректора актер, еще в шестидесятых ставший бессменным любимцем женщин, поинтересовался вроде как бы между делом:
– А какой из современных режиссеров, на ваш взгляд, самый гениальный?
– Из наших или зарубежных?
– Ну, допустим, из наших.
– Ростоцкий, – уверенно ответил я.
– И какие же картины он снял?
– «Дело было в Пенькове», «Майские звезды», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное Ухо», «И на камнях растут деревья», – на память отчеканил я и добавил: – И, конечно же, «Зори»… В смысле, «А зори здесь тихие» по повести Васильева, – чуть замешкался, а потом добавил, придав голосу уверенности: – Считаю, что это самый удачный фильм Станислава Иосифовича.
– Ну с этим можно, конечно, поспорить, но, как говорится, на вкус и цвет… Ладно, а какая сцена, на ваш взгляд, в этой картине самая сильная?
– Финальная. В смысле, та, где Васков врывается в землянку к немцам. Ну, точнее, его монолог.
– Монолог, говорите, – протянул актер. – Коротка, однако, его речь для монолога… А сможете эту сцену изобразить? Прямо сейчас?
И тут на меня как по команде воззрились все.
Я понял, что настал тот самый момент, когда мне надо было вмиг перенестись из аудитории в залитую дождем землянку, где перед тобой не степенные профессора, а четверо перетрусивших фрицев. Нет, уже трое, одного ты завалил последней пулей из нагана. И вот в твоих руках немецкий «Шмайссер», и ты едва сдерживаешь себя, чтобы не положить их одной очередью. За зарезанную Соню, за утопшую в болоте Лизу, за погибших Галю, Женьку, Риту…
Мне хватило пары секунд, чтобы представить себе все это, – и когда я поднял глаза, я уже не видел экзаменаторов, а лишь троих вермахтовцев. Толстого в черном мундире, молодого белобрысого и второго, чуть постарше, пытавшегося спрятаться за спинами дружков.
Я выпрямился и, колыхнув в руках воображаемым автоматом, тихо произнес:
– Что, взяли? Взяли, да?
Изобразил что-то вроде вымученной улыбки и продолжил:
– Пять девчат было. Пять девочек!
Вновь на секунду замолчал, а затем хрипло громыхнул:
– Всего пятеро!.. А не прошли вы! Никуда не прошли! – шагнул вперед и закричал, надрывая связки: – И сдохнете здесь! Все сдохнете! Лично каждого убью! Лично! А потом пусть судят меня! Пусть судят!..
Я чувствовал, как по лицу покатились слезы, и понял – получилось. Эту неполную минуту я не был Вознесенским. Я стал Васковым.
…Когда я пришел в себя, комиссия оживленно переговаривалась, то и дело поглядывая на меня.
– Скажите, а в этой картине есть, на ваш взгляд, какие-нибудь недоработки, ну, в смысле, ляпы? – неожиданно подал голос невзрачный пегий старичок, одетый, однако, по-молодежному: джинсовый блейзер, водолазка, модный платок вокруг шеи.
– К сожалению, – вздохнул я, внутренне ликуя: на этот вопрос я мог ответить более чем обстоятельно. – Возьмем, к примеру, ту сцену, которую я только что изображал. Вернее, пытался изобразить, – мне подумалось, что лучше поумерить пыл, чтобы не переиграть в самоуверенность. – Двое немцев – диверсанты как диверсанты: комбинезоны, штормовки. А третий, который постарше, одет в повседневный черный мундир, словно не по лесам лазать собрался, а на доклад к любимому фюреру!
– Резонно, – кивнул Модный.
– То же самое и в основных сценах, – продолжил я. – Девушки-зенитчицы одеты в юбки. И в них же отправляются в лес ловить диверсантов. Да такого никогда и быть не могло!
– Вы, видимо, это лично помните? – съехидничал собеседник.
– Нет, я только в семьдесят третьем родился. Но дед, который воевал, рассказывал. В том числе, что женщины никогда на фронте юбки не носили. Ну разве что где-то глубоко в тылу, в штабах. Попробуй проползи в таком виде хоть десять метров: колени до костей сотрешь!
– Резонно, – повторил дедок.
– Там еще много чего есть такого, – я чувствовал, что заинтересовал комиссию. – Неужели Васков, который повоевал еще в Финскую, не знал, что диверсанты по двое в тыл не ходят и их там должно быть как минимум человек десять? И это не простые пехотинцы, а натасканные вояки. Они бы этого старшину вместе с девчонками в момент рассчитали. А он еще хорохорился, когда докладывал майору по телефону: если что, я их сам живьем возьму! Неужели он конченый самонадеянный дурак? Хотя… – тут я опомнился. – Это вопрос не к режиссеру, а к Васильеву, автору.
– Да-а, – протянул артист – разбиватель женских сердец. – Не знаю, как насчет актерского таланта, но задатки критика в вас, молодой человек, определенно присутствуют!
Все сдержанно рассмеялись.
– Ну с экспромтом, будем считать, вы справились, – вновь Модный. – А теперь хотелось бы посмотреть вашу, так сказать, домашнюю работу. Что вы нам приготовили? Стихи? Рассказ?
– Монолог Зилова из пьесы «Утиная охота». Действие второе, картина третья.
– Хорошо. Мы все во внимании.
Я вновь мысленно перенесся из аудитории, на этот раз в типовую квартиру новостройки начала семидесятых, перед запертой снаружи комнатой. По ту сторону притаилась жена, собравшаяся уехать насовсем. А мой герой рвал и метал, стуча в дверь:
– Открой! Открой немедленно!
Отступил, набычился, ударил с разбега плечом в невидимую преграду.
– Открой! Открой – хуже будет!
Пару секунд помолчал, а затем продолжил, но уже немного сбавив тон:
– Открой, добром тебя прошу… Не доводи меня, пожалеешь!
Я вновь заколотил в дверь, потом вновь отступил, переводя дух:
– Ну ладно, открой. Я тебя не трону… А этого друга, слышишь, я его убью… Открывай! Никуда ты не уйдешь.
В дверце шкафа, стоявшего в аудитории, было различимо мое отражение: напряженные ссутуленные плечи, отчаянный взгляд, дрожащие губы, рука, судорожно массирующая левую половину груди.
– Не забывай, ты моя жена!.. Когда я услышал от тебя такое, удивляюсь, как я тебя не задушил…
Каждый раз, когда я репетировал этот монолог, Галина Зилова представлялась мне разной. Сейчас же я явно видел ее в образе моей одноклассницы в Локше. Только уже повзрослевшей и раскрасавившейся до зрелой женственности.
– Я сам виноват, я знаю. Я сам довел тебя до этого… Я тебя замучил, но клянусь: мне самому опротивела такая жизнь!.. Что со мною делается, я не знаю… Не знаю… Неужели у меня нет сердца? Да-да, у меня нет ничего – только ты, сегодня я это понял, ты слышишь?..
Когда я завершил этюд и, вернувшись, как теперь говорят, из виртуала, поднял глаза на комиссию, то, к своему изумлению и страху, не увидел на их лицах каких-то эмоций. Любимец дам что-то говорил своей соседке, начинающей полнеть даме средних лет. Джинсовый старичок уставился в окно. И даже Курылев, на которого я рассчитывал, с отстраненным видом перебирал лежащие перед собой бумаги.
– Да, какой у нас затейник Зилов, – наконец нарушил тишину Модный. – Почти как самбист Хлопуша!
Все разом заулыбались, и до меня наконец-то дошло, что Борислав Владимирович заранее показал им кассету с того вечера в спортшколе. А еще я понял, что непременно поступлю.
Так оно и оказалось.
11
– Ну что, давай, что ли, за былое? – Серый вновь наполнил рюмки. – За те годы, когда жизнь казалась счастливой и бесконечной!
Кот, бросив взгляд на хозяина, коротко мяукнул, словно соглашаясь. Полосатый так и продолжал сидеть на краю тахты, с навостренной мордой, будто вот-вот собирался протянуть лапу и положить себе закуски.
– Знаешь, – отдышавшись после очередной порции огненной воды, заговорил бывший приятель. – Из тех дней у меня в памяти осталось лишь два момента: когда я проходил творческое испытание в первом туре и когда увидел себя в рядах зачисленных на первый курс. В тот миг мне хотелось возлюбить весь мир, с его вечным несовершенством и заподлянками! Списки вывесили на улице, и мы, те немногие счастливчики, буквально визжали от радости. Даже Элли, словно забыв о том, что я натворил в конце седьмого класса, радостно повисла у меня на шее! А ведь, когда мы увиделись перед вступительными, моя первая женщина лишь холодно кивнула…
Кстати, для меня до сих пор загадка – с чего ее все же понесло во ВГИК? Ведь к тому времени она считалась более или менее известной юной поэтессой. Стихи Элинки уже не раз печатали, в том числе и за границей, а знаменитых «Русопятых шавок» бывшей одноклассницы часто цитировали разные «совести нации» вроде Новодворской.
Хлеб – ваше богатство?!
Хрен вам по всей вашей морде!
Ваше богатство – горбатство,
Всех упырей упертых!
Ваше богатство – сука,
Подло стрельнувшая в спину,
Свободу и вольность духа
Вздернули вы на осине!
Вам бы, мразям и гнидам,
Тявкать на всех из-под лавок,
Такая вот ваша планида
Всех русопятых шавок…
Кстати, как потом призналась сама Элли, под сукой, стрельнувшей в спину, она подразумевала меня. Точнее, ту мою выходку в конце седьмого класса…
– Кстати, ты так и не рассказал, что учинил на Арбате, – перебил я рассказчика, готового вновь погрузиться в пучину воспоминаний. – Неужто все-таки добыл дедово ружье и устроил в школе шухер?
– Почти, – губы Нэсса растянулись в кривой усмешке. – Хотя, думаю, если бы меня угораздило прийти туда со стволом и начать шмалять по тамошним обитателям, для них этот вариант однозначно оказался бы лучше! Сам представь: ну упаковал бы «Зауэр» в гитарный чехол, довез как-нибудь до Арбата, собрал бы при входе, пальнул бы пару раз… Вряд ли я кого-нибудь серьезно зацепил бы, ведь мне стрелять-то и не приходилось. Нет, моя месть была куда изощреннее!
После того как я стал, как теперь говорят, «нерукопожатным» среди одноклассников, у меня осталась кассета «Конана-Варвара» со Шварценеггером в главной роли, которую брал посмотреть у Элли. Вот когда возвращал ее, мне и удалось осуществить свой коварный план.
Накануне я подошел к Элинке на перемене и сказал, что хочу вернуть фильм. Она холодно обронила, что можно заехать к ней сегодня. А дальше все было делом техники: позвонив в дверь и шагнув в прихожую, я попросился в туалет. Бывшая подруга, разумеется, смилостивилась и позволила мне сходить «до ветру». Оказавшись в сортире, я аккуратно открыл шкаф, где семейство Канторовских, как и остальные, хранило стиральный порошок и прочую бытовую химию. Там-то, наверху, на полке перед вытяжкой, Элли и прятала кассету с записью групповухи. Мне хватило от силы минуты две, чтобы слазить туда, достать и сунуть компромат за пазуху.
Еще до осуществления своего замысла я подумывал подбросить кассету ментам или вовсе в КГБ. Но, поразмыслив, понял, что так ничего не выйдет. В те годы в отделениях милиции не было видеомагнитофонов, и они могли просто выкинуть пленку, так и не посмотрев. А уж на Контору у меня, разумеется, не было никакого выхода. Зато в моем окружении был человек, который регулярно имел дело с госбезопасностью. Вот ему я и поведал про все.
В тот день маман с бабушкой отправились на премьеру «Брестского мира» в Театр Вахтангова. Помнишь, был такой спектакль по пьесе Шатрова? Его еще называли прорывом в искусстве. Суть этого, с позволения сказать, «прорыва» состояла в том, что худрук Михаил Ульянов, игравший на сцене своего легендарного однофамильца, был без грима. Да, никакой тебе накладной лысины, бородки и хрестоматийного ленинского галстука в горошек. Даже манера говорить у главного героя была без исторической картавинки. В этом, как потом писали театроведы, «прослеживалось явное веяние скорых перемен не только в искусстве, но и в стране…» И точно угадали, нострадамусы доморощенные!
В этот вечер я и зашел к деду. Мой академик и генерал, как всегда, изучал какие-то бумаги. Поначалу он с прохладцей отнесся к моему появлению, не желая отвлекаться от своих научно-государственных дум, но по мере моего рассказа его рассеянный взгляд прояснялся, а равнодушное лицо становилось жестче.
Мое повествование выглядело так. Я поведал, что меня пытались втянуть в групповуху. Причем не просто, а под видеокамеру. И втравил в это дело школьников не кто-нибудь, а тридцатипятилетний дядька моего одноклассника Савельева, работавший на Мосфильме. Когда же я наотрез отказался и поругался с будущими участниками этого действа, мне объявили бойкот. А еще, чтобы доконать окончательно, показали мне кассету, где была записана оргия с моей девчонкой.
– Короче, стопудово хотели, чтобы я на себя руки наложил, – закончил я свой рассказ, а потом добавил отчаянно и твердо: – В общем, я больше в эту школу не пойду. Хоть убейте, не пойду!
Дед помолчал, а затем отрывисто бросил:
– Иди к себе!
А сам, взяв принесенную мною кассету, оправился в гостиную, где был видеомагнитофон.
Дед пробыл там от силы минут пятнадцать. И по тому, с каким лицом он покинул большую комнату, мне стало ясно: сработало!
Когда же из театра вернулись мама с бабкой, то генерал Юрасов не дал им даже переодеться. Выйдя в коридор на их голоса, он холодно отчеканил:
– Зайдите ко мне. Обе!
Как же мне хотелось присутствовать при этой экзекуции! Эти сорок минут, что пробыли у деда Стелла Николаевна и Наталья Стефановна, я тихо фланировал мимо кабинета, но так ничего и не уловил. Не выдержав, осторожно, на какие-то пару секунд приоткрыл дверь: обе стояли буквально навытяжку перед восседавшим за столом отцом и мужем, понурые и испуганные.
Поначалу я опасался, что они, выйдя от деда, устроят мне разнос за то, что наябедничал. Но, видимо, мама с бабушкой получили такой втык, что даже укоризненно не глянули в мою сторону. Лишь Стелла Николаевна робко поинтересовалась, поужинал ли я, и попросила не засиживаться допоздна.
…Не знаю, какие рычаги привел в движение мой грандфатер, кого напряг из влиятельных знакомых, но в спецшколе на Арбате я больше не появился. Мне автоматом выставили годовые и четвертные оценки, а за документами ездила матушка.
Прилетело стараниями деда и обитателям колледжа. Директор тихо ушел «по собственному», а Джона, дядьку Савельева, не пустили за границу, куда поначалу он должен был ехать со съемочной группой. Ну и домашние моих бывших одноклассников с той поры стали меньше закрывать глаза на похождения своих чад. Во всяком случае, традиционные групповухи на некоторое время прекратились.
Об этом мне рассказала Элли, когда мы всей компанией новоиспеченных студентов отмечали наше поступление во ВГИК. Поведала бывшая одноклассница и о том, что Боб и остальные долго ждали, когда я появлюсь в школе, чтобы накостылять. А выяснив, что меня по-тихому перевели в другую, хотели наведаться и туда. Продвинутый Влад даже предлагал нанять какую-нибудь шпану, чтобы те расправились со мной. Но потом тот самый Джон с «Мосфильма» отговорил бывших одноклассников от этой затеи, напомнив, что мой дед самым тесным образом связан с Конторой.
Дядьку Влада послушались. Как я уже рассказывал, многие из ребят приходились потомками некогда всевластным и влиятельным людям, которых Контора в одночасье низвергла в застенки ГУЛАГа.
Элинка, кстати, ко времени нашей новой встречи не держала на меня обиды. Когда мы, под утро отколовшись от основной компании новоиспеченных вгиковцев, прихлебывали портвейн на Чистых Прудах, она, положив мне голову на плечо, ворковала про то, как счастлива, попав именно к тому мастеру, к которому хотела. При этом она называла меня «Сержем» с той же нежной интонацией, как и три года назад.
Впрочем, это мало волновало меня. За те годы я успел несколько раз влюбиться и разлюбить, и эти увлечения, подобно волнам, вымыли из сердца остатки чувств к Элли. Но тем не менее я заметил, как изменилась бывшая возлюбленная. Нет, ясен перец, она стала взрослее, окончательно превратившись из подростка в полноценную девушку. Вот только ее прежняя худоба и угловатость стали еще заметнее, а в глазах появился какой-то нездоровый блеск. Именно тогда у меня возникли первые подозрения. Которые подтвердились в ту же ночь.
Вначале Канторовскую стало клонить ко сну. Все чаще она отвечала с задержкой, невпопад, а затем и вовсе замолкла, прикорнув у меня на плече. И очнулась, лишь когда я неловко полез в карман, чтобы достать сигареты.
– Блин! Я что, отрубилась?
– А то! Сколько выхлебала-то, едрен-шмон!
– Ничего, ща взбодримся!
С этими словами она полезла в сумочку и вытащила пипетку, заполненную каким-то порошком. Поднесла к лицу, зажала одну ноздрю, другой резко вдохнула.
Когда Элька открыла глаза, в них начисто исчезла сонливость и появился лихорадочный блеск.
– Порядок!
– Это что? – кивнул я на пипетку.
– Нюхательный табак! – хохотнула бывшая одноклассница.
– Серьезно?
– Аж два раза! Серж, ты че, совсем лоханулся, когда от нас свалил?
– Ты хочешь сказать, что это кокс?
В ту пору я уже был наслышан про наркоту, и хоть сам не пробовал, но разбирался в ее разновидностях.
– Ну хоть понятия остались, – Элли быстро протерла опустевшую пипетку платком и кинула в урну. – Соображаешь малек!
– Ты совсем крезанулась?!
– Сам ты крезанулся! Думаешь, я бы прошла хоть первый тур, если бы не «кайфолов»?
«Кайфоловом» в ту пору называли кокаин.
– А не боишься коньки с этого откинуть?
– Еще один нашелся! Наслушался разных совковых дебилов! Да у нас к выпускному почти весь класс это дело распробовал, и ничего, все живы! И вообще, как ты собираешься в образы входить без допинга?
– Да вот как-то вошел на смотринах. И, как видишь, успешно!
– Ну и заклейся обоями. И вообще, не учи меня жить!
– А ты не боишься, что тебя за это дело менты прихватят?
– Не боюсь. Думаешь, я совсем лохушка? За одноразовую дозу только штраф по первому разу бывает! И то для быдла. Вон, Влада перед выпускным прихватили с травкой, так ничего, родаки отмазали.
– Ладно, считай, убедила. Гуд бай, май лав, – я было поднялся, но Канторовская буквально вцепилась в меня:
– Серж, ну ты че? Я просто хотела сказать, что у тебя свои понятия, у меня свои. Или думаешь, что я наезжаю? И вообще, неужели ты меня одну тут бросишь? А сам куда двинешь? Метро только через полтора часа откроется!
Короче, я остался. И все оставшееся время слушал бесконечные истории про то, что происходило в бывшем классе после моего ухода оттуда. А случилось за минувшие три года многое.
Заводила компании Милюков неожиданно ударился в какую-то восточную религию. Теперь он постоянно вещал про какие-то праны, выходы из тела, а когда школьная компания собиралась у него, устраивал сеансы медитации.
– И знаешь, в конце концов у меня получилось выйти из тела! – рассказывала Элли. – Я в реале увидела себя со стороны, сидящей на ковре в гостиной Боба. И всех остальных. А потом оказалась в каком-то помещении, где был дикий холод, пахло серой и кругом были какие-то существа, которые шипели и хрюкали. Их самих я не видела, но ощущала, что они рядом и пытаются подобраться ко мне ближе. Когда пришла в себя, меня реально начал бить колотун, а потом вообще вывернуло – еле-еле успела до туалета дошкандыбать. Причем рвало какой-то зеленой слизью, как густой кисель! Я все это Бобу рассказала, так он объяснил, что это из меня выходят злые халы…
– Злые чего? – вытаращился я, немного разбиравшийся в восточных терминах.
– Халы. Это, типа, особые сгустки активной энергии. Они могут вредить, если не умеешь ими управлять, а если научился, то они будут тебе служить. Сначала надо постичь первую ступень крендо…
– А это что еще за зверь?
– Это, Серж, типа, этапы совершенствования духа. Так вот первый – уметь исторгать из себя халы. Потом, когда ты овладеешь этим, надо учиться повелевать ими. И в конце концов ты становишься их повелителем.
– Бред какой-то…
– Нет, не бред! Я, например, научилась!
Элли поведала и про то, что Борька, несмотря на свои увлечения разной восточной эзотерикой, параллельно начал ходить и в церковь. Точнее, ездить куда-то под Пушкино, к знаменитому священнику, которого чуть ли не боготворила вся творческая интеллигенция. Как восторженно делился Боб, тот протоиерей был не просто продвинутым, а чуть ли не новым пророком! Который не боится ни властей, ни даже Патриарха и смело трактует Библию на собственный лад. Но самое главное, что вещал этот модный служитель культа: евреи на самом деле не утратили свою избранность и превосходство перед остальными, а обладают ими до сих пор, чуть ли не по факту рождения. Это особенно восхищало наших доморощенных демократов, среди которых имелось немало потомков древа Израилева.
– Представляешь, Боб у этого попа крестился! – важно сообщила Элинка.
Если Милюков с головой ушел в религию и философию, то Савельев подался в политику. Он стал сбегать с уроков на митинги, размахивал флагами на Пушкинской площади с криками «СССР – тюрьма народов!». А однажды притащил в класс желто-синюю листовку с трезубцем, на которой неровным почерком было написано: «Дорогой Влад! Мы обязательно победим империю зла!». Под пожеланием стояла короткая неразборчивая закорючка со слабо угадываемой буквой «Н» в начале.
– Знаете, кто это написал? – торжествующе возглашал Савельев. – Сама Новодворская!
Это было в девятом классе, в самом начале сентября. А через три с небольшим месяца ранним утром Влад ворвался в школу с криками, что уроки необходимо прекратить и тотчас же отправляться на похороны академика Сахарова. Занятия, разумеется, не отменили, но бузотеру удалось увести с собой человек тридцать, в основном старшеклассников. Тех, кто не присоединился к ним, Влад чуть ли не прилюдно проклял, объявив врагами перестройки и соглашателями.
После этого он практически перестал появляться в колледже на Арбате, борясь за окончательную победу над тоталитарным государством, как объяснял он сам. Поначалу все думали, что одноклассник действительно целыми днями пропадает на манифестациях и в пикетах, пока однажды Савельев не угодил в милицию. И загребли его не на площади за скандирование антисоветских речевок, а в притоне, где мошенники обыгрывали в карты доверчивых лохов. При десятикласснике английской спецшколы нашли бешеные по тем временам деньги: тысячу триста рублей! А в ту пору, между прочим, квалифицированный работяга получал от силы двести пятьдесят!
Родителям юного шулера пришлось подключить все свои связи, вдобавок за школьника впряглись и соратники по митингам. От статьи Савельева отмазать удалось. Думали, что после попадания в милицию он хоть немного остепенится, но куда там! На уроках его не видели по-прежнему, однако аттестат юный борец с империей зла как-то получил.
На своих митингах Влад познакомился и привел в компанию тогда никому еще неизвестного Борю Гринкевича. Да-да, того самого. В то время будущий идейный вдохновитель террористов учился в обычной школе где-то в Алтуфьево, но уже грезил о будущей революции, о том, что разнесет в прах ненавистную страну, в которой ему, Гринкевичу, не посчастливилось родиться. Кстати, он еще тогда, будучи девятиклассником, доказывал, что Холокост устроил не Гитлер. Нет, авторами геноцида были как раз кремлевский генералиссимус и его сообщники, решившие отомстить бедным евреям за семнадцатый год. И поэтому, вещал алтуфьевский гость, «русня» не имеет никакого права на существование. После такого не по себе стало даже парочке соплеменников Бори, которые сами, мягко говоря, не любили русских.
12
Монолог Нэсса был прерван звонком моего телефона. Я глянул на экран и вздохнул. Нет, мне абсолютно не хотелось общаться с ней при Вознесенском. Тем более можно было побиться об заклад, что моя собеседница звонила как раз по поводу него.
«Ишь ты, как тебя разбирает! Угомонись, Ларионова!»
Мысленно высказав это назойливой подруге, я отклонил вызов, сопроводив отбой вбитым в память смартфона месседжем: «Я не могу сейчас говорить».
– Со службы, что ли? – поинтересовался Серый, наблюдая за моими манипуляциями.
– Угу, – кивнул я и для достоверности сердито добавил: – Нет от них покоя ни днем ни ночью. Спокойно выпить вечером нельзя.
– Смотри, а то вдруг срочно вызовут, а ты бухой…
– Разберемся.
– Слушай, а ведь ты давным-давно пенсию выслужил, так?
– Верно.
– А почему на дембель не уходишь?
– Неохота пока.
– Скажи уж лучше честно: привык к погонам и несвободе!
– Смотря что считать несводобой.
– Дело не в том, что конкретно считать, а что нет, – Нэсс махнул рукой. – Просто когда человек живет много лет в определенном социуме, ему начинает казаться, что вне этого так называемого мира жизни нет. И условный Вася или Петя, как волк в песне Высоцкого, боится сделать шаг за эти невидимые флажки. Пусть даже он уже устал от прежней жизни, а там, за чертой, она на самом деле если не лучше, то по меньшей мере не хуже.
Сию теорию мне впервые объяснила Лиза, моя однокурсница, тоже занимавшаяся в мастерской у Курылева. Она носила редкую фамилию Браже, по семейным преданиям, происходившую от француза, еще в девятнадцатом веке юным солдатом наполеоновской армии попавшего в плен и так и осевшего и пустившего свои корни на Руси.
Когда я в первый же день увидел Лизавету, то поначалу принял сокурсницу за парнишку. Невысокого роста, с короткой стрижкой, в неизменных расклешенных джинсах, она казалась ничем не примечательной. Мелкие, не запоминающиеся черты лица, быстрая походка, привычка слушать, чуть надломив тонкую бровь. Правда, когда при знакомстве девушка подала руку, пожатие оказалось не по-женски сильным и жестким.
Лиза была старше меня на три года и к своим двадцати имела титул мастера спорта по верховой езде. Говорили, что ее заметил сам Ростоцкий-младший на съемках какого-то фильма про кавалеристов, где юная наездница прозябала в массовке, и порекомендовал в качестве каскадера знакомому режиссеру. Последний как раз снимал картину со сценами конных баталий. А уж тот разглядел в девушке не только трюкачку, но и прирожденную актрису и сосватал ее во ВГИК, к давнему приятелю – Курылеву.
Помнишь Андрея Ростоцкого? Вот уж кто был универсальным солдатом в кино! Каждая его роль, будь то Николай в «Днях Турбиных», юный Гайдар, Денис Давыдов или Хромов в «Непобедимом», смотрелась шедевром. А ведь еще Андрей Станиславович зарекомендовал себя непревзойденным каскадером и толковым режиссером. Короче, и швец, и жнец, и на дуде игрец! Так вот, наша Лиза была точной его копией, только в женском обличье. И не только по куче разнообразных талантов, но и по характеру.
Ты знаешь, как Ростоцкого-младшего звали в школе? Бешеный! Он же был маленький, щуплый, но, если что, мог броситься в драку на тех, кто намного здоровее. Рассказывали, что однажды он в одиночку накостылял аж троим громилам-старшеклассникам!
Наша Амазонка – так звали Лизу в институте – была из того же теста. Не знаю, как в школе, но по ВГИКу долго ходил рассказ про студентку Браже, бесстрашно бросившуюся на выручку сокурснику. Как поведал сам потерпевший, тщедушный очкастый паренек, в тот вечер он возвращался после занятий домой. У метро «Ботанический Сад» его тормознули два амбала. Как водится, спросили, кто такой, откуда, а затем, отвесив пару затрещин, потребовали снять дорогую кожанку. Вот в тот момент, когда юноша дрожащими руками расстегивал молнию на одежке, из темноты появилась Лиза.
Мгновенно сообразив, в чем дело, девушка с ноги зарядила в пах тому, что поздоровее, а затем несколько раз насадила головой на свое колено. Все это произошло за какие-то секунды, и когда второй грабитель попытался было взять реванш над неизвестно откуда взявшейся заступницей, Лизавета остановила его точным ударом в голень. А затем, вырвав из рук противника недопитую бутылку пива, разбила о его же лоб.
Когда ошалевший от неожиданности и боли гопник пришел в себя, Браже подступала к нему, угрожающе помахивая перед его физиономией «розочкой». Юнец в ужасе подхватил своего поверженного сообщника и ретировался. А Лиза, успокоив несостоявшуюся жертву ограбления, взялась проводить его до дома, несмотря на то, что сама жила аж в Реутово. Кстати сказать, после того вечера наш очкарик-ботаник остерегался появляться около «Ботанического Сада», добираясь кружным путем до соседнего метро. Елизавета же принципиально возвращалась именно мимо того места, где отметелила двоих аборигенов, нисколечко не боясь, что обиженные могут встретить ее и отомстить.
Правда, свидетелем этого сам я не был, и за достоверность всех деталей той драки, понятное дело, ручаться не могу. Но в том, что сокурсница не только великолепно скакала на лошади, но и была асом в рукопашной, убедился лично.
Был среди нас один ухарь, здоровенный, под два метра брюнет, считавший себя суперменом и одновременно неотразимым мачо, приставаний которого жаждут все женщины на свете. Вот он как-то раз и попытался в шутку зажать Лизу. Но та вмиг сбила его с ног и заломала так, что наш чудо-богатырь заверещал, как баба!
Да, наша барышня не боялась никого. В том числе и мастера. Курылев любил поразносить своих учеников по делу и не по делу. Особенно грешил этим, когда выпьет. Частенько бывало: даст задание, а сам пойдет в соседнюю аудиторию к кому-нибудь из друзей-преподов. Возвращается оттуда под хорошими парами и начинает нас костерить!
– Ну и что это такое? – вопрошал Борислав Владимирович, окидывая мутным взглядом подопечных. – Это разве игра? Мало того, что вы халтурщики, так еще и бездари! Где были мои глаза, когда я брал тебя?! – обычно при этих словах он выбирал себе жертву и наставлял на нее палец, словно ствол пистолета. – Отчислю к… матери! Понял?!
Обычно тот, кому выпадало стать козлом отпущения, тут же бледнел и лихорадочно лепетал оправдания. Вылететь боялись все. Кроме Лизы.
Однажды под горячую и хмельную руку мастера попала и она. Обычно он не докапывался к ней зазря, но в тот вечер, выпив больше обычного, неосмотрительно избрал ее в качестве мальчика для битья. Точнее, девочки. И когда Борислав, брызгая слюной, закончил свой истеричный монолог привычным: «Отчислю на хрен!» – иза спокойно пожала плечами:
– Отчисляйте!
В аудитории резко воцарилась тишина. Все посмотрели на сокурсницу, как на самоубийцу, забравшегося на подоконник и уже занесшего ногу над бездной.
– Что-о-о?! – Курылев аж поперхнулся.
– Говорю, отчисляйте! Хотя нет, – Браже сделала выверенную паузу, а затем отчеканила: – Я сама уйду. А подобным тоном извольте говорить со своими подстилками! И остальной… – она внятно произнесла редкое, но крепкое ругательство. Затем подхватила сумку и зашагала к дверям, мимо застывших, словно статуи, сокурсников.
А следующим же утром явилась в деканат и подала заявление об отчислении. Об этом немедля проинформировали нашего мастера. Тот бросился к студентке чуть ли не с извинениями: мол, был неправ, погорячился, не пори горячку, Елизавета Батьковна… Но куда там! Та лишь презрительно фыркнула в ответ.
Весть об этом разлетелась по всему институту и за его пределы. Дошла она и до режиссера, который порекомендовал Браже и был на короткой ноге со вгиковским начальством. В конце концов Лиза все же сменила гнев на милость и забрала заявление. После того, как Курылев попросил у нее прощения сначала в присутствии первого проректора, а затем и перед всей нашей мастерской.
На какое-то время Борислав притих. И хоть и продолжил свои регулярные возлияния во время занятий, но не накидывался на нас с трехэтажной руганью и угрозами выгнать. Продержался наш наставник аж больше месяца, а затем все возвратилось на круги своя. Правда, и в самом крепком подпитии мастер не решался даже глядеть в сторону Лизы, но вот остальным доставалось порой больше, чем раньше. Очевидно, Курылев решил отыграться за других учениках за свои публичные извинения.
Первой жертвой после перерыва стал как раз тот самый мачо, которого при всех скрутила мадемуазель Браже. Когда мастер начал орать на него привычное: «Выгоню на…!», наш супермен в прямом смысле рухнул на колени перед наставником и начал слезно умолять смилостивиться. Мы выпали в осадок, а Лиза… Лиза смотрела на него с таким нескрываемым презрением! И я, наблюдая за ней в тот момент, с ужасом думал, что, не дай Бог, такого взгляда от сокурсницы когда-нибудь могу удостоиться и я… Нет! Никогда!
Да, я был влюблен в Лизу с первого же дня. И со временем это чувство не приутихло, а наоборот, стало превращаться в какую-то смесь обожания и преклонения. И не только как перед понравившейся девушкой, а словно перед каким-то суперсовершенным созданием, которое, ко всему прочему, являлось для меня своеобразным судьей и мерилом всему. Прежде чем сделать хоть что-то или сказать, я в первую очередь думал, как к этому отнесется возлюбленная. И даже когда ее не было рядом, все равно прикидывал: одобрит она или нет.
Лиза же держалась со мной ровно, доброжелательно. Однажды, когда мы с одним парнем из нашей курылевской мастерской затеяли шуточную схватку и я сумел бросить его через бедро, в глазах моей обоже загорелся живой интерес. После она подошла ко мне и спросила:
– Ты борьбой занимался? Какой? Где?
– Самбо. В Теплом Стане.
– Да ты что! А у кого?
Когда я назвал фамилию тренера, на ее лице явственно проступило выражение разочарования и сожаления.
– Знаю, рассказывали. Технику ставит добротно, но без выдумки.
– Это как?
– А так. Вот ты как только что бросок сделал? Считай, в чистой стойке. В реальной стычке или даже на ковре с более или менее подготовленным борцом у тебя бы ничего не вышло. Тут нужен не только подсед под противника.
– А что же еще?
– А то. Смотри! – очевидно, не желая рвать мне рубашку, однокурсница взяла меня за запястье, прихватила сзади джинсы в районе ремня, а затем вдруг резко присела – и в следующий миг я брякнулся на пол.
– А ты тоже, смотрю, занималась? Неужели самбо? – придя в себя, удивился я, ибо в то время женщины еще не начали осваивать этот вид борьбы.
– Дзюдо. Ну и рукопашкой.
– И ею тоже? А где?
В ту пору рукопашный бой, как и каратэ, все еще находились под запретом.
– Один знакомый из «Дзержинки» тренировал. «Краповик».
– Из той самой спецроты?
К тому времени в «Огоньке» уже вышла статья про роту специального назначения, где самым крутым бойцам после нечеловеческих, запредельных испытаний вручался краповый берет. Обладатели сего атрибута в ту пору казались мне какими-то сверхчеловеками, навроде киношного Терминатора.
– Да. Оттуда.
С той поры и начались наши странные и волнующие отношения, больше похожие на дружбу, нежели на хоть какую-то взаимную симпатию, которая бывает между парнем и девушкой. Точнее, с моей стороны, ясное дело, все было более чем: я влюбился по уши, если не с головой, а вот Лиза… Нет, она все чаще смотрела на меня с нежностью, но последняя была сродни той, что испытывает сестра к младшему брату.
Впрочем, встречаться и даже общаться нам было особо некогда. Занятия в институте начинались в девять утра, а заканчивались в одиннадцатом часу вечера. Причем шли они не пять, а все шесть дней в неделю. Не ездили мы во ВГИК только по воскресеньям. Но и в этот день не получалось даже отоспаться: столько нам задавали на дом за неделю. Ну разве что вставал я на седьмое утро чуть позже.
И все же я лихорадочно искал способ быть подольше с моей возлюбленной. Вначале по вечерам после занятий мы шли до «Ботанического Сада», а затем ехали на метро вместе до «Курской». Вначале я вознамерился провожать ее до дома, в Реутово, но моя мадемуазель сразу же пресекла это:
– Вот еще! А обратно ты на чем будешь добираться? На собаках, как чукча в тундре?
Порешили на том, что я сопровождаю ее до электрички, а затем еду домой. А она, как доберется, звонит мне и сообщает, что доехала благополучно.
Лиза была дочерью отставного подполковника Браже, в свое время закончившего саратовское училище внутренних войск, как и мой отец. И начинали они оба в конвое. Правда, ее батя, в отличие от моего, кормил комаров не в Коми, а под Красноярском. А после того как закончил академию с отличием, получил назначение в престижную «Дзержинку».
Лизавета, кстати, тоже родилась в полковой санчасти и до трех с половиной лет жила в таежном поселке рядом с зоной. И, как признавалась мне, жалела, что ей не довелось в сознательном возрасте испытать все прелести обитания в глухомани. Потому на каникулах и отправлялась туда в походы. Вот и в тот год летом она собиралась уехать на Урал, где служил офицером ее старший брат, и там устроить сплав на плотах по горной речке. Тогда-то я осторожно спросил:
– А можно мне с тобой?..
– Конечно! – кивнула она в ответ.
Однако попутешествовать вместе нам было не суждено. Судьба приготовила мне другое испытание.
Случилось это в конце февраля во время занятий по актерскому мастерству. Раздав нам задания, Курылев привычно отправился квасить и вернулся, как всегда, пьяный и злой. И с ходу докопался до меня. Я как раз, по его же указанию, отрабатывал перевоплощение в овчарку, которая потерялась на прогулке и теперь ищет хозяина по следу.
– Это что? Это собака?! – завопил Борислав. – Да ты полный даун …твою мать! Все, отчисляю тебя на…!
У меня похолодело внутри. Я уже хотел начать виниться или на худой конец смолчать, но неожиданно встретился глазами с Лизой… А дальше вдруг неожиданно для самого себя выпалил срывающимся от волнения голосом:
– Отчисляйте!
Сокурсники и мастер замерли, словно в немой сцене из «Ревизора». Лишь Лиза смотрела на меня спокойно, а ее губы тронула ободряющая улыбка.
Первым пришел в себя Борислав:
– Считай, что уже отчислен! – рявкнул он, а затем почти закричал, выпучив налитые кровью глаза: – Пошел вон!
По рядам студентов пробежал едва слышный ропот: так бывает, когда все одновременно начинают повторять какое-нибудь слово, например, число «шестьдесят девять». А я вдруг взглянул на все это со стороны, и мне стало гадко: с какой стати этот напыщенный индюк орет на меня, кроет на чем свет стоит, угрожает… Да и чем угрожает? Вытурить из института? Да пожалуйста! Можно подумать, жизнь на этом заканчивается!
С такими мыслями я подхватил сумку и вышел прочь. И, шествуя по улице, как бы наблюдал себя со стороны: гордого, волевого, готового из чувства собственного достоинства отказаться от главной мечты в жизни.
За спиной торопливо заскрипел снег.
– Как ты? – догнав, Лиза ухватила меня под локоть.
– Нормально. А ты-то зачем с занятий свалила? Влетит ведь.
– Не вникай, – отмахнулась она. – Сам, главное, не переживай. Ты все правильно сделал.
– Думаешь?
– А то! Не фиг человека смешивать с дерьмом, даже если он не так что-то изобразил! Пора этого индюка на место поставить. И не его одного! А то устроили у себя нечто вроде секты… Хотя почему вроде – секта и есть самая настоящая!
– В смысле?
– А то, что они сначала внушают студентам, что, дескать, они особенные, а весь остальной мир так, на минутку покурить вышел! А знаешь, как человек на подобное ведется? А потом начинает пуще смерти бояться выпасть из этого круга избранных. А дальше затягивает, как в болото. То, что Курылев вытворяет, это так, цветочки! Знаешь, на что молодежь идет, чтобы правдами и неправдами удержаться в институте? И потом, когда начинают сниматься?
– В курсе…
К тому времени я, разумеется, был наслышан, как ради ролей многие актрисы укладывались в постель к режиссерам и прочему киношному начальству. Даже поговорка такая была: «Путь на экран лежит через диван!»
– И не только девчонки, – сокурсница словно прочла мои мысли. – Парни тоже на все идут и ложатся… под мужиков! Причем ладно бы этих пацанов действительно тянуло к себе подобным, а то ведь самим противно, а идут на эту мерзость. Чтобы благорасположения начальства не потерять! Ладно, – она перевела дух и повторила: – Ты, главное, не переживай. Даже если отчислят, не вешай носа.
Всю дорогу она ободряла и обнадеживала меня. Домой я приехал, ощущая себя почти героем.
Однако утром мой задор спал. Так бывает, когда раздухаришься по пьяни, а как протрезвеешь, стыдно и страшно вспоминать вчерашнее.
В таком вот состоянии я и отправился в институт, лелея в душе надежду, что Курылев, протрезвев, отойдет и позабудет о своей угрозе и моем демарше. А когда на «Проспекте Мира» увидел поджидавшую меня Лизу, то как-то сразу пободрел и решил: «А, стопудово, все обойдется! Вон, Лизавета аж обматюкала Борислава, и ничего. Он не только ее не отчислил, но и, как миленький, прощения попросил!»
Однако моя светлость переоценила себя и свою значимость. Если возлюбленная к моменту поступления имела вес среди киношников, то я был в лучшем случае заготовкой, точнее, куском пластилина, из которого могла бы получиться какая-нибудь фигурка. И этот кусочек только-только начали разминать пальцы мастера, как он вдруг воспротивился и начал крошиться прямо в руках!
Разумеется, все это я понял многим позже, а пока входил в аудиторию с гордо поднятой головой в сопровождении Лизы, все мое естество ждало продолжения спектакля: «Повинный Курылев. Дубль два!» И, разумеется, ожидал, что сокурсники будут глядеть на меня по меньшей мере с уважением после вчерашнего.
Но реальность оказалась другой. Едва мы появились на занятиях, вокруг вмиг образовалось нечто вроде зоны отчуждения. Не только студенты из нашей актерской мастерской, но и все остальные отсели как можно дальше, как от прокаженных.
– Боятся запятнать себя порочащими связями с отщепенцами, – шепотом усмехнулась возлюбленная. – А то вдруг в немилость попадут и над ними тоже замаячит угроза изгнания! Ужас, правда? – она задорно подмигнула мне.
В момент произнесения этой фразы моя обоже в точности скопировала и голос, и интонации, и мимику нашего Мачо, притом в тот самый момент, когда он на коленях слезно умолял не отчислять его. Я не удержался и прыснул.
Веселье закончилось после первой же пары, когда меня разыскал старшекурсник из нашей мастерской, считавшийся у Курылева кем-то вроде старосты, и, не глядя в глаза, произнес:
– Мастер велел писать заявление об отчислении. Пока по-хорошему…
– А если по-плохому? – ответила за меня Лиза. И, заметив, как изменился в лице староста, презрительно бросила: – Да не дрейфь: сейчас же пойдем и напишем.
– А ты-то тут при чем? – вытаращился курылевский адъютант.
– А при том. Я его один раз уже простила. Но, видно, не помогло.
– Погоди-погоди… Тебя ведь он не выгоняет!
– Зато у меня нет никакого желания заниматься у этого… – Лиза четко произнесла крепкое, заковыристое словцо. А затем, подхватив меня под руку, развернулась, и мы отправились прямо в деканат, где на пару, как под копирку, написали заявления с просьбой отчислить по собственному желанию.
Реакция однокурсников была предсказуема. Они смотрели на нас, как на самоубийц, которые ко всему прочему решили совершить это жуткое действо прилюдно и с радостными улыбками на лицах. Особенно офигевал наш Мачо.
– Ты хоть понимаешь, что сам себе яму вырыл? – пытался втолковать он мне. – Даже не яму, а пропасть?
– А разве пропасти копают? – насмешливо встряла в разговор Лиза.
Но Мачо, казалось, не услышал подначки.
– Ты на нее не смотри, – он мотнул головой в сторону Браже. – Она уже с именем, за нее стопудово впрягутся. Или опять Борислава прилюдно заставят извиняться, или к другому мастеру переведут. А тебе точно ничего не светит. Ты, считай, приговор самому себе не только подписал, но и сам же исполнил.
– Хочешь сказать, что без ВГИКа жизни нет?
– Смейся, смейся! Как бы плакать не пришлось. Ты хоть в курсе, что как только твою фамилию в приказ внесут, деканат тут же сообщит военкоматчикам?
– И что дальше?
– Ты совсем дебил?! Тебя же в армию забреют!
– Ну и что?
Я прочно вошел в образ бывалого мужика, для которого сходить в солдаты – все равно что сбегать в магазин.
– Решил в супермена поиграть? – не унимался Мачо.
– Это как раз ты из себя подобного строишь, – вновь вмешалась в разговор Лиза. – А на деле… – она выдержала классическую паузу и продекламировала:
Время наше будет знаменито,
Тем, что сотворило смеха ради
Новый вариант гермафродита:
Плотью мужики, а духом – …
Вновь чуть выждала, а затем растянула губы в усмешке:
– Не надо оваций: сие не мое. Это Губермана стихи, если что.
Окинула прощальным взглядом однокурсников и, показательно взяв меня под руку, произнесла с нарочитой нежностью, точь-в-точь как любящая жена:
– Пойдем домой, Сережа.
Мы двинули прочь со вгиковского дворика, чувствуя, как провожают нас глазами теперь уже бывшие соученики. Никто из них не проронил ни слова. И лишь Мачо, опомнившись, крикнул мне вслед:
– Погоди, вот пошлют тебя на Кавказ голову под пули подставлять!..
И ведь оказался прав, стервец! И насчет того, куда занесет меня солдатская доля, и в отношении Лизы. Буквально на следующий день ее вызвали к ректору, где собралась вся свита, и буквально уговорили остаться. Кроме главного институтского начальства, в кабинете был и здешний авторитетный мастер, народный артист СССР. Он-то в конце концов и убедил девушку учиться дальше, пригласив из курылевской мастерской в свою.
А вот я оказался не у дел. Нет, моя обоже сделала для меня все, что обещала. Через неделю я уже трудился рабочим сцены в театре Реввоенсовета. И в армию попал, благодаря Лизе, не куда-нибудь, а во внутренние войска.
Еще когда я не получал повестки, бывшая сокурсница пообещала, что постарается помочь, чтобы меня определили в нормальное место, где нет кромешного неуставняка и прочих мерзостей. Поначалу думалось, что мне посчастливится попасть в «Дзержинку» – там же служил перед отставкой ее батя, Сергей Михайлович. Я даже уже размечтался, что останусь в Москве и буду приходить в увольнения домой, на матушкины пирожки…
Но оказалось, что меня решили отправить куда-то под Волгоград, где давний приятель подполковника Браже был заместителем командира недавно сформированной оперативной части. Создавали ее как раз для горячих точек. Об этом незадолго до моего ухода в армию мне сообщила Лиза.
Когда про то узнала моя маман, ей сделалось дурно. Если раньше она относилась к моей знакомой хоть чуточку благожелательно, то теперь объявила, что видеть ее не хочет. А кроме этого, попыталась в который раз напрячь деда, чтобы он если не отмазал меня от солдатчины, то хотя бы помог остаться поближе к Москве. Но генерал-полковник Юрасов отрубил в ответ: «Не хрен делать из парня маменькиного сынка! Пусть настоящую службу узнает!»
После этого матушка прорыдала все оставшиеся до призыва дни. Разумеется, никаких проводов у меня не было. Наша Стелла Николаевна не желала никого видеть, а в особенности мою Браже-обоже. Однажды, когда та позвонила мне, родительница спустила на нее всех собак, приказав забыть наш номер, меня, а также не приближаться к нашему дому даже на километр! Так что оставшиеся дни мы встречались тайком где-нибудь в городе или же у нее, в Никольской.
В ту последнюю ночь перед уходом из дома на два года я, естественно, не сомкнул глаз. Однако под утро меня все же сморило, и, скорее всего, служба моя началась бы с катастрофического опоздания на сборный пункт, но этому не дал свершиться дед. В половине седьмого утра он прикатил на своей служебной «Волге», забрал меня вместе с продолжающей всхлипывать матерью и отвез на Профсоюзную, к военкомату. Где уже ждали отец и Лиза.
Завидев ее, маман было встрепенулась и зашипела нечто вроде: «Пришла все-таки, мерзавка!» – но дед, как обычно, заставил дочь замолчать одним лишь взглядом. А у меня сразу же испарилась та тяжесть на душе, которая бывает перед тем, как отправляешься в неизвестность.
Те минуты, что мы пробыли у военкомата, пролетели мигом. Подкатил «Уазик»-«буханка», наш сопровождающий, худощавый желчный майор, дал команду садиться. Еще громче зарыдала мать. Сухо, солидно попрощался дед. Обнял батя.
А потом подошла Лиза. Шагнула, резко подалась ко мне, крепко обхватила за шею, прижалась и шепнула:
– С Богом! Я буду ждать…
13
Нэсс замолчал, смахнув выступившие слезы. Кот, встрепенувшись, привстал на задние лапы и, издав протяжный звук, начал тыкаться в лицо хозяину.
– Все, все, – тот поднял голову, улыбнувшись питомцу. – Это я так, расчувствовался. Ну честное слово, все в порядке!
Казалось, Серый позабыл о моем существовании. Он полностью переключился на своего Лоренцо, рассказывая ему про свою Браже-обоже и о том, как все два года службы он жил лишь надеждой на встречу с ней.
«Кажись, допился, – подумал я. – Называется, привет, белая горячка! Быстро он чего-то: мы еще и первую не осилили!»
Однако в этот же момент Вознесенский повернулся ко мне и глянул осмысленными и почти трезвыми глазами.
– Думаешь, у меня уже «белочка» началась? – произнес он, будто прочтя мои мысли. – Нет, Саныч, я в порядке. А что я с ним, – бывший приятель кивнул на кота, – как с человеком говорю, так он все понимает, веришь? Ну не все, конечно, но любит, когда с ним разговаривают. Даже обижается, когда молчишь, едрен-шмон!
– Верю-верю, – отозвался я. – Мои оба тоже любители пообщаться.
– Знаешь, мне кажется, что кошки поумнее собак будут. У нас в части жил такой котяра. Так он чуял, когда начальство идет, а когда свой брат-«срочник». В клубе, где обитал хвостатый, киномехаником служил парнишка, который, так сказать, опекал зверя. Так если кто-то из офицеров снаружи приближался, кошак начинал истошно мяукать. А когда солдаты – никак не реагировал. Сколько раз этот усатый-полосатый своего хозяина спасал, когда тот дрых у себя в кинобудке или с друзьями втихую распивал бутылочку!
– Да, клуб в армейке всегда был блатным местом, – согласился я. – Тебя тоже небось туда сватали? В какую-нибудь самодеятельность?
– Веришь, ни разу, – вздохнул Нэсс. – Тогда не до развлечений было. Особенно с этим долбаным Карабахом.
К тому времени я уже прослужил почти полгода и потихоньку привык к дурдому, именуемому армией. К побудкам ни свет ни заря, кроссам в полной выкладке до стрельбища, походам на чистку картошки, где мы впятером-всемером ошкуривали не один десяток кило. Хорошо еще, в части не было беспредела – тут Лиза не обманула. Нет, дедовщина, разумеется, была, но заключалась она в основном в том, что наши двадцатилетние «дедушки» не мыли полы, не ходили в наряды по кухне и не убирали территорию. Ну и следили за порядком вместе с сержантами. А если и мордовали кого-то, то за дело. Во всяком случае, я не припомню, чтобы эти без пяти минут дембеля заставляли стирать себе носки, требовали денег и тому подобное. Уж в нашей роте этого не было однозначно. Даром, что она существовала фактически без командира.
Если ты запамятовал, то призвался я весной девяносто первого, когда всеобщий бардак почти дошел до своей конечной точки. Тогда много кто из военных решил снять погоны и попытать счастья в качестве штатского. Из них был и наш ротный. Он постоянно гасился то в госпитале, то еще где-то, пытаясь досрочно дембельнуться по состоянию здоровья. Всем рулил замполит Салтыков – старлей, чем-то похожий на молодого Чака Норриса, только, разумеется, подстриженного и побритого. Правда, никаким каратистом он не был, но в резкости и неутомимости не уступал героям штатовского актера. Кстати сказать, похожая ситуация была и в нашем втором взводе: значившийся командиром хитроумный армянин, чью фамилию я давно позабыл, тоже подумывал свалить из войск и, как говорят в армии, забил на вверенный личный состав. Так что реально нас муштровал и воспитывал его заместитель. Да-да, он самый, Крутой. Именно так мы его звали между собой. И не только из-за фамилии: Крутилин был и по жизни реально крут.
Впервые я увидел его через месяц службы, когда после КМБ нас, восьмерых салаг, привел в роту старшина и отдельно представил меня здоровенному детине, похожему на былинного добра-молодца:
– Крутой, принимай земелю!
Здоровяк степенно кивнул, бросив на меня мимолетный оценивающий взгляд. А у меня потеплело на душе: попасть под начало к земляку-сержанту было верхом мечты.
Поначалу я думал, что Крутилин в этот же день подойдет ко мне, поинтересуется, кто я и откуда. Но нет. И после этот амбал с рыжим ежиком коротких волос над высоким, в две ладони лбом никак не выделял меня среди других молодых. Только однажды, когда я попытался было схалтурить на зарядке, замкомвзода мгновенно просек это, рявкнув:
– Вознесенский! В таком темпе будешь у себя на Нахиме прогуливаться!
Пришлось бежать на пределе сил и одновременно офигевать: откуда Крутой знает, с какого я района? И лишь потом до меня дошло, что Рыжий – так звали мы, салаги, между собой нашего «замка»6 – внимательно изучил наши личные дела.
Поначалу я даже обижался на него: ну как это совсем не общаться с единственным земляком в роте! Правда, он все же немного выделял меня среди остальных. По мнению Крутого, моя койка всегда была заправлена хуже, чем у других, автомат почищен из рук вон плохо, а еще, опять же по убеждению замкомвзвода, рядовой Вознесенский больше всех халтурил и на физо, и на строевой, и даже на чистке картошки.
Последняя для нас была сущей мукой. Обычно туда назначалось от силы пять-шесть человек во главе с сержантом или кем-то из дембелей. Те, как правило, ножик в руки не брали, а, пользуясь возможностью, отдыхали от ратных дел. Крутилин же садился вместе со всеми и лихо ошкуривал бесконечные клубни. Там, кстати, в основном и случались разговоры за жизнь. «Замок» живо интересовался у бойцов их делами, расспрашивал про здоровье родителей, пишет ли любимая девчонка и тому подобное. В эти часы он словно бы переставал быть придирчивым и вечно недовольным командиром, превращаясь если не в друга, то в приятеля.
Однажды на ЧК – так сокращенно называли мы чистку картошки – пользуясь благодушным расположением Рыжего, кто-то из салаг решил попросить нашего командира о снисхождении:
– Товарищ старший сержант, а может быть, завтра на зарядку не пойдем? А то двенадцать уже, а нам еще как минимум с час тут колупаться!
– Да если хочешь, я тебя вообще от физо освобожу, – широко улыбнулся Крутилин.
– Правда? – не веря своим ушам, радостно переспросил боец.
– Конечно. И не только тебя, а… – Замкомвзода сделал паузу, а затем обвел нас добродушно-насмешливым взглядом. – Любого, кто подтянется больше меня.
Мы, салаги, тут же воспрянули духом: как раз в тот вечер на ЧК подобрались те, кто был на «ты» с турником. И уж вряд ли кто-то из нас предполагал, что почти двухметровый, весящий под центнер Крутилин подтянется больше пяти-шести раз.
После кухни мы отправились на спортгородок. Кажется, больше всех тогда поднял свою тушку Славка Трофимов, жилистый парнишка из Крыма. Если мне не изменяет память, его рекорд был восемнадцать. А после всех к снаряду подошел Крутой и легко вытянул «четвертак». Да-да, двадцать пять раз!
Разумеется, утром, на зарядке никто и не пикнул про усталость после вчерашней ЧК. А «замок» вместе с нами шустро пробежал три километра и потом лихо обставил всех на полосе препятствий.
Но больше всего Рыжий третировал нас на полигоне. Мы стерли до крови ладони, роя себе окопы и укрытия неудобными до жути саперными лопатками, «убили» локти и колени, ползая по-пластунски. А Крутилин все подстегивал нас, заставлял перекапывать и заново ползти. Ну и, естественно, как всегда выделял меня:
– Вознесенский! Будешь ползать с задранной задницей – стопудово пулю поймаешь! И ноги боком к земле прижимай, а не ставь на мыски: прилетит в голень, на всю жизнь инвалидом останешься!
Как-то после очередных истязаний на стрельбище я в сердцах бросил:
– Рыжий случайно нас с ротой спецназа не попутал? Шел бы туда, натаскивать «краповиков»!
Однако меня не поддержали даже парни с моего призыва, а один из старослужащих, отвесив мне подзатыльник, произнес:
– Крутой почти полгода в Карабахе провоевал и знает, что делает! Потом еще спасибо ему скажешь, сынок!
Пророческими оказались слова того «деда»7!
В Нагорный Карабах нас отправили в сентябре девяносто первого. Из всей части туда собрали от силы батальон, да и то неполный. Много кто из офицеров закосил, отказавшись ехать. Из нашей роты отправился только Салтыков, да еще командир первого взвода, белобрысый лейтенант, только выпустившийся из училища. Ну и, разумеется, Крутой.
Его, кстати, не должны были, да и не хотели отправлять. Во-первых, он уже побывал там. Во-вторых, через пару-тройку месяцев подходил срок его дембеля. Ну и, наконец, Рыжего особо ценили в части. Крутилин мог разобрать и собрать с закрытыми глазами любую машину, начиная от «Уазика» и кончая бронетранспортером – как-никак перед армией закончил автомеханический техникум. Первое время после учебки Крутой даже служил в автороте, но потом у него что-то не заладилось с тамошним начальством, и сержанта перевели в обычную.
Но Рыжий умудрился пробиться аж к командиру части и настоять на том, чтобы ехать с нами. Тем более что командовать взводом в командировке оказалось некому: значившийся командиром лейтенант-армянин в который раз умудрился залечь в госпиталь, искусно симулируя какую-то редкую болезнь. Может, просто струсил, а может, почуял, что мы как раз будем стоять на азербайджанской стороне.
В Карабах добирались эшелоном почти неделю. Потом еще неполные сутки сгружались в Степанакерте, а назавтра целый день тащились колонной по горному серпантину. До сих пор, как вспомнишь, сердце в пятки уходит: с одной стороны скалы, с другой –пропасть. Дорога была настолько узкой, что порой казалось – мы вот-вот сорвемся вниз…
Вначале заехали на базу – несколько приземистых построек, бывших когда-то больницей. Там обосновался штаб, а наш взвод, двадцать четыре человека во главе с Крутым, отправили в дальнее село, на блокпост. Из техники командиры расщедрились на «Уазик»-«буханку» и аж целый «бэтээр». А еще, не иначе как с барского плеча, нам отвалили целых три ручных пулемета, столько же «граников» и снайперку.
«Блок» представлял собой заброшенную ферму: два одноэтажных кирпичных строения, притулившихся на взгорке за селом у подножия скалы. Это несказанно обрадовало Крутого:
– Все просматривается. Со всех сторон почти! А чтобы тот сектор был под наблюдением, – «замок» указал на отрезок дороги, который частично загораживала скала, – выставим пост напротив: два человека днем, четыре ночью.
– Верно мыслишь, – уважительно кивнул Салтыков.
Когда же в одном из домиков обнаружилась печка, то наши командиры вовсе пришли в восторг.
– Все, здесь и размещайтесь! – подытожил старлей. – А я насчет дров с местными договорюсь.
Поначалу я не понял их радости: зачем печка, когда тут жара, как в Африке! Тогда мне не было ведомо про обманчивую и непредсказуемую погоду в горах. Особенно по ночам.
Впрочем, в ту первую ночь я не почувствовал холода, ибо, упахавшись, дрых без задних ног. За какие-то полдня мы вырыли огромный капонир8 для «бэтээра» и несметное количество окопов. В том числе и оборудовали позицию на той стороне дороги. А еще вернувшийся из села замполит кроме дров и угля притащил огромный ворох мешков и заставил нас набивать их вперемешку песком и каменной крошкой. Ими мы заложили оконные проемы и навалили на бруствер окопов.
Следующим утром мне выпало идти на выносной пост на пару с Трофимовым. Добраться до него оказалось непросто. Вначале отправившийся с нами Рыжий заставил нас топать согнувшись в три погибели, затем быстро перескочить дорогу и потом опять чуть ли не ползти метров пятьдесят. Если учесть, что на нас были надеты тяжеленные бронежилеты, то до окопов мы дотащились весьма вымотанные и злые. А Крутой напоследок бросил нам:
– Попробуйте хоть на секунду из «броника» вылезти или каску снять – устрою вам такое, что небо с овчинку покажется!
Желание разоблачиться, а точнее, вообще раздеться до трусов появилось уже через неполный час. Солнце начало жарить так, что, казалось, ты попал в раскаленную духовку. «Афганка» песочного цвета, в которую нас переодели перед командировкой взамен гимнастерок, чему поначалу мы были дико рады, – эта «афганка» почти совсем не пропускала воздух. Я как-то продержался все три часа, а вот мой напарник пару раз стащил каску, чтобы вытереть пот. За что по возвращении на «блок» был подвергнут жестокой экзекуции: Крутилин, надев на Трофимова поверх первого еще два «броника», заставил его попеременно то отжиматься, то приседать, все это время постукивая по болтающейся на Славкиной голове каске саперной лопаткой:
– А если обстрел? А если осколки прилетят? Ты, дятел опилочный, хочешь к матери досрочно в цинковом ящике приехать, а?
Обстрел случился меньше чем через сутки, под утро.
В тот час мы со Славкой и еще парой бойцов, приданных на ночь в усиление, мерзли в окопах на той стороне дороги. Здешние ночи оказались полной противоположностью дневному пеклу. Холод продирал насквозь, не спасал даже бушлат с накинутым на него «броником». Кроме того, дико хотелось спать. Вот в тот момент, когда сознание начало медленно, но верно проваливаться в вязкие объятия Морфея, откуда-то сверху раздался треск, словно кто-то начал рвать сырую плотную ткань. Примостившийся рядом со мной Славка, взвизгнув, клацнул затвором автомата и, выставив ствол поверх бруствера, выпустил оглушительную очередь. Одновременно с этим кто-то начал резко дергать меня за плечо. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что я сам пытаюсь сорвать с него автомат, ремень которого зацепился за пуговицу погона.
В темноте, в районе скалы, замерцали едва уловимые вспышки, вновь раздался треск, что-то чиркнуло рядом, и ближний мешок пустил тонкую струйку каменной крошки.
«Пуля…» – дошло до меня, и я машинально присел, слыша, как следом еще несколько раз глухо стукнуло по брустверу.
Нет, это был не страх, даже не ужас, а какое-то другое чувство, которое буквально плющило меня, вминая в дно окопа. А когда что-то звонко ударилось о каску сверху, я рухнул на четвереньки, тупо таращась на упавшую рядом с лицом еще горячую, пахнущую порохом гильзу. Тут же рядом звякнула вторая, третья, четвертая…
Наверное, я на какой-то момент потерял рассудок от страха. Во всяком случае, пришел в себя от того, что меня довольно ощутимо хлестали по лицу.
– Эй, Москва, ты цел? Не зацепило?
Я наконец узнал Кондратенко, ефрейтора из «дедов», посланного старшим в охранение.
– Серый, ты живой? – рядом возникла Славкина физиономия.
– Живой и невредимый, – ответил за меня ефрейтор. – Просто обделался со страху. Вставай живо, герой хренов!
Вокруг продолжало трещать. С горки, с «блока» стучали автоматы. Как отбойный молоток загрохотал пулемет «бэтээра», вспыхивая красно-желтыми факелами на конце ствола. В сторону скалы пронесся одинокий светящийся трассер.
– Не достанут ни хрена! – ругнулся Кондратенко. – Эти черти за выступом прячутся! Ну, чего встал? – это было уже обращено ко мне. – Ждешь, когда они подберутся и завалят тебя на фиг? Вон твой сектор, работай! – он показал куда-то вверх и вправо, где в темноте угадывался гребень горы.
Дрожащими руками я рванул затвор, упер приклад в плечо, не различая ни мушки, на даже прорези прицела, и с силой вдавил спуск. Автомат загрохотал, задергался в руках и тут же смолк.
– Дебил! – проорал над ухом ефрейтор. – Куда так хреначишь?
Нет, разумеется, я стрелял далеко не в первый раз и еще с год назад, на полигоне, наловчился бить короткими очередями. Но нынче все, чему учили, мигом вышибло из головы, и я в страхе лупил в темноту, словно пытался оградить себя свинцовым веером из пуль.
Я быстро высадил все четыре магазина. Трофимов и другой боец опустошили свои еще раньше. Лишь Кондратенко пока еще держался, коротко постреливая во мглу.
Больше всего я завидовал сейчас тем, кто оставался на «блоке». Достать их, обосновавшихся на крутой горке, было сложно. К тому же кроме бэтээра с его мощным крупнокалиберным пулеметом у них имелось еще много чего, и самое главное – до фига патронов. Мы же были почти как на ладони, а автоматы у троих теперь стали бесполезными железками. Желание выжить буквально выталкивало меня из окопа: ползком на четвереньках до дороги, а там перемахнуть ее и карабкаться по спасительной тропе к «блоку». И будь что будет! Пусть азербайджанцы с армянами сами разбираются, чей Карабах – почему мне за них нужно башку подставлять?!
Наверно, я все же попытал бы счастья сбежать, но там, вдали, у дороги, воздух искрился кучей мелких светлячков, и мне казалось, что я даже вижу, как свинцовые пунктиры вспахивают каменистую землю, ковыряя в ней лунки.
«Эх, хоть бы у этих армян патроны, что ли, кончились!..»
В этот же миг рядом что-то оглушительно хлопнуло, больно швырнув в лицо комьями земли. Следом шарахнуло чуть левее, обдав жарким спрессованным воздухом.
– Обошли, твари! Говорил же: держите сектора! – как сквозь вату слышались ругательства ефрейтора. – Ложись, мать вашу, пока осколками не посекло!
Я упал, вжавшись лицом в холодную землю. И в сознании сами собой застучали слова: «Господи, Иисусе Христе! Помилуй мя грешного! Господи, спаси!» Да, я, в ту пору не крещеный, не знающий ни одной молитвы, откуда-то взял именно эти слова! И в минуты, когда рядом носились пули и рвались гранаты, не то что верил – знал, что Господь есть. И если кто и может спасти меня, то только Он.
«Господи, Иисусе Христе!..»
Я не услышал, а почувствовал, как все неуловимо изменилось. Сквозь звон в ушах пробился чей-то до боли знакомый голос.
– Кондрат, по моей команде хреначишь короткими, лучше даже одиночными. Пусть думают, что у нас патронам кирдык. Главное, чтобы эти падлы обозначились…
Над головой пару раз долбанул «калаш». В ответ вдалеке зло застучали автоматы. И через несколько секунд уши вновь заложило от мощного грохота, а спину обдало жаром. Первой мыслью было, что нас в конце концов достали гранатой, но потом вдруг я каким-то непонятным чувством осознал, что все наоборот. И что мы каким-то чудом, но уже спасены. Что Кто-то услышал, откликнулся на мои молитвы.
Сверху раздался хлопок, словно открыли шампанское, и через несколько секунд отозвался вдали приглушенным взрывом.
– Есть, точно положил! – раздался все тот же знакомый басок. – Отправь им еще парочку, а я сейчас этим альпинистам у скалы привет передам.
Я хотел было приподняться, но был довольно грубо придавлен сапогом.
– Лежи смирно, Аника-воин!
Вверху снова дико шарахнуло, надо мной пронеслась раскаленная струя, и я вжался лицом в землю, шепча: «Господи, Слава Тебе!».
Очухался, когда сильная рука подняла меня за шиворот и легонько хлестанула по щекам.
– Ну что, земеля? В штанах, надеюсь, сухо?
В предрассветной дымке я разглядел перед собой широкое, с рыжеватой щетиной лицо.
«Крутой!»
Замкомвзвода встряхнул меня за плечи и обернулся к Кондратенко:
– Короче, «калаш» с «гэпэшкой»9 оставляю на всякий пожарный. Хотя они вряд ли уже сунутся! А вы, – он окинул взглядом нашу перепуганную солдатскую троицу. – Разбирайте магазины и смотрите в оба, Аники-воины! – повторил он и, достав рацию, бросил в микрофон: – «Девятый» – «Осколу». Двадцать два!
– Принял, – прохрипело в ответ в эфире.
Крутилин одним прыжком вымахнул из окопа и резво пополз в сторону дороги.
– Чего тормозишь, Москва? – напустился на меня Кондратенко. – Живо заряжайся!
Только тут я заметил, что на дне окопа лежат четыре подсумка с полными магазинами, у сержанта в руках новый автомат с «подствольником», а к стенке окопа прислонен гранатомет.
– Это все Крутой на себе приволок, – шепотом сообщил мне Трофимов. – Под обстрелом! А как он классно этих чертей под орех разделал! По вспышкам засек, где они залегли, и как туда влупит из граника! А Кондрат вдогонку раза три из «гэпэшки» зарядил! А в это время наш «замок» опять из РПГ10 вжарил! На этот раз по тем, что со скалы по нам лупили! Однозначно всех там положил на хрен!
Но как оказалось, никого из боевиков не убило, а только посекло осколками. Об этом поведал пришедший днем на «блок» местный председатель Гасан – новости про все и про всех тут, в горах, разлетались быстрее эха. Этот крупный седой азербайджанец лет под шестьдесят очень сокрушался, что нам не удалось отправить к праотцам никого из ненавистных ему «армяшек» – так называл местный глава врагов-соседей. Кроме всего, он притащил нам лепешек, мяса и тутовки – местной и жутко крепкой водки. Жратву Крутой принял с благодарностью, а от выпивки отказался напрочь:
– У нас сухой закон, Гасан Нариманович!
– Да ладно тебе! – попытался было убедить его председатель. – Нервы-то надо успокоить, да? Вы же, считай, всю ночь воевали с этими шайтанами!
– Не всю ночь, а от силы минут пятнадцать! – поправил его замкомвзвод. – И не воевали, а так, зубы друг другу показали. Они же нас не атаковали, а просто решили нервы пощекотать, на вшивость проверить!
«Ничего себе «пощекотать»! – подумалось мне. – Да если они так нас на вшивость проверяли, что же будет, когда до дела дойдет!»
До дела дошло позже, когда наступила поздняя осень и зима, а после перестал существовать Советский Союз. А пока я, соснув пару часов после той жуткой ночи, снаряжал патронами магазины, повторяя про себя:
«Слава Тебе, Боже!.. Слава тебе, Боже…»
И на душе была такая благодать…
14
– Да, благодать… – повторил Серый.
Теперь он сидел с умиротворенным, но усталым лицом, на котором еще сохранялись следы недавней тревоги. От первого в жизни боя, от неизвестности, что поджидает впереди. Все это бывший рядовой Вознесенский пережил заново, прочно войдя в образ себя самого тридцатилетней давности.
Я взял в руки телефон, где в «Вотсапе» значилось уже два непрочитанных сообщения: от жены и от той, что недавно упорно названивала мне.
Вначале я открыл послание от благоверной.
«Я в автобусе. Скоро буду».
Я вздохнул и отпечатал в ответ:
«А я пока не дома. Неожиданно застолье нарисовалось».
«Понятно», – супруга поставила смайлик с грустным котиком.
«Постараюсь долго не засиживаться».
«Главное, не переусердствуй».
«Буду держаться», – я поставил смайлик, изображающий стойкого солдатика.
Вознесенский все еще не вынырнул до конца из своих воспоминаний, и поэтому я перешел к следующему сообщению.
«Будет время, перезвони».
«Я занят, Ларионова! Причем конкретно: бухаю с Нэссом», – отстучал я в ответ.
Серый по-прежнему находился в своей нирване. Я было хотел тряхнуть его за плечо, как вдруг он сам открыл глаза и посмотрел грустновато и мечтательно.
– Не поверишь, Коба: я никогда такой благодати больше не испытывал. Нет, ну разумеется, кроме того дня, как покрестился, и потом, когда впервые к Чаше подошел. И из армии, из этого долбаного Карабаха, лучше всего помню именно ту ночь, тот первый обстрел. Хотя ведь действительно тогда нас перебить не хотели, только постращали! Потом-то было куда круче и страшнее. А ведь гляди, едрен-шмон, именно тот момент и отпечатался в башке, как фотография. Как кино крупным планом! А самое удивительное: я в ту ночь впервые молился. Вот скажи, откуда мне тогдашнему было знать слова Иисусовой молитвы?
– Много откуда. Мог когда-то ее случайно услышать.
– А вот тут ты, возможно, и прав, – неожиданно согласился Нэсс. – Вот как раз в детстве я ее мог слышать. И не раз. От отца.
– От отца?!
– От него. Да, мой родитель ко всему прочему был верующим, даром что носил партбилет. Правда, ходил в храм тайком, одна мать о том знала. Он вообще не от мира сего был. Отслужил срочную, а потом взял и рапорт в училище накатал, чтобы еще двадцать пять лет в тайге комаров кормить! Нормальные люди, даже те, кто по несчастью родились в какой-нибудь захолустной деревне, правдами-неправдами старались в город вырваться. А мой, наоборот, из цивилизации – в самую глушь!
Вначале я не догадывался, что отец верующий. Ну разве когда чуть подрос, начал замечать, что несколько месяцев в году батя не ест ни мяса, ни масла, ни яиц и тому подобного. Но значения этому не придавал: до того ли было мелкому пацану! Пока однажды не попал с папаней на воскресную литургию.
Было это, как сейчас помню, в третьем классе, в декабре. У отца выпал редкий выходной, и он собрался съездить в райцентр. Сперва хотел один, но матери накануне кто-то сказал, что в тамошний универмаг завезли детские полусапожки-«дутики». Тогда эти уродливые чуни, похожие на обрубки слоновьих ног, были жутким дефицитом, и матушка велела отцу взять меня с собой. Сама же она накануне подпростыла, потому решила остаться дома. Со мной и батей отправилась и жена еще какого-то офицера. Вот с ней родитель и договорился, чтобы она заняла на нас очередь, а сам повел меня в соседний квартал, где стояла старенькая желтая церквушка.
Папаню там знали. Несколько бабушек поздоровались с ним, а с невысоким дедком в расписном золоченом одеянии батя даже трижды расцеловался. Потом отец оставил меня во дворе с какой-то малышней, а сам отправился в храм. Мне стало жутко любопытно, и я осторожно просочился следом.
Батю я увидел в дальнем углу, перед возвышением, за которым золотились резные врата. Там высилась подставка, похожая на нотную, что стоят перед музыкантами. На ней лежали крест и какая-то книжица в золотистом переплете. Рядом с отцом стоял высокий поп с длинной полуседой бородой. Родитель что-то говорил ему, а тот в основном кивал, но иногда и что-то отвечал. А потом… потом мой доблестный капитан вдруг опустился на колени! Я аж непроизвольно помотал головой, думая, что это померещилось. Но нет! А священник тем временем накрыл его своим раззолоченным передником и начал что-то шептать едва уловимым движением губ. А под конец ткнул раза четыре сложенными пальцами в покрывало, под которым была отцовская голова.
Батя поднялся, попеременно приник лицом к кресту и книжице. После они с попом поклонились друг другу. Затем родитель направился к выходу, видимо, проведать меня. Я быстро успел выскочить и присоединиться к малышне, лепившей в церковном дворе снеговика.
– Ну как ты? Не замерз? – в голосе подошедшего отца явственно звучали виноватые нотки.
– Не, – отозвался я.
– Если станет зябко, можешь зайти в притвор погреться. Или вон, – он кивнул на старушку, которая наблюдала за нами. – Баба Варя тебя чаем напоит в трапезной. Хочешь?
– Не, пока не хочу.
– Ну сам смотри.
Отец вновь скрылся за дверями. Выждав момент, я вновь тихо проскользнул за ним. Вначале потерял, а потом все-таки узрел его, стоящим справа у какой-то большой иконы.
Впрочем, вскоре я отвлекся от наблюдения за отцом. Вокруг творилось нечто таинственное. Вначале хор запел что-то протяжное. Слух различил только слова: «Иже Херувимы…». Откуда-то сбоку вышли тот самый поп и еще один мужик с бородой и в стихаре. Нет, разумеется, тогда мне не было ведомо, что это одеяние называется стихарем, а широкая лента через плечо – орарем. В руках у каждого было по золоченой чаше. Потом поп что-то произнес нараспев, кажется, про Патриарха и страну, но не советскую, а почему-то Российскую. После оба исчезли за вратами.
Потом все, кто был в храме, вдруг запели: «Верую! Во единого Бога…». Вышедший на возвышение тот самый бородатый дядька в стихаре и ораре взмахивал рукой, словно дирижировал. Потом он исчез и через какое-то время вновь появился, опять поднял ладонь, и все дружно грянули: «Отче наш!»
Я потерял счет времени. Прижавшись в уголке у притвора, глядел во все глаза, испытывая какое-то странное счастье, охватившее меня целиком, не сводя взгляда с резных створок врат, перед которыми горела свечка на подставке.
Я не засек момента, когда она исчезла. Тотчас же врата медленно открылись, и оттуда вышел священник, держа в руках уже знакомую золоченую чашу. Двое помощников в стихарях растянули под ней длинное ярко-красное покрывало. Поп нараспев прочел какую-то молитву, а затем народ, выстроившись в очередь, потянулся к нему.
Первыми поспешили мамы с маленькими детьми. Подносили совсем крошечных, подводили тех, что постарше, и каждый что-то отведывал с длинной золотистой ложки в руках священника. А все остальные в это время беспрестанно пели: «Тело Христово примите!».
После ребятишек пришел черед взрослых. Подошел и мой отец. Сложив крестом руки на груди, вкусил что-то с ложки, потом поцеловал чашу и отправился в сторону, где стоял небольшой столик и там та самая баба Варя разливала из чайника что-то в маленькие плоские чашечки.
Это было совсем близко, потому я все видел до мельчайших подробностей. Как батя взял с блюда маленький кусочек белого хлеба. Запил его из чашки. Широко перекрестился. Затем повернулся и в этот миг заметил меня.
Поначалу я испугался, что отец заругает за то, что подглядываю, но он лишь улыбнулся:
– Не устал? Подожди еще чуть-чуть, скоро литургия кончится.
Потом на возвышение вновь вышел священник и начал говорить что-то про сегодняшний праздник, про Богородицу, которую совсем маленькой девочкой в этот день ввели в Храм, про то, что это все было еще одним предвестием скорого пришествия Спасителя, и еще много чего таинственного и непонятного. Затем кто-то начал читать какую-то длинную и бесконечную молитву, а все вновь выстроились к попу и стали целовать крест в его руках.
И тут я, неожиданно для самого себя, встал в эту очередь. По мере приближения к амвону меня все больше разбирал страх, что во мне признают чужака – я ведь был некрещеный – и прогонят. Но когда приблизился, священник неожиданно ободряюще улыбнулся и сам протянул мне крест.
После того как я приложился к распятию, на душе сразу стало спокойно. И немного грустно, неведомо от чего.
Когда мы с батей выходили с церковного двора, нас нагнала баба Варя.
– Не хочешь оставаться, пусть хоть сынок гостинцев поест, – немного сердитым голосом протараторила она, сунув мне в руки пакет, в котором вперемешку лежали печенье, конфеты и даже мармелад.
– Мы бы остались, но нас очередь ждет, – оправдывался отец.
За «дутиками» мы успели. И даже взяли мой размер с небольшим запасом. А до самой электрички гуляли по поселку вдвоем, благо наши спутники, та самая тетка с дочкой, решили пробежаться по другим магазинам.
– Ты что, правда веришь в Бога? – спрашивал я отца.
– Да. Верю. И знаю, что Он есть, – отвечал тот.
Я молчал, пытаясь переварить услышанное.
– Хочешь спросить, почему в школе и еще много где говорят, что Его нет? – угадал мои мысли родитель.
– Ну да…
– Потому что люди ошибаются и заблуждаются. Ведь если на то пошло, кто сотворил этот мир: небо, землю, людей? Сейчас модно говорить, что это все произошло после Большого взрыва. Что из осколков разом получились земля, вода, деревья и обезьяны, от которых мы якобы произошли. Согласись, ведь куда больше похоже на небылицу, чем то, что все создано Великим Творцом?
– А почему тогда везде говорят, что Бога выдумали неграмотные люди?
– Потому что кроме Господа существует и дьявол, или черт, как его в основном называют. Если Бог – это добро, то дьявол – это, соответственно, зло. И он хочет отвратить как можно больше людей от добра. В свое время ему удалось обмануть много народа. И вот тогда и появились такие, которые стали всем внушать, что никакого Бога нет.
– И эти люди до сих пор нами правят?
Как меня угораздило додуматься до такого, не пойму до сих пор. Хорошо, батя не растерялся и не покривил душой.
– Нет. Те люди уже давно умерли. К тому же, видишь, церковь, где мы с тобой были, никто не закрывает. Просто пока осталось много тех, обманутых. Не надо их считать плохими.