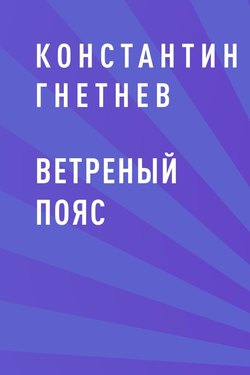Читать книгу Ветреный пояс - Константин Васильевич Гнетнев, Константин Гнетнев - Страница 1
ОглавлениеЧасть первая.
НА КРАЮ КОТЛОВАНА
Снегири взлетают красногруды…
Скоро ль, скоро ль на беду мою
я увижу волчьи изумруды
в нелюдимом северном краю.
Будем мы печальны, одиноки
и пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
седина нам кудри обовьет.
Я скажу тогда тебе, подруга:
"Дни летят, как по ветру листьё,
хорошо, что мы нашли друг друга,
в прежней жизни потерявши все…"
Павел Васильев,
февраль 1937 года
(стихи, написанные в тюрьме)
Если можно двумя словами назвать чувство, владевшее людьми на гигантском пространстве стройки, слова эти были бы ожидание и надежда. Сотни серых и уставших, кувалдой и зубилом дробивших камень и тачками выкатывающих в соседнее болото, ждали обеда и конца смены. Потом они колонной уходили в нетопленные, холодные бараки, чтобы расправить спину на жёстких нарах и немного отдохнуть. Надеялись только на одно: дотянуть до конца срока более-менее здоровым и уехать в деревню, «а уж там, на воле…»
Наивные…
Другие ждали окончания работ, новых должностей и мечтали о назначении куда-нибудь в управление, подальше от этого «грязного, вонючего скота».
Были и третьи, кто уже ничего не ждал. Они знали, что после этой каторги для них непременно явится другая, где всё повторится в ещё более жёстком и неприглядном виде, и что впереди нет никакого просвета. А надеялись они всяк на своё, потаённое. Они никому и никогда не признались бы, на что они надеялись.
1.
Осуждённый по статье 58, пункт 10 (пропаганда и агитация) на срок заключения пять лет Андрей Никитин надеялся, что ходатайство о переводе жены с Водораздельного отделения сюда, в восьмое, будет наконец-то удовлетворено. И для такой надежды у него были основания. Не только потому, что ходатайство уже третье за последнее полгода. Вчера лагпункт посетил начальник отделения Моисеев, и первый шаг к этому был сделан. Не слезая с лошади, Моисеев выговорил за что-то бригадиру, погрозил кнутом с обрыва в котлован и уехал в штаб на обед.
После обеда, подобревший и повеселевший, Моисеев зашел в учётно-распределительную часть. Здесь он по-хозяйски приобнял заключённого Никитина и, стараясь дышать в сторону, как бы в шутку попросил-приказал:
–– Ты, Андрюша, что-то давно статейки в «Перековке» не давал. Надо, надо бы дать статейку, а? Кадры работают, преступника исправляем, дело идёт согласно установленному графику. Статейка будет в самый раз.
С редакционных времён слово «статейка» ненавистно Никитину, но в этот раз решил промолчать. Пока сотрудники стояли, мучительно решая про себя, можно ли им сесть в присутствии большого начальника, Никитин протянул Моисееву ходатайство на жену.
–– У меня ведь непосредственный начальник есть, Семён Львович. Он работой загрузил, спать некогда. И мой вопрос уже полгода не решается. В третий раз вот обращаюсь. Никакой нет возможности статейки писать.
Моисеев коротко глянул в бумагу:
–– Решим. Она ведь у тебя с институтом? А у вас в проектной части, знаю, вакансия техника измерителя, так? – Моисеев повернулся к начальнику лагпункта Митрофанову. Тот быстро закивал головой. – Вот. И Андрюше слабину дай, чтоб наше отделение в «Перековке» прогремело. Не умеешь с кадрами работать, ёшь твою в корень, всё учить приходится, – завершил он грозно и удалился.
Весь в ремнях, с наганом, два ромба в петлицах, Моисеев все свои разговоры завершал жёстко, с раскатами в голосе. В штабе знали, что в подпитии начальник Восьмого отделения БелБалтЛага не раз хвастался, что его звание равно армейскому комдиву, а потому по мере сил старался соответствовать тому, как он это генеральство себе представлял.
Никитину за тридцать. Чуть выше среднего роста, всеми своими движениями источающий текучую, завораживающую силу, он казался спортсменом, хотя никогда им не был. Доброжелательный взгляд в глаза, мягкая улыбка, умение двумя-тремя словами предельно сократить дистанцию с собеседником, делали его своим в любой компании. «Человек из редкостной категории счастливчиков «сам по себе и всем друг», как говорили о нём в редакции.
Никитин убрал папки со стола в шкаф и подошёл к окну. Май вступил в полную силу, и теперь только узкая полоска зари на западе обозначила поздний вечер. На Севере начинались прозрачные ночи. Пора белых ночей – проклятая пора в лагере. Работа в это время не имеет ни начала, ни конца. А для административного состава она самая желанная. Не нужно тратить средства на обогрев и дополнительное обмундирование, хлопотать об освещении стройплощадок и усилении охраны. На дворе, что день, что ночь – всё светло и тепло.
Повсюду, куда ни глянь, взрытая земля, осколки скалы и люди, люди, люди… Вчера тело будущего шлюза едва замечалось в острых контурах взорванного гранита, а сегодня уже выкатчики-крючники тащат тачки с трёхметровой глубины. И сколько этих тачек может выкатить человек за бесконечную смену, знает только лагерный врач из поволжских немцев Грубер, сам измождённый и шатающийся от усталости.
В позднюю пору в штабе тихо. И на втором этаже, в учётно-распределительной части, пожалуй, самом многочисленном отделе штаба, погашены огни. Никитин перенёс на свой стол зелёную настольную лампу начальника и достал из-под вороха бумаг вчерашнее письмо жены Татьяны.
«Милый, милый мой Андрюшенька! Радость моя! Уж в каком письме подряд ты сетуешь и бранишь себя, что привёл меня тогда с собой на этот ваш праздник. Не надо. За год лагеря ты ведь убедился, наверное, что меня непременно арестовали бы вслед за тобой. Была ли я там, на ваших редакционных посиделках, или не была, – всё едино. Перестань! Ни в чём ты не виноват передо мной. Давай говорить о том, что с нами сейчас и что будет, когда весь этот ужас закончится»
Никитин отложил письмо и прикрыл глаза. Сколько же они не виделись? Год? Нет, больше. Он вспомнил её, встревоженную, торопливыми хлопотами пытавшуюся скрыть волнение. Он уходил из дома с повесткой и в душе надеялся, что допросят и отпустят. На что надеялась она? Никитин вспоминает лицо жены с чёрными кругами вокруг огромных глаз, её быстрые пальцы на пуговицах пиджака, щекотку локонов в последнем поцелуе у двери. Да, наверное, Таня права. Ведь и его арест был предрешён. Это как снежная лавина в горах: тысячи тонн снега висят, готовые сорваться в долину, – случайный камень, лёгкая пробежка зайца, и катастрофу не остановить…
Никитин вспомнил разговор с редактором после тех злосчастных посиделок. Ребята разошлись, они выпили по полстакана оставшегося по бутылкам портвейна, и редактор подсел к нему на продавленный кожаный диван. Склонившись чуть ни лоб в лоб, говорили вполголоса:
–– Ну, зачем тебе этот тон, Андрюша? Кого ты хочешь убедить, что они там, в каменоломнях на Гольце, все поголовно невиновны? И что разорили деревни ни за что? Думаешь, всё это сделано просто так, за здорово живёшь, да? Ты сам-то убеждён в этом? Не могут же все врать, правительство, органы, партийные кадры. Ты подставляешь не меня, а товарищей, свою газету…
Никитин молчал. Спор давний, все слова сказаны не раз. Что тут добавишь? Редактор, видимо, понял молчание по-своему, как очередной укор.
–– Да, я материал снял. Снял! Редактор и обязан был. Но думаешь, о нём не сообщили куда надо? Да в тот же день. Я? Что я? У меня работа такая, да, не сахар…
И редактор замолчал. «Боится наговорить лишнего, – подумал Никитин. – Да и чего он нового скажет, всё без него известно – и про стукачество в редакции, и про бдительных товарищей в ремнях». Они молчали, думая каждый о своём, о своей маленькой правде, как они её понимали в тот момент. И оба знали, что да, и коллеги они, и в одной газете, и общее дело – да! да! Оба любили свою работу, но всё равно, правды у них очень непохожие. Но где-то глубоко в душе с тем, что правда у них не одна на всех, не хотелось соглашаться ни Никитину, ни редактору.
–– Конечно, ты птица высокого полёта. Тебя знают, всем ты друг – и в ЦК, и в Наркоматах. Все хотят дружить с тобой. Как же – сам Никитин, известнейшая личность! Талант! В самой Москве известен! Горький поздравлял!
Редактор склонился к Никитину ещё ниже и уже не сказал, а прошептал прямо в лицо:
–– Но это не спасёт, дружище, не спасёт, поверь мне. Почему? Да потому, что каждый теперь своей тени боится, каждый сам за себя…
Где он сейчас, толстенький, умненький и вечно заполошный редактор? В первом письме, ещё с воли, Татьяна писала, что в редакции почти никого не осталось от старого состава. И Никитина его влиятельные друзья не спасли. Даже словом не вступился никто.
Никитин снова взялся за письмо:
«Счастье моё! Обо мне не переживай! Я устроилась очень хорошо! Так хорошо, что даже совестно перед тобой. Работаю в Общей части. Живём мы вдвоём с нашей машинисткой. Комнатка маленькая, заниматься тесновато, зато тепло. Здесь у нас прекрасная столовая: в 12 часов завтрак, в полпятого обед из двух блюд – это если доплатить 6 рублей в месяц. Я доплачиваю, потому что мне одних премиальных платят до 20 рублей в месяц. Это столовая для техперсонала.
Почти всё свободное время, а это с половины пятого до девяти вечера, я провожу в читальне. Библиотека здесь неплохая, устроена замечательным москвичом, учёным библиографом Г.И. Поршневым. А работаю я с удивительным человеком, красавицей, умницей, учёным астрономом и математиком Валентиной Михайловной Лосевой. Её муж философ и писатель А. Ф. Лосев работает в Медгоре, в проектном отделе. В.М. часто говорит о нём и жалеет, потому что у мужа слабые и больные глаза. Да, вчера я прочитала в газете ругательную статью о скаутах. Пишут ли тебе твои ребята? Где они? Что с ними стало?»
Никитин спрятал письмо и вернул лампу на стол начальника. Глаза слезились, и пора было идти отдыхать. Эти папки с сотнями листов, исписанных ужасным почерком и часто неграмотными людьми, которые ему приходится разбирать с утра до вечера, вгоняли в тоску. Глаза отказывались справляться с работой и к вечеру болели тупой болью.
Да, о ребятах из скаутского окружения он почти ничего не знал. Где они, Серёжа Шарыгин, Володя Зотов, Сергей Шибанов? Недавно случайно услышал, что Боря Солоневич на Соловках, уже прославляется на острове организацией спортивных соревнований и кружков по типу скаутских, правда, теперь среди заключённых. Боря не пропадёт, он настоящий спортсмен, «скаутмастер». Сам Никитин не успел, дотянул только до звания «сокола», что тоже немало.
В конце мая 1929 года ГПУ принялось за скаутское движение. Произошло это быстро и тихо, и они упустили время, вовремя не затаились. 13 ребят арестовали, а с ними и двух девчонок «гёрлскаутов». Как нас тогда называли? Да, «антисоветские скаутские банды». И то, если посмотреть глазами чекистов, настоящие «банды» и есть: форма, звания, дисциплина, многодневные походы в лес, тренировки по выживанию, хождению по азимуту, стрельбе… Разве такое возможно теперь?
Но почему после ареста следователь не вменил ему участие в движении? Не припомнил «сокола»? Загадка. Думать, что не знал, Никитин не хотел, не верил. Наверное, оставил на потом, как «крючок» на будущее, если вдруг понадобиться для добавления срока или шантажа. Появится нужда, и тут же поднимут бумаги: ага, вот он, голубок…
Никитин запер двери отдела и вышел. Короткое северное лето уже на пороге. В небе прозрачно и светло, несмотря на поздний час. Недалёкий котлован гудит ровным гудом, будто машина с запущенным двигателем, звенят кувалды ручного бурения, вскрикивают голоса.
Никитин узнаёт эти крики. Так кричат тачечники, изо всей силы вкатываясь из котлована на дощатый трап. Трап имеет наклон, и если заключённый с проволочным крюком – «крючник» вовремя не зацепит и не потянет наверх нагруженную битым камнем тачку, она покатится назад, опрокинется и придавит человека внизу. Из-за неповоротливых «крючников» каждую смену кого-нибудь из тачечников относят в лагерный лазарет с ушибами и переломами.
–– Что-то ты, Андрейко, поздненько сегодня, – пробурчал дежурный в столовой, украинец Титаренко. – Подмели вже усё.
Громадный, невероятной силы бывший колхозник Титаренко сидел за «вбивство комсомольца», с ударением на последний слог, как говорил он сам. Комсомолец с группой таких же активистов явились в дом, съели всё, что достали из печи, и забрали заготовленный на неделю печёный хлеб. Титаренко вытерпел. Комсомолец, хоть и крепко выпивший чужой самогонки, представлял деревенскую власть, самопровозглашённый «комитет бедноты». Но когда, наевшись и напившись, решил выгрести последнее зерно, Титаренко не стерпел и «просто толкнул» его, чем почти расплющил о стену дома…
–– Начальство держит, Петро. Начальству ведь наплевать, ел – не ел, спал – не спал. Сам знаешь. Посмотри, вдруг найдёшь чего.
Титаренко принёс в мятой алюминиевой миске жидкого супу и кружку прозрачного чаю. На гигантской 220-километровой сталинской стройке, растянувшейся на половину Карельской республики, закончился ещё один день.
2
Перед обедом Никитина вызвал начальник лагпункта. Бывший милиционер и такой же заключённый с пятью годами срока, Митрофанов работал много и честно. Так вели себя все они, бывшие милиционеры, прокуроры, районные и городские начальники, с первых дней в лагере мечтающие сделать карьеру и пробиться в нарядчики, бригадиры, мастера, завскладами. Пробившись, они создавали касту и держались друг за друга мёртвой волчьей хваткой.
–– Ну как, Никитин, над статейкой-то думаешь? Хозяин просил, надо сделать. Я тут дал распоряжение, чтоб тебя снабдили цифрами по объекту в разрезе бригад. Хорошие цифры, хорошие.
–– Меня вчера к ночи ноги еле до барака донесли. В отделе работы конца и края нет. Неграмотность сплошная. Мрак в делах.
–– Где же их, грамотных-то, на все лагеря наберёшься? Ты да я. Я что говорю: фактики подбери, цифирь какую, а потом разрешу день-другой поработать в читальне. Вот и напишешь. Лады? Надо, надо про Отделение в «Перековке» дать, чтоб хозяина в Медгоре видели и ценили. Ему двигаться надо, не всё в Шижне сидеть.
Перед дверью Митрофанов окликнул Никитина:
–– Погоди чуток. Ты что, на самом деле с Максимом Горьким ручкался? С великим пролетарским писателем, любимцем товарища Сталина вот так, как мы с тобой, беседовал? И какой? Ну да! Хвалил?! В своём журнале «Наши достижения» печатал?! Да-а-а…
Митрофанов откинулся на спинку стула и оценивающе поглядел на Никитина. Всем своим видом он давал понять: ты, конечно, птица, но и мы тут не просто так, кой-какую власть имеем.
–– Совсем забыл сказать. Решат с переводом жены с Водораздела, я отдельных хором для вас не имею, сам знаешь. Указание по лагерям вышло, супругов разрешено вместе содержать. Свидания там, встречи – это теперь можно. Да, хоромы не разрешат, нет. Но при лазарете комнатка есть, там медичка, вот туда её подселю. Медичка всё время на работе, не помешает. Ха-ха-ха… Понял? Ну, работай.
«Родная моя Танечка! Отрада моя и единственное счастье на Земле! Хлопочу о переводе тебя к нам в Отделение и, вроде бы, обещания от начальства имею. Даже комнатку для тебя подыскали при лазарете. Там девушка живёт, Варя, дочка сосланных кулаков. С виду смирненькая такая, робкая, но характер. Дважды бежала из спецпосёлка. Во второй раз сняли с поезда в Званке, в посёлок не вернули, а определили прямиком в лагерь, дали три года. Работает у нас в лазарете сестрой. Я уверен, вы подружитесь.
Как же мне тягостно здесь, радость моя сладкая! Грубость, невежество, хамство со всех сторон правят бал. Чтобы обрести радость увидеть тебя здесь, обеспечить хоть какую-то, пусть малую, защиту, соглашаюсь писать в газету. Большего насилия над собой, худшего надругательства над профессией человеческому разуму придумать невозможно. Ладно, я в лагере, но ведь и на воле так. Изредка хожу в читальню, просматриваю газеты: ни анализа, ни обобщений, ни мысли! Лозунги, цифры и цитаты. Цитаты, цифры и лозунги. И всё это перемежается бранью врагов. А врагов-то обнаружилось сколько…»
В бараке душно от сохнущей одежды. Ряды жёстких дощатых нар в два яруса, большая печь, выкроенная из металлической бочки, обвешена куртками и штанами и источает настоящий смрад. Заключённые курят, кто-то мечется и матерится во сне, зовёт маму, кто-то стонет протяжным, жалостливым стоном.
Никитин сидит за небольшим столом бригадира и нарядчика. Их угол занавешен старым одеялом, – здесь территория лагерных «придурков», обладающих какой-никакой властью над остальными. Да, власть у них маленькая, но вполне достаточная, чтобы отравить жизнь заключённому. Поэтому одеяло хоть и старое, но запирает пространство крепче, чем государственная граница. Никитину здесь никто помешать не может. Он думает о лагерной цензуре. Писать ли дальше? Пропустит ли? И решается…
«Милая моя Таня! Помню, на допросе следователь поучал меня:
–– Ваше дело – быть диспетчером пятилетки. Дайте примеры героизма в труде, бодрой работы, критикуйте нерадивых в низовых звеньях, пишите об итогах соревнования. Не ваше дело анализировать, копаться в цифрах – было-стало, умничать в масштабах страны. Это дело партии. Ленин указывал, что газеты должны стать «орудием просвещения масс и обучения их жить и строить своё хозяйство». Своё, понимаете вы, своё! А вы на что замахиваетесь? Вы куда зовёте? Чему вас только учили в институте журналистики?
Я ответил, что учили прежде всего думать.
Спрашиваю следователя, знаком ли он с брошюрой «Дискуссионный материал», где есть статья «Больные вопросы» и некоторые другие, как раз о роли газет? Он прекратил допрос и отправил меня в камеру. Дня через три снова вызвал и говорит:
–– В той дискуссии вам, конечно, больше по нутру позиция Мясникова?
–– Да, говорю, это разумная позиция, способная двинуть вперёд развитие социалистического общества. Мясников предложил Ленину дать свободу прессе в обсуждении злободневных вопросов современности. Мало того, предложил одну из газет вообще превратить в дискуссионный клуб. Помните, как он пояснил свою мысль? «Советская власть будет содержать хулителей за свой счёт, как делали римские императоры».
–– Да, и что же ответил наш великий вождь Ленин, тоже помните? Если нет, напомню. Владимир Ильич заявил, что смотрит на свободу печати в социалистическом обществе как на классовое историческое понятие и рассматривает как помощь врагу.
–– Он заблуждался.
–– Кто это заблуждался, Ленин?!! Это вы заблуждаетесь! Это вы помогаете врагу! А мы вас поправим…
Подумай сама, разве может будущее общество стать лучше, если у вождей подобная позиция? Что нас ждёт? Шараханье из крайности в крайность, преступное самодурство и, как следствие, топтание на месте. Печально…
Приезжай скорее, радость моя! Больше всего на свете хочется сесть напротив и бесконечно смотреть в твои глаза. Бесконечно! Или неожиданно проснуться среди ночи и слышать у плеча твоё тёплое и родное дыхание, как это было раньше.
Как же давно это было, Господи! Думаю об этом, вспоминаю, молюсь втайне, и слёзы наворачиваются от жалости, что мало было у нас такого в жизни, и что даже ту малость, что судил нам Бог, не очень-то берегли, всё думали, будет нам от счастья ещё много и бесконечно…»
Утром Никитин немного опоздал на службу. А когда поднялся в отдел, обнаружил коллег, собравшимися вокруг его стола. Тут же стоял угрюмый начальник лагпункта Митрофанов. Никитин подошел поближе и увидел, что стол залит чернилами. Чернила чёрными неряшливыми кляксами запятнали стопку оставленных с вечера бумаг и даже дела, которые, – Никитин помнил вполне отчётливо, – с вечера убрал в шкаф.
–– Что это? – спросил Никитин. – Кто это? Зачем?
–– Это мы должны спросить у вас, – мрачно ответил Митрофанов. – Сотрудники говорят, вы последним уходили с работы. И вахта подтверждает. А утром – такое…
–– Я хорошо помню, папки убирал в шкаф. Как они оказались на столе? Да, я уходил последним и всё оставил в порядке. Чья это работа?
В комнате повисло тягостное молчание. Его прервал Митрофанов:
–– Надеюсь, к вечеру вы восстановите испорченные документы и доложите мне. При этом основная работа не должна пострадать никак. Иначе я передам дело в информационно-следственную часть. Пусть они разбираются, вредительство это или простая халатность.
После обеда по дороге в штаб Никитина придержал за рукав Исаак Концельсон, пожилой статистик, совсем недавно, ещё года два назад университетский доцент. Лысоватый, согбенный, улыбающийся вежливой, виноватой улыбкой, он избегал разговоров, сидел за столом в углу и не участвовал в обсуждениях и, тем более, в спорах.
–– Дорогой Андрей, сказал он тихо, – ви прямой и открытый молодой человек. Извините меня, иногда лишне прямой и открытый. Имейте послушать старого еврея. Будьте осторожны. У вас таки серьёзные враги. Да, да! С некоторых пор я не имею желания шутить. И они таки подведут вас под новый срок.
–– Откуда у меня враги, Исаак Самуилович? Разве я строю кому-нибудь пакости?
–– В том-то и дело, что не строите. Вы слишком талантливы и известны, а маленькие заурядные люди таких не любят. Разве я делал пакости? У меня были десятки последователей и учеников, меня печатали и приглашали в президиумы ещё до советской власти. Но я вот здесь, как изволите видеть. А бездари и неудачники там.
–– Что же мне делать?
–– Будьте осторожны. Разве ви не обнаружили, что на лагерной сцене образ всеобщего любимца выглядит фальшиво, не канает, как сказали бы наши новые друзья уголовники? Здесь таки выживают другие. Станьте внимательным и недоверчивым. И простите еще один совет старика: не оставляйте в столе писем жены.
3
Нужно согласиться, на самом деле он многого не заметил, прожив в лагере целый год. Старался быть со всеми одинаково ровным, не кичился близостью к начальству, которую само же начальство всё время подчёркивало. Да, замечал косые взгляды коллег, ощущал недружелюбие блатных, которыми заполнен лагерь. Думал, ну что же, это нормально, не пряник и нравиться всем не обязан. Но чтобы возненавидели до такой степени, не предполагал.
«А чего, собственно, ожидать от лагеря, если на воле не лучше, – подумал он. – Если там едят друг друга поедом и не чураются оболгать».
Он вспомнил отца и тот тихий разговор с матерью поздно вечером на кухне, закончившийся слезами. Разговор, который он невольно подслушал. Отец только вернулся из театра и объявил, что во втором МХАТе не возобновляют «Орестею» Эсхила.
–– Сколько сил потрачено, сколько поисков и находок, и всё зря! – говорил он срывающимся, трагическим голосом. – Сколько вариантов сценических костюмов исполнил, ввёл достоверные детали из археологических находок! Боже мой! Одно золотое украшение ладоней Клитемнестры стоило десятка бессонных ночей!
Никитин слышал, как отец порывисто вскочил и в волнении заходил по кухне. Были, были у родителей волнения и раньше, и громкие разговоры, и спорили они подчас о чём-то таком, что Никитин не понимал по причине юношеского малознания. Но чтоб так? Наконец быстрые шаги стихли. Отец подсел к столу и продолжил взволнованным голосом, едва сдерживая себя:
–– Жалко, как жалко своего труда и труда режиссёра Смышляева, артистов труппы! Жалко Орлову. Она ведь часами отрабатывала с режиссёром жесты, скопированные с древнегреческих ваз и барельефов. Ты понимаешь, репетировала истово, до пота, до кровавых мозолей! Я тому свидетель! И всё насмарку!
–– А в чём причина? Закрыть спектакль – это же не просто так.
–– Сказали, «Орестея» «не ко времени». Да, пусть не ко времени, мол, кто-то из партчинуш углядел скрытые намёки. Но почему запретили «Золотой горшок» Гофмана? Почему сняли в театре Вахтангова «Когда проснётся спящий» по Уэллсу? Что творится у нас, а?
Мама слушала и молчала. Она умела молчать, как умеют редкие женщины. И часто этим молчанием сказано бывало гораздо больше, чем можно выразить словами.
Отец напротив, порывист, горяч и нередко излишне прям в суждениях. Он оформлял спектакли в московских театрах как художник сцены, занимался живописью, читал лекции по истории искусства, преподавал. Их дом всегда наполняли артисты, художники, режиссёры и литераторы.
Никитин вспомнил смешные объявления на входной двери. Когда маме становилось невмоготу постоянное многолюдье, она вывешивала на дверь объявление: «Никитины принимают по средам и воскресеньям в 7 часов вечера». Объявление помогало мало. На него просто никто не обращал внимания. Тогда она в отчаянии вывешивала другое: «Никитиных дома нет». Всё равно, в дверь стучали, пока у мамы или отца не кончалось терпение, и гостей впускали.
–– Ты что же, Лёня, не видишь, что многих уже нет в Москве? «Орестея»… Оглянись, – сдержанным шепотом говорила мама. – Как будто по цепочке идут: берут одного, тот с перепугу называет имена, адреса знакомых, сваливает на них несуществующие вина…
Мама помолчала, видимо, раздумывая, говорить или нет, потом решились и добавила:
–– И ведь к нам придут. Придут! Вчера получила телеграмму от свояченицы Марии Васильевны; её допрашивали, и она назвала наш адрес, мол, «бессмысленно скрывать, всё равно узнают».
Вышло всё в точности так, как предполагала мама. Отца взяли хамски, прямо с кафедры во время лекции, оборвав на полуслове. Маму вызвали повесткой на Лубянку, без вещей, будто бы на допрос об отце, и обратно уже не выпустили…
Никитин помнит катастрофу дома в квартире под названием обыск. От прежних жильцов Лопухиных в квартире остались гипсовые египетские копии из Музея изящных искусств. Всё было разрушено равнодушными, невежественными руками, – якобы, в поисках оружия. Что не разрушили – разворовали; унесли издание «Фауста» с гравюрами Доре, чудесное распятие ХV века из слоновой кости, даже деревянную иконку Богоматери на кипарисовой дощечке, и многое, многое другое.
Иконка воинствующему атеисту-богоборцу… Зачем? На рынок? Обменять на шмат сала? Кому нужен подобный погром? На что теперь надеяться в этом государстве? На кого? Что же им остаётся? Писать Самому, как это делают тысячи таких же, как Никитин?
Никитин вспомнил слова мамы о «цепочке». Но ведь он встречал и смелых, которых не так-то просто сломать, которые не только не боялись, но и откровенно презирали следователей. И они в свою очередь давали нужные показания. В чём же дело, не мог он понять? Что за наваждение опустилось на страну?
А дело в том, вдруг догадался он, что сильные духом интеллигенты, офицеры, священники верили, что следователи всерьёз хотят разобраться в существе дела, в той тотальной и кровавой бессмыслице, которая творится под маской правосудия. В обоснование собственной позиции они приводили аргументы, называли имена и факты. И вскоре становилось очевидным, что следователи вовсе не желали ни в чём разбираться. Для них всё было ясно с самого начала. Преступник назначался самим фактом ареста. Аргументация оправдывающихся служила лишь дополнительным набором информации для новых арестов, для сколачивания «вредительских групп», мифических «обществ» и тому подобного. Никитин знает несколько случаев, когда, обнаружив, что их злонамеренно использовали, сильные искали любой возможности покончить собой.
Зачем, зачем, зачем, непрестанно думал он. И как же ему жить дальше?
«Любимый мой Алёшенька! Как же я соскучилась по тебе! Ты не представляешь! Жду, жду, каждый день жду перевода к вам в восьмое отделение! Только бы увидеться с тобой, взять за руку и посмотреть в твои глаза! Всё бы отдала за это счастье!
Вчера с Валентиной Михайловной говорили о её муже. Он на Свири, сторожит склад с брёвнами, по восьми часов стынет на морозе. Учёный с мировым именем! И ты знаешь – рад! Рад! Пишет с юмором, что у него появилась редкая возможность неспешно подумать о науке и о жизни.
Алексей Фёдорович прислал вырезку из «Правды» со статьёй Горького о нём. Ты знаешь, мы прочитали и даже плакать не смогли, как оглушенные, просидели. И это Алексей Максимович! Как же он мог? Горький называет Лосева ненормальным и малограмотным, сумасшедшим и слепым, советует повеситься… Пишет, что в стране «с невероятным успехом действует молодой хозяин, рабочий класс», что «создаётся новая индивидуальность». Как же мы с тобой жили, если не заметили нового молодого хозяина? Где он? Или это те, которые в портупеях? А от хищной, неграмотной и вороватой «новой индивидуальности» вокруг тошно становится…
Очень хочу к тебе. Соскучилась и запуталась совсем! Вчера читала Чехова. Вот маленький и неприметный человек прошлого века – его герой. Может, правы те, что считают, что именно маленький и забитый чеховский герой, наравне с бродягами челкашами, выходит теперь на авансцену истории, расправляет плечи и становится главным созидателем и творцом – тем «новым хозяином», о котором пишет Горький? Что нынешнее время – это для него?..»
«Милая, милая моя Таня! – думал Никитин с грустью. – Стройная, хрупкая, как девчонка, с большими доверчивыми глазами и сильной, до сих пор романтической душой. Тебе-то каково в этом аду? И почему так распорядилась судьба, что меня нет с тобой рядом?»
Из штабных окон второго этажа видно серое глинистое дно будущего канала. Вереницы лошадей, запряжённых в телеги-грабарки, вывозят грунт в отвал. Десятки заключённых копошатся в оттаявшем и теперь жидком месиве плывущего грунта.
Река здесь делает плавный поворот на северо-восток, и поворот этот инженеры-проектировщики сочли неудобным для будущего судоходства. Канал прокладывают напрямую. Часть берега превращается в остров. За ним, на противоположном берегу, устроили большой песчаный карьер. Виднеется редкая гребёнка худосочного северного леса.
Что дальше, Никитину из окна не видать, но он знает, бывал там не раз. Дальше будет дорога к райцентру, а за дорогой, вплотную, большой забор второго отделения-командировки. С противоположной стороны лагерная территория примыкает к берегу широкой и быстрой реки. Течение там настолько сильное, что переплыть русло невозможно – подхватит, унесёт и разобьёт о камни, затянет в стремительные буруны. Поэтому здесь нет даже забора. А за рекой вплотную топкое болото без конца и края, до самой финской границы.
Именно здесь, за рекой, начинается путь на Запад, в Финляндию, – сладостная мечта заключённых, решающихся «на рывок», как здесь говорят. Бегут часто, но недалеко. Куда там убежишь? Пребывая однажды в благодушном настроении, отделенческий уполномоченный НКВД, рассказывал, что до границы придётся пересечь множество мелких и крупных рек, а на реках стоят деревни и хутора с постами красноармейцев из охраны.
«Думают, мы дураки, мух ловим. Никто ещё от нас не ушёл», – говорил чекист, попыхивая папиросой. Хотя Никитин слышал разговоры, что две группы хорошо подготовленных людей ушли. Говорили, побег организовали бывшие офицеры-армейцы. Но о таком громко никто не судачит. Как говорится, себе дороже.
После обеда в штаб принесли «Перековку» с его корреспонденцией. В отделе газета пропутешествовала со стола на стол. Коллеги жадно прочитали текст и ответили Никитину сосредоточенным молчанием. А перед концом рабочего дня вызвал Митрофанов.
–– Молодец, Никитин! Хорошая статейка! Хозяин с утра звонил, велел передать благодарность. Наше Отделение на слуху, работу замечают в центре, значит, и нас не забудут если что.
От похвал, от самого вида текста, завёрстанного подвалом в газетной полосе, что лежала на столе Митрофанова, Никитину стало стыдно. «Как потаскуха, – подумал он про себя с горькой безнадёжностью. – Используют, как хотят. Продаюсь за чечевичную похлёбку». Он ощутил вдруг такое бессилие, такую безнадёжную тоску, что захотелось выть.
–– Ты ведь в бараке живёшь?
–– Да, у нас выгородка на четверо нар: бригадир, нарядчик и нас двое с инженером из техотдела.
–– Ты вот что… Я уплотнил домик специалистов, там есть комнатка. Комендант поставит стол и всё, что требуется: чайник там, стаканы. Место маловато, конечно, но будет где подумать.
–– Над чем? Ещё статейку писать?! – не удержался Никитин.
–– Ну, не сразу, не сразу. Мы же с понятием. Да и скромнее нужно, иначе ведь и поправить могут: не по-большевистски, мол, зазнались, не одни вы в передовиках.
Комнатка в доме специалистов оказалась хоть и крохотной, но на самом деле уютной. Большую часть пространства занимала печь, точнее, один её бок. Другой бок обогревал соседнее помещение. Топилась печь из коридора. И что очень важно – комнатка была тихой и обещала жизнь без вони, храпа и матерщины по ночам.
Никитин исследовал комнату в надежде отыскать тайный уголок, где можно спрятать письма от жены. Такого уголка не нашёл. Зато оказалось, что столешница состоит из двух слоёв – внизу доски, а сверху крашеная фанера, с небольшим пространством между ними. Вот туда Никитин и решил складывать Танины письма, оберегая от чужих глаз.
«Здравствуй, милая моя, ненаглядная жена! Слышно ли тебе что-либо о переводе к нам? Не называло ли начальство сроков? Я готовлюсь и жду, жду каждый день! Просыпаюсь в надежде – вот, вот окрикнут: «Никитин! Бегом на вахту, встречай жену!» И я тотчас брошусь встречать!
Как же приятно думать об этом, как мучительно считать дни ожидания, ты даже не представляешь!
У меня произошли перемены в быту. Переселился из барака в отдельное жильё. Митрофанов выделил комнатку, там тепло и уютно, а главное – тихо. Я осмотрелся и уже даже обжился. Как приятно будет нам вдвоём думать здесь о нашем будущем! Оно скоро наступит, правда ведь? Я стану работать ещё больше, выпущу книги, буду писателем. Мне ведь так много нужно рассказать людям, о многом предстоит написать, причём открыто, прямо и честно. Так, чтобы не было стыдно перед тем, кто придёт потом, после нас.
Ты спрашиваешь о маленьком герое Чехова, вдруг ставшем «хозяином». Да, старая литература дала нам целый сонм маленьких героев. И Гоголь, и Достоевский вывели людей, от которых ничего не зависит, которые не нужны ни государству, ни обществу, никому. Незаметные, лишние… Но разве сегодняшнего маленького, заурядного человека можно называть «новым хозяином»? Он хозяин чего, если не вправе распорядится даже собственной жизнью, делом и семьёй? Мы с тобой разве хозяева, оказавшись на канале, хотя обладаем знаниями и многое можем сделать на пользу стране в своём положении? Какие преступления перед государством мы совершили?
Помнишь Чеховскую «Скрипку Ротшильда»? По мне хозяин сегодня – это герой рассказа Яков Брынза, с его навязчивой идеей во всём видеть убыток. Помнишь, он подсчитал, что из-за праздников и воскресений в году теряется до двухсот дней, а это сплошной убыток. Даже смерть казалась ему полезнее жизни: не нужно ни пить, ни есть, ни податей платить. Нечто подобное о людях я слышу вокруг каждый день. Вот Яков Брынза сегодня и есть настоящий хозяин…»
Среди рабочего дня вызвал Митрофанов.
–– Пойдём, встретим этап, – хмуро бросил Никитину, едва тот появился в дверях.
–– Жена?! – обрадовался Никитин. Сердце его обрадовано заныло.
–– Не спеши, – осадил начальник, грузно поднимаясь из-за стола. – Там, – он показал пальцем в потолок, – дела быстро не делаются.
У вахты стояла колонна понурых, донельзя усталых и осунувшихся людей. Охрана и комендант проверяли списки, выкрикивали имена, беспрерывно ругались. При виде Митрофанова суета и ругань только усилились – охранники показывали службу начальнику.
–– Два новых барака на неделе поставили, – сказал Митрофанов, – и уже полны. А всё гонят и гонят.
Они ещё немного потоптались у лагерных ворот. Потом Митрофанов махнул коменданту рукой, чтоб продолжал, и они медленно пошли в посёлок по убитой до бетонного состояния дороге.
Никитин пытался понять, зачем Митрофанов взял его с собой, но не мог. Справа и слева сияли свежим пахучим тёсом приземистые бараки. Вдали виднелась конюшня, за ней другая, а за бараками, метров на триста, вплоть до кромки леса уже взялись молодой зеленью распаханные с осени поля.
За дверью барака резко пахнуло привычным едким настоем немытого потного тела и сырой несвежей одежды. Дежурный кинулся к Митрофанову с докладом, но начальник остановил:
–– Хоть бы двери открыл, помещение проветрил, скотина! Дышать нечем! – рявкнул Митрофанов. – Всё у печки сидишь, ёшь твою мать! Лето на улице…
Тесные нары из досок. Вместо пола горбыль, брошенный прямо на землю… Никитину знаком суровый уют лагерного барачного быта. Он знает и другое, – что будет тут вечером после окончания рабочей смены, когда сотня измученных заключённых ввалится, чтобы забыться на несколько часов, свернувшись клубком и не чувствуя ни спины, ни рук. Каким станет воздух, пропитанный мокрой одеждой и обувью и сдобренный матом и махорочным дымом.
–– В доме специалистов не так? – с усмешкой спросил Митрофанов. Никитин промолчал. «Благодарности ждёт», – подумал с досадой. – Не так, знаю, – продолжил начальник. И без перехода добавил: – Я ведь тебя, Лёша, что позвал? Отбываю через пару дней. Перевожусь.
–– Куда?
–– Далёко. Железную дорогу строить в Коми республике. Бумага пришла из центра, нужны добровольцы, опытные кадры. Вот заявление написал.
–– А тут-то чего не работалось? Дело знакомое, уважают.
–– Здесь недолго осталось. Потом в Дмитров, новый канал строить. А Дмитров под Москвой, туда начальство полюбит наезжать, контролировать и командовать. Там ухо держи востро! Знаю, проходил. Уж лучше подальше с глаз. Больше шансов уцелеть.
Среди дня в лагере спокойно. Размеренно тюкают топорами плотники на стропилах очередного барака у самого леса. Возле столовой ожесточённо скребёт громадный чан доходяга дежурный, очищая от пригоревшего после утренней готовки…
–– Вчера к ночи с уполномоченным отвальную соорудили, – продолжил Митрофанов, понизив голос. – Выпили по-мужски, – всё как положено. Так вот. Ты, Никитин, мужик правильный, хочу напоследок предупредить: зуб на тебя имеется. Чей зуб, врать не буду, не знаю. Уполномоченный принюхивается, копает и в дело подшивает. Застрять на зоне можешь надолго. И жена приедет очень некстати. Через неё тебя могут быстрее достать. Другого предупреждать бы не стал…
4
В оставшиеся полчаса-час до окончания работы Татьяна взяла журнал с новой повестью знакомого по редакции «Красной Карелии» журналиста Серёжи Хряпина, которую не успела докончить дома. Серёжа стал писателем и взял псевдоним Норин, чем вызвал грубоватые шутки коллег журналистов, мол, «мы тоже так иногда поступаем: хряпнул и в нору…». Она села в уголок поближе к печке, но читать не смогла. Мысли разбегались, и никак невозможно было сосредоточиться. И жалость, жалость подступила комком к горлу.
«Он ведь тут совсем рядом, – думала она о муже. – Километров двести, не больше. А кажется, будто на другой планете».
Как живёт без неё, что ест, о чём думает…
И стало так горько и за него, и за себя тоже, что невольно выкатились слёзы. Вспомнила детство и почему-то детские обиды, что впечатались в детское сознание и, как оказалось потом, во многом определили взаимоотношения с другими людьми.
…Вот она, наверное, четырёхлетняя, лежит в тёплой и уютной комнатке и готовиться спать. Мама перекрестила на ночь её и брата, поцеловала и оставила с няней, молодой девушкой из деревни. Прежде чем забраться под одеяльце, она встала в кроватке на колени и, как учила мама, креститься и молиться на образок в изголовье. Вдруг няня подбегает и с силой тычет лицом в образок. От неожиданности и обиды она громко плачет: «За что, почему?» – спрашивает у мамы сквозь безутешные рыдания. Няню назавтра отпустили, а обида и вопрос остались…
И другое вспомнилось – как сама обидела младшего братика. У него был любимый платочек с дудочками, нарисованными по углам. Он ей тоже нравился, но братик никак не хотел отдавать. И однажды она платочек отобрала, силой, просто так. Как горько он плакал, маленький, обиженный, жалкий… И ей стало ужасно стыдно за себя, и она плакала тоже, плакала от нестерпимого стыда за свой поступок. И много позже, когда уж и братик давно позабыл о платочке, всякий раз, вспоминая об этом поступке, ей становилось горько и стыдно…
Она отложила книгу и села за письмо. Иные события вдруг пришли на память. Ей захотелось поделиться с мужем именно сейчас. «Это очень важно, – с волнением подумала она. – Я должна, я непременно должна!»
«Милый мой Андрюшенька! Помнишь наш отпуск на юге, в деревне, в горах? Там мне довелось пережить необычайное душевное состояние. Я не рассказала об этом тогда, просто не смогла, не сумела. А оно осталось, будто высеченное на сердце огненными письменами. Было так.
Однажды после разговоров с нашими замечательными хозяевами мне не захотелось возвращаться в дом. Ты помнишь эти душевные разговоры, в которых лучше всего узнаются родственные, близкие сердцу люди? Я села в саду на землю и, прислонившись к дереву, стала смотреть в бездонное тёмно-синее небо. Зажглись первые звёздочки. Наступила удивительная тишина. Смолкли цикады, не было ни малейшего шороха, ни звука, ни дуновения ветерка. Казалось, природа застыла в каком-то благостном покое, и покой этот постепенно сообщался мне.
Потом взошла полная луна, и всё заполнил её необычайно яркий голубой свет…
Представь себе: над всем миром разлился океан живого света. Никогда прежде я не видела ничего подобного. В волнах голубого света всё казалось таинственным и нереальным.
Я была, как во сне…
Сколько времени прошло в блаженном покое, не помню, вероятно, много, потому что, когда я очнулась, луна стояла уже высоко. Всё было так невыразимо прекрасно. Мной постепенно овладевало непонятное волнение и восторг. Я уже не могла сидеть на месте и стала бродить по саду. Напряжение нарастало и нарастало, оно становилось мучительным. Нужно было что-то сделать, как-то его выразить, но как – я не знала. Я не могла понять, что происходит со мной, так как никогда прежде ничего подобного не испытывала. Хотелось слиться с этим живым светом, погрузиться в него, раствориться в нём…
Мною овладело какое-то исступление…
Я обнимала деревья, прижималась к земле, ласкала траву и цветы. Сердце то бешено колотилось, то совсем замирало. Казалось, душа хочет вырваться из тела, и стоит сделать только одно усилие, и она освободиться, а за этим наступит блаженство и покой. Я чувствовала себя невыразимо счастливой, соприкоснувшись с какой-то тайной. И чувство это не имело ничего общего с тем, которое я испытывала прежде. До сегодняшнего дня, мне не удавалось испытывать ничего подобного. И я не знаю, зависит ли это только от меня, или, может быть, от особенного места, в котором хотелось бы оказаться снова.
Да, родной мой Андрюшенька, я очень, очень хочу испытать это ощущение вновь. Я очень хочу снова найти такое место на земле, где буду так же невыразимо счастлива. Знаешь ли ты, где найти такое место? Сумеешь ли отвести меня туда?».
Она отложила письмо и снова попыталась читать, но и теперь ничего у неё не получилось. Татьяна вытерла слёзы. О том, что случилось потом, после возвращения с юга домой, ей писать не хотелось. Потому что дальше была темнота, был арест…
На двери квартиры они обнаружили наклеенную бумажную ленту с печатью ОГПУ НКВД. У них в доме был обыск, и ГПУшники оставили у соседей ордер на арест для Андрея. Они поняли, что час испытаний настал и для них, и нужно быть мужественными. Андрей позвонил по телефону, указанному в ордере. Ему сказали, чтоб захватил вещи и пришёл сам. Через несколько дней повестку принесли и ей. В повестке предлагалось явиться к следователю к 10 часом. Она решила, что следователь снимет показания и отпустит, поэтому взяла с собой только книгу. Но вышло иначе…
«…Пытаюсь читать Серёжину повесть про взорванные горы и не могу. Почему и он, и другие так плохо пишут о прошлом? А слова-то какие подбирает! Тут и чахлая сосна, и чахлый кустарник, и хилые огоньки деревни, и тёмные, сплошь неграмотные люди вокруг. Всё это только в первых двух абзацах.
Почему им, таким молодым и сильным современным людям, непременно хочется показать прошлое таким низким? Я этого не понимаю. Надеюсь, очень надеюсь, что нас соединят очень скоро, и ты объяснишь мне эту странную тенденцию современной литературы. Ты ведь у меня умный. Правда, объяснишь? Договорились? Только не позабудь! И ещё. Получал ли ты известия от родителей? Где они? Что с ними? Узнаешь, непременно сообщи мне. Хорошо?»
В общежитии Татьяну встретила взволнованная Валентина Михайловна:
–– Танечка, где вы были? Вас спрашивали…
–– Кто же? Когда?
–– Приходил человек из штаба. Завтра в шесть в восьмое отделение идёт машина. С машиной поедут трое вольнонаёмных, сопровождающий и вы. Вот и соединитесь. Как я рада!
Не в силах вымолвить слова, Татьяна замерла и, судорожно глотнув воздуха, словно перед броском в воду, кинулась на шею Лосевой:
–– Дождалась, дождалась… Слава тебе, Господи! Боже, Боже мой!
И обе залились слезами…
В эту ночь поспать им так и не удалось. Напившись чаю, прилегли и проговорили до утра.
Лосевых после ареста разбросали по разным лагерям: Валентину Михайловну в Сибирские лагеря, в Боровлянку на Алтае, его в Свирьлаг, в Важины. Многих хлопот стоил её переезд на Беломорстрой. Теперь все усилия Валентины Михайловны, и её родителей Соколовых в Москве были направлены на перевод Алексея Фёдоровича на строительство Беломорканала. Дело осложнялось тем, что слабый глазами профессор Лосев стремительно терял зрение, «засаженный за канцелярию».
–– Знаете, Таня, мне вдруг захотелось писать картины, причём красками, – сама удивляясь неожиданной для себя страсти, говорила Валентина Михайловна. – В тюрьме я вышивала картинки разными нитками. Посылала маме с просьбой переслать мужу. Не знаю, получал он или нет. Понимаю, картинки сделаны плохо, я ведь не умею по-настоящему, но уж очень хотелось выразить чувства, показать ему, поддержать.
Валентина Михайловна замолчала и долго смотрела в окно. За окном плыла по-над лесом лёгкая дымка белой ночи, и заря уже показалась узкой багровеющей полосой к ветру. И, будто оправдываясь, продолжила:
–– Особенно хотелось, чтоб мама переслала маленькую сумку, а на ней избушка у озера и одинокая, далёкая дорога к заходящему солнцу. На небе тихое золото, светлое, безоблачное… Но нитки плохие, нет подходящих цветов… Очень хочется выразить себя в искусстве, Танечка. Так много молчалось и переживалось внутри, что всё перекипело внутри, сублимировалось во что-то иное и теперь хочется выразить себя бурно…
Не знаю, что с этим делать? Может быть, это ложно и блудно? Однако на сердце нет чувства, что плохо. Родина моя, куда же нас жизнь приведёт? Ни берегов, ни краёв не видно…
Под утро, когда и наговорились, и наплакались, Валентина Михайловна с неожиданной твёрдостью в голосе попросила серьёзно поговорить с Андреем:
–– Таня, он у вас талантливый, – я читала его статьи в библиотеке. У него будущее писателя. Но убедите перестать писать то, что он пишет теперь в газете. Он погубит себя. Большой талант не может стоять на обслуживании власти, это невозможно, это конец. Помните у Пушкина: «Уж лучше посох и сума…»
Ехали долго…
Казалось бы, почти лето, но всё, что видела она из кузова тряской полуторки, было безжизненно и серо: лента дороги в блестках подмёрзших после ночного морозца луж, низенький лес по сторонам и болота, болота, болота…
Татьяна вспоминала бурный юг, поездки вдоль лазурного моря и горы, с которых водный и воздушный мир простирался перед глазами на невероятные, немыслимые расстояния. Здесь же, с горечью думала она, природа скорее давит к земле, нежели дарит ощущение полёта. И только мысль, что скоро, ещё чуть-чуть, и дорожная пытка закончится, машина встанет у лагерных ворот, и она, наконец, увидит его. Свершится то, чего так долго ждала, на что надеялась все дни и ночи их разлуки.
Она вспоминала рассказы Валентины Михайловны об этапах на Алтай, о тюрьмах и набитых людьми камерах и подумала вдруг, что, пройдя путь от Бутырок до Медгоры, с заездом на Нивастрой под Кандалакшей, где прожила четыре месяца, не смогла бы уцелеть, если бы не чувствовала небесной помощи в самые критические, отчаянные моменты. Вспомнила, как в маленькой камере, куда её поместили во время следствия, свободным пространством оказалась лишь табуретка у стены. Всё остальное было занято женщинами. Они сидели и лежали, некоторые заходились кашлем, бредили и метались в сильном жару. Наутро оказалось, все они больны сыпным тифом…
Больных унесли, остальных отправили в баню, а вещи на дезинфекцию. И меховой капор, и рукавички, переданные мамой на свидании, пропали. Остались лишь лёгкая шапочка да большой шерстяной шарф мамы Андрея, Веры Георгиевны. Шарф оказался надушен прекрасными французскими духами, и теперь путешествовал по камере. Каждая женщина хотела прикоснуться к нему и ощутить небесный, незабываемый аромат.
Закончилась осень и незаметно, за одну ночь, наступила зима, и шарф в буквальном смысле спас её во время долгого этапа на Север.
А большая камера в пересыльной тюрьме, заполненная мужчинами…
Что стало бы с ней тогда, и подумать страшно. В камере были только две женщины: она и другая, задержанная за проституцию. Особенно приставал молодой парень, от которого она не знала, как отделаться. Уже было отчаялась, решив, что поспать ей сегодня не удастся совсем, как к ней подсел громадный татарин Шакир. Он поделился хлебом и сказал: «Не бойся. Со мной тебя никто не тронет». И всё равно, она боялась так, что не сомкнула глаз за ночь.
…От железнодорожной станции до лагеря нужно было добираться три дня, с ночёвками в деревнях на полпути. Отобрали десятка полтора женщин, дали двое саней и мальчишку милиционера Сеню в качестве сопровождающего. А у неё шапочка, шарф и фетровые ботики. Милиционер, замыкавший невесёлое шествие по снегу, сказал: «Гражданочка, в таких сапожках только в городе ходить. А в поле снегу по колено. До ближайшей деревни не дойдёшь, как без ног останешься». И разрешил сесть в сани.
В деревне хозяйка положила ночевать на печь. Среди ночи почувствовала, кто-то забрался на печь и крепко обнимает. Оказалось, Сеня пришёл требовать «благодарности». Спасло, что печь оказалась узка и во время борьбы она свалилась на лавку, что стояла рядом…
Утром заявила милиционеру:
–– Пойду вместе со всеми.
–– Почему?
–– Потому, что даром пользоваться снисхождением не хочу, а благодарить так, как хочешь, не могу.
–– Ну и замерзай, – ответил Сеня, – раз такая гордая!
И почти сразу она стала отставать. Идти тяжело, и ботики постоянно забивались снегом. В начале лошадей и заключённых ещё можно было видеть, но потом по обочинам появились кусты, дорога свернула в лес, и она осталась одна среди невообразимого снежного пространства.
А день выдался чудесный! Светило яркое солнце. На ослепительно белом снегу лежали синие тени от придорожных кустов. Но мороз и мокрые ноги делали своё дело – она начала замерзать.
«Буду идти, пока хватит сил, – думала, будто в забытьи. – А потом сяду на снег и замёрзну. Говорят, это лёгкая смерть. Перед ней снятся чудесные сны».
И вдруг ей стало так горько и жалко себя, что невольно потекли слёзы. Слёзы вытекали и замерзали, превращаясь в капельки льда, едва докатившись до подбородка. Всё существо противилось смерти. Она стала думать, что такой конец невозможен, нелеп, если уже она перенесла столько испытаний и тягот. Разве можно! И заставляла, заставляла себя идти, хотя ни ног, ни лица уже не чувствовала…
Партия заключённых поджидала её в деревне. У крыльца хрупали сено заиндевелые кони. В избе натоплено и вкусно пахло варёной картошкой. Она не помнит, как её раздели женщины, как оттирали окоченевшие и нечувственные ноги. Очнулась только от горячего чая и Саниного бормотания, что виноват, что ругал себя и что она «зазнобила его сердце».
К лагерю подъехали поздно вечером. Пока охрана, недовольная, что её побеспокоили в неурочный час, переругивалась с сопровождающим, Татьяна огляделась. Русло реки, запруженное плотиной полутора километрах выше, глинистое, даже с виду липкое, грязно-серое пространство бывшего дна на сотни метров вокруг, горы взорванного камня…
Картина показалась ей привычной, не раз виденной на Водоразделе. На другой стороне, где теперь, видимо, намечен берег канала, она увидела ряды бараков и лагерных построек в строгой геометрии полей и дорог. Где-то там её ждал муж…
«Скорей, скорей, что вы копаетесь,– мысленно поторапливала она охранников. Ей хотелось громко кричать: «Андрей! Андрюша! Где же ты! Я приехала! Я рядом!»
Старший смены, молодой офицер, повёл женщин к баракам, потом разделил группу и указал Татьяне на домик в отдалении:
–– Вам туда. Там лазарет и комната при нём. В шесть подъём. На разводе определят рабочее место.
–– Можно узнать, где живёт заключённый Андрей Никитин?
–– Узнаете завтра. В ночное время ходьба по лагерю запрещена под угрозой штрафного изолятора.
На стук открыла девушка. Она будто бы ждала. Молча, по-хозяйски, налила в рукомойник свежей воды умыться с дороги, расстелила бумажную скатёрку и выложила весь свой запас – немного хлеба, кусочек варёной трески, налила тёплого чаю.
От дорожной усталости у Татьяны кружилась голова. Она прикрывала глаза, и алюминиевая кружка на столе, и печь, и лицо новой соседки Вари начинали медленно уплывать куда-то вправо и вниз.
Силы у неё закончились…
Как ждала она встречи, как мечтала, что увидит и побежит, броситься на шею…
А вышло по-другому. В последний момент подумала, какая она жалкая сейчас, в этом замызганном, потерявшем цвет пальтеце, которое весь последний год служило и матрацем, и одеялом, и пледом, и ещё чем только возможно на этапах и пересылках. И какая же она некрасивая! Что осталось от женщины, которую видел он в последний раз?
Ей захотелось убежать, спрятаться…
«Господи, Господи! – думала она в панике. – Что же мне делать? Как же мне быть?» И снова захотелось плакать. Но она сдержалась, ежеминутно сглатывая ком, подступивший к горлу. А когда он вошёл, уже ни о чём не думала. И не говорили они не о чём, а просто стояли, тесно прижавшись друг к другу, и молчали…
Было тепло и тихо. Ночами ещё холодало, и с вечера дежурный подтапливал печи в лазарете и у них в комнатке. Они лежали и снова привыкали друг к другу. Он тихонько убирал её прядки за ухо и медленно проводил пальцами по ключицам. Прядки снова падали на висок и он снова их убирал.
Ей было стыдно за своё тело. Она всё время пряталась у него на груди, всё больше сгибаясь в его руках, будто хотела свернуться ёжиком и уползти к животу, в колени.
–– Совсем ты у меня исхудала, – говорил он радостно и тихо. – Ну, разве так можно? Молодая, красивая, а так довела себя, а?
Она виновато вздыхала где-то внизу и ещё больше уползала к животу, пряталась.
–– Вот и вместе. Теперь заживём. Да, счастье моё, заживём, – приговаривал он почти шепотом, и сердце его разрывалось от жалости и бессилия. – Теперь-то мы друг от друга никуда, – шептал он и чувствовал горячие капельки у себя на груди. – Не надо. Что теперь? Новая жизнь у нас. Радость…
Ожидания Андрея не сбылись. Он думал, теперь будет рядом с женой, по мере сил станет опекать её, но у начальства на Татьяну обнаружились свои виды. Она оказалась весьма полезным работником и с раннего утра и до позднего вечера пропадала на строительных площадках. В сопровождении одного-двух рабочих-нивелировщиков Татьяна спускалась в котлованы, бродила среди обломков взорванных скал и по жидкой грязи, что-то высчитывала, изредка бранилась с бригадирами, и к ночи возвращалась в свою комнатку без сил, измотанная и зачастую голодная.
Новый начальник лагпункта Егоров, высокий, худой, всегда с поджатыми губами, решения Митрофанова не отменил и оставил Никитиных на жительство в отдельной комнатке. Но было заметно, – приглядывается, думает: мол, у предшественника льготу заработали, а вот у меня посмотрим…
Егоров из прокурорских, они ведь убеждены, что всегда правы и что их призвание сводится к одному – судить обо всех и обо всём. С отъездом Митрофанова его перевели со второго отделения-командировки этого же лагпункта. Он просто перешёл через дорогу.
Никитин видел, как это было. Двое заключённых тащили за ним ободранный чемодан. Чемодан тяжёлый, и Никитину было интересно, чего же он туда сложил, может, книги. Обессилев, зэки поминутно ставили чемодан в грязь недостроенной плотины и присаживались на него отдохнуть. Егоров оглядывался и устранял это безобразие с помощью длинных матерных тирад.
«Нет, не книги», – почему-то подумал Никитин. И у него испортилось настроение.
Со штабными работниками Егоров познакомился просто и коротко. Всех собрали в большом кабинете УРЧ, Егоров вошёл, постоял, оглядывая ряды медленным и тяжёлым взглядом, и заявил, делая долгие паузы меж рубленых фраз:
–– Чтоб у меня! Спрошу! Иначе всех в котлован!
И с этим удалился, приказав работать.
Никитину новый начальник уделил больше внимания.
–– Митрофанов говорил, в Москве блат имеешь. Моисеева вон подсадил в управление, он теперь замУРО, большой начальник. Я тоже в Москве кое с кем корешился, но теперь вот здесь подзастрял. Я, Никитин, ломать ничего не буду. Работай. И жене твоей не помешаю, пускай крутится. Я посмотрю пока, пригляжусь…
–– А как Митрофанов, – спросил Никитин. – Вестей от него нет?
–– Какие могут быть вести? Прибыл, наверное, к новому месту службы. Объект принимает.
Никто из них не знал, что бывший начальник лагпункта Беломорстроя Митрофанов в эти минуты лежит в штабном вагончике посреди тундры. Вагончик замер на железнодорожных путях недостроенной ветки на Абезь, а его новый хозяин корчится на куче грязной спецодежды третьего срока с заточкой в груди и в смертной тоске смотрит остановившимся взглядом на заляпанный бурыми кляксами потолок. Заточка вошла ниже сердца, поэтому он не умер сразу, и теперь всё реже и реже скребёт сапогами по грязному полу, остатками сознания понимая, что ещё полминуты, и всё…
Митрофанова признали бывшие знакомцы по милицейскому делу, уголовники. Узнали и зашли поприветствовать земляка, пока конвой строил прибывший этап для следования в зону.
5
Тренькала о тяжёлый подстаканник ложечка, мягко постукивали на стыках за вагонным окном колёса. Молодой кряжистый мужчина в гимнастёрке дорогого габардина, с орденом Красного Знамени и в ремнях, смотрел на пролетающий лес равнодушным взглядом и тихо улыбался уголками губ. Смотреть за окном было не на что. Весна уже закончилась, а лето так и не наступило: серо, голо, низко. Это не родное Забайкалье, не центральная Россия или Узбекистан, и даже не Дальний Восток. Где он только не побывал к 34 годам и чего только не повидал. Теперь придётся узнать ещё и Карельскую республику…
В дверь купе постучали. Помощник чуть отодвинул створку двери и спросил из коридора:
–– Товарищ Берман, может, ещё чаю?
За спиной помощника он увидел бледное лицо проводника и слегка кивнул.
Офицер открыл дверь, и проводник быстро заменил пустой стакан полным.
–– Когда будем в Медгоре? – спросил у проводника.
–– К обеду должны быть, товарищ Берман. Как есть к обеду будем, – торопливо ответил проводник и, пятясь, вышел. – Там и пообедаете. У них при вокзале добрый буфет есть, – сообщил уже из коридора.
«Да, мне теперь только по вокзальным буфетам и околачиваться. Чудик какой…» – подумал он о пожилом проводнике без злобы. Он отставил стакан и достал из портфеля бумаги.
Уже полгода в Карелии шло большое строительство, и ему хотелось самому посмотреть, что и как здесь устроено в организации производства, быта и обеспечения охраны. Заключённых гнали и гнали со всей страны, и лагерь разрастался до невиданных прежде пределов. Но ведь надо понимать, что две сотни с лишком километров стройки не обнесёшь колючей проволокой и вышек не понаставишь. Если опыт Беломорстроя удастся, это даст такой эффект, что в Кремле ахнут! И подумают, какое правильное решение приняли созданием новой структуры и с назначением в руководство именно его, Бермана Матвея Давыдовича.
Новая структура называлась Главным управлением лагерей ОГПУ НКВД СССР – ГУЛАГ.
Берман полистал бумаги: сводки, сводки, графики, таблицы… Сотни тонн взорванной скалы, кубометры грунта, тысячи заготовленных и вывезенных с делянок брёвен…
Он отложил бумаги на край столика. Не это ему интересно. Пусть с кубометрами и брёвнами разбираются другие. Он не проверяющий. Его интересуют люди. Кто поставлен руководить производством и людьми? Есть ли у них стимулы, в чём их обнаружить? И что необходимо предпринять ещё, чтобы сроки строительства ни в коем случае не были сорваны.
Он, Берман, наделён громадными полномочиями: любой наркомат, любое ведомство разобьётся лепёшку, но выполнит заявку от строительства Беломорско-Балтийского водного пути. Но и к ходу работ не должно быть претензий. Вот главное. За этим пристально следит Сталин.
К своим годам он теперь не только чекист, опытный борец с вредителями, но и серьёзный хозяйственник. Вероятно, в Кремле учли опыт работы заместителем председателя Совнаркома Бурят-Монгольской АССР и руководителем Госплана там же. Да и работу членом ЦИК Узбекистана нельзя скидывать со счетов. Всё это дела крупного масштаба. Есть и другие. Активное участие в расследовании «Шахтинского дела» помогло вникнуть в производственные взаимоотношения на самом низовом, бригадном уровне…
Да, на Донбассе пришлось копать глубоко. Он помнит дрожащие руки рабочих и бригадиров с въевшейся навечно угольной пылью, неумело подписывающие показания на инженеров. Всех изобличили и вымели стальной метлой! И это учтено при назначении. И теперь он обязан доказать, что кремлёвское руководство в очередной раз в нём не ошиблось.
Да, ему известна серьёзная проблема в его ведомстве, пока малочисленном. И проблема эта – уровень образования кадров. Как с ними говорить и о чём, если они в большинстве элементарно неграмотны?
Берман ищет среди бумаг нужную, вот она: 73 процента сотрудников с низшим образованием. Каким образом такой сотрудник сможет убедить матёрого инженера, помнящего царские порядки, работать не покладая рук? С помощью кулаков и нагана? Это не всегда срабатывает – ему известно по собственному опыту…
«Но ничего, это детали, разберусь и с ними, – успокоено думает Берман. – Одно ясно точно: работать предстоит много. И другим спуску не давать. И не забывать никому и ничего».
А уж это он умеет…
Берман прихлёбывает горячий чай, расслабленно откидывается на вагонную подушку. Вспоминается юность, лето 17-го, Чита, золотая медаль коммерческого училища, – он окончил курс среди лучших учеников, по первому разряду, – счастливые лица родителей…
Как давно это было! Сколько воды утекло! Как он был молод!
Ребята их марксистского кружка собирались у Меера Трилиссера, самого опытного из них. А ребята-то всё молодняк, один энтузиазм в глазах. Ильмар, Дитман, Рабинович, Нейбут… «Мы поднимем Сибирь!» «Мы тут такого зададим!» Меер успокаивал: «Не надо, ребята! Давайте без этих буржуазных прожектёрских замашек!»
Решали: нужно проникнуть в военную среду, стать своими среди солдат, чтобы повернуть внешне сильную, но идеологически беспомощную массу на свою сторону. Но как это сделаешь? И ведь придумали. Берман и ещё несколько ребят из комитета поступили в Иркутское военное училище. Берман вообще без вступительных испытаний, – он же отличник! Всех знакомых удивили! Но четыре месяца учёбы дались большим напряжением. Трудна оказалась не учёба, учёба-то привычна, а вот повседневная юнкерская жизнь…
Как же их невзлюбили здесь! Даже побить собрались однажды. Только вот не получилось, вовремя удалось скрыться. Он вспоминает свистящий шепот за спиной в казарме: «А что в русской армии нужно этим жидам? Зачем еврею офицерские погоны, Отечеством торговать?»
Нет, не забыл. И когда в Иркутске поднялось это глупое и плохо организованное восстание юнкеров, они дали себе волю! Эти глупцы предпочли не срывать погон, как это сделал он, а лечь под орудийные залпы. Ещё кричали что-то про офицерскую честь. Какая там честь! Никто из них ещё и офицером-то не успел стать. Мальчишки!
Много, много событий пришлось пережить. Время такое, борьба за себя в будущем, за новую страну, бой без сожаления и жалости! Всё так, но расстрел безоружных ровесников до сих пор сидит в душе занозой. Уж больно кроваво вышло тогда и беспощадно…
В Медвежьей горе задерживаться не стали. Что там смотреть – бараки при станции, другие за проволокой, лагерные. Каменные здания громадной гостиницы и управления строительства только строились. Покатили прямо в Повенец, в контору Белбалтлага. В комнатке при кабинете Коган уже накрыл стол. Тут и коньяк, и рыбка, и копчёное мясцо со слезой, и свежие овощи из теплиц.
–– Приглашаю, Матвей Давыдович. Покушаем. С дороги, да и день впереди долгий. Силы потребуются.
–– Можно, Лазарь Иосифович. Если делу не помешает, – сразу поставил границу взаимоотношений Берман. Мол, едим-пьём, но кто есть кто, забывать не следует.
Отношения между ними давние и вполне приятельские. Правда, в последние дни немного странные, определённой привычки требуют. До недавнего времени Коган формально считался начальником ГУЛАГА и одновременно руководил Беломорстроем в Карелии. Берман был его заместителем и жил в Москве, по существу, управляя всеми делами ведомства. Несколько дней назад их должности поменяли, и Берман теперь полновластный начальник над Коганом, а тот его заместитель в ГУЛАГЕ и продолжает руководить строительством канала.
В новом качестве Берман приехал познакомиться с расстановкой кадров и ходом дел. А из произошедшего мораль простая: коли ты начальник, не отлучайся надолго от руководящего кресла. Среди друзей непременно найдётся такой, кто захочет его занять.
Выпили по первой, закусили. В Управлении непривычно для рабочего дня тихо. Конторские, девяносто процентов которых из заключённых, есть и дворяне, и доктора наук, и профессоров человека четыре, знают, что приехало начальство. Они люди опытные, стараются сидеть, не поднимая головы и без крайней нужды не показываться в коридоре. Мало ли что может случится, если столкнёшься нос к носу: что могут спросить и куда послать…
–– Могилко, Вержбицкий, Жук, Афанасьев, Успенский… Что за люди? Как показывают себя? – интересуется Берман. – Ты же понимаешь, Лазарь, времени на эксперименты с кадрами в Кремле не дадут. Стройка идёт полгода, и мы должны поставить людей, которые смогут её ударно довести до конца.
–– Матвей, Матвей Давыдович, разве ж я не понимаю? В руководстве стройкой народ надёжный. Могилко, Вержбицкий, Жук, Афанасьев из опытных инженеров. Они зарекомендовали себя на строительстве оросительных систем на юге и здесь начали очень хорошо. Других таких не сыскать. Да и Френкель держит их крепко, дремать не даёт.
–– Миллионы рублей убытка стране принесли на юге – так зарекомендовали, что лучше некуда. Ты что, их дел не читал?
–– Миллионы или не миллионы, а понадобились в Карелии, и вот они здесь, правда, с 58—й, часть 7 «вредительство». Партия поставила перед ОГПУ задачу построить канал, и что, уговаривать их прикажешь сменить тёплый юг на холодный север за ту же зарплату? Теперь работают и зарплаты не просят.
–– А Успенский?
–– Успенский из наших…
Берман отложил вилку и посмотрел Когану в глаза долгим взглядом.
–– Я хотел сказать, из наших бывших сотрудников, совершивших преступление перед государством. Исправляется.
–– У меня целая папка на него. Как он исправлялся на Соловках. Он дотянулся до портфеля на соседнем стуле, вынул бумаги. Вот: «…Каждый мой доклад гр. Успенскому заканчивался обещаниями: пристрелить на месте, застрелить как собаку, раздавить…» Или его заявление, полюбуйся: «Нормы устанавливаю я, а не для меня устанавливаются нормы…». Чуешь, на что замахивается? Вот другое, полюбуйся: «…всех терроризировал словами: «посажу и расстреляю!». И ведь сам расстреливал, есть свидетельства. Он и здесь себя так ведёт?
–– Нет, товарищ Берман. Я таких сведений не имею. Мы поручили ему северный участок строительства. Самый отдалённый и тяжёлый по причине отсутствия дорог и трудностей со снабжением. Да, работает жёстко. И по бабам ходок, знаем. Но мы контролируем, держим его в руках.
–– Может, заменить, пока не наделал дел?
–– Прикидывали. Некем. Инженеры второго ряда хорошие, но тут ведь администратор требуется, чтоб спрос был настоящий.
Он снова налил коньяку, они выпили, и Коган продолжил:
–– Иначе ведь работать не заставишь, да и порядка не будет. С кем работаем? Уголовная шпана, контрики… Слабину почувствуют – трудно остановить. А из бывших наших кадра подходящего нет. Предлагаю оставить пока Успенского. На ваше усмотрение, конечно.
–– А бабы прокурорам малявы строчат? С бабами-то как?
–– Да нет, не пишут. Бабы, они ведь на то и бабы…
–– Хорошо, пусть работает. Но глаз с него не спускать.
От Онежского озера вверх на материк ведёт широкая просека. Просека будто живая, шевелится, кипит. Полчаса едут, час, просека всё колышется мокрыми спинами застиранных гимнастёрок и пепельно-серых рубах. Изредка видны группки людей на обрывах, видно, какое-то мелкое начальство. Стоят, что-то прикидывают или бранятся – руками машут, с дороги не разобрать. Возле одной хотели остановить машину, но Берман ткнул Когана в спину: не надо, поехали дальше…
В одном месте дорогу преградил вохровец с винтовкой: будут взрывать. Взвыла сирена, грохнули взрывы. Из разных щелей и ближайшего леса в котлован побежали десятки рабочих. Снова в руки тачки и кувалды – вывозить обломки помельче и долбить те, что в тачки не помещаются.
У противоположного края котлована, под обрывом, Берман увидел странное: двое заключённых подхватили кого-то за руки и ноги и несут в сторону.
–– А там что?
–– Бывает, Матвей Давыдович. Рабочий момент. Видать, какой-то лентяй решил не выходить из котлована от взрыва и неудачно спрятался. Пересижу, мол, что зря бегать. Бывает, взрывники ошибутся. Каждый день не по одному хоронят.
Берман нахмурился, видно, хотел сказать что-то, но так и не нашёлся, смолчал. И ещё с минуту-другую сидел молча, придумывая, как сказать, чтоб поаккуратнее с рабсилой. Инструктаж там провести какой, учёбу, иначе ведь людей не напасёшься на эдакое-то строительство. Однако ничего умного не пришло ему в голову.
Над очередным котлованом увидели не группку, а одного-единственного человека. В длинном кожаном пальто, опершись на тонкую трость, человек неподвижно стоял и смотрел вниз. Берман тронул водителя за плечо: подъедем.
–– Френкель, – узнал издалека Коган. – Уже забыл, наверное, в какую сторону дверь в своём кабинете открывается. И днём и ночью на линии.
Едва поздоровавшись, Френкель указал Берману в котлован:
–– На восточной и на западной стенках две одинаковых бригады выбирают грунт. Видите?
Берман кивнул.
–– Смотрите на отвалы там и тут. Одна бригада явно отстаёт. Мало того, сейчас три часа пополудни, а люди в отстающей бригаде – выкатчики с тачками и крючники – уже еле ноги таскают. В чём дело? И ведь так они работают уже четвёртый день.
Берман и Коган смотрели на копошение заключённых внизу и молчали. Коган здесь никогда не останавливался, а Берман вообще впервые видел, как роют канал.
–– Водитель, – приказал Френкель заключённому в машине. – Позовите начальника участка.
Вскоре прибежал запыхавшийся начальник. Сапоги и брюки в пыли, но гладкое лицо выдавало отнюдь не заморённого человека. Маленькие острые глазки начальника панически бегали от одного к другому, и сам он явно не ждал ничего хорошего для себя.
–– Почему одна бригада выкатчиков уже четвёртый день отстаёт? – тихо спросил Френкель.
–– Виноват, гражданин начальник. – Там одни филоны собрались. Я приму меры. Мы поправимся.
–– Какие меры?
–– Переведу зачинщиков и лодырей в БУР. Пусть поголодают.
–– Барак усиленного режима, конечно, умное решение, – усмехнулся Френкель. – Но дела не исправит. Три дня назад я указал вам причину отставания, – всё таким же тихим голосом продолжал Френкель. – Напомню. У одной бригады мостки делают дополнительное колено, – видите, вон там; поэтому угол наклона настила меньше, и выкатчикам легче везти тачку наверх. У другой бригады дополнительного колена нет, сэкономили десять досок, и теперь подъём здесь крут, они у вас выдыхаются за три часа. Почему вы не устранили этот недостаток? Почему не выполнили распоряжение начальника работ?
Френкель говорил спокойно, ровным голосом, чуть не ласково, и от этого слова звучали особенно угрожающе. Если бы он кричал, как принято здесь повсюду, дело казалось бы привычным. Ну, покричали, и ладно. С кем не бывает. Но Френкель не кричал. И ещё эти люди в гимнастёрках и ремнях, видать, большие командиры…