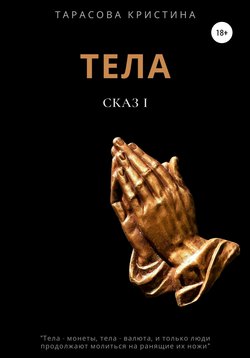Читать книгу Тела - Кристина Владимировна Тарасова - Страница 1
ОглавлениеДевочка
Я счастливая.
Так сказали сёстры (и приобретённые, и позабытые дома), когда узнали о моём будущем в Монастыре.
Нашим хозяином был знатный господин из пантеона небесных богов. Одни говорили, что он – властолюбивый и скупой, угрюмый и жестокий, другие же – что он уродлив, неказист и неуклюж…однако богат и с девочками своими обходителен; третьи утверждали, что он – пьянящей красоты душегуб (и, соответственно, желаем), но предприимчив и лукав (а, значит, своего не упускающий). Правду о нём удостоилось узнать и мне.
Или только мне.
Солнце лениво прижигало и без того удрученные земли. Вышки-молоты на горизонте застыли в одинаковых позах: носами склоняясь к некогда податливой и плодовитой, ныне – безжизненной и оцепенелой почве. Что это? Памятники прошлого, мира ушедших людей? Напоминание-назидание нам, оставшимся? Или чудо, коим способны владеть лишь боги?
Моя семья получила моё согласие (нет) и в плату провизию на год вперёд (да). Старшая сестра – родная, с ребёнком на руках, в колыбели и ещё одним под сердцем – сказала, что будь так же чиста и непорочна, сама бы обратилась с предложением в Монастырь. Я ответила, что чистота её исчерпает себя окончательно после третьего опороса и третьего отца, а она фыркнула и, отвернувшись, отправила к средней сестре. Средняя сестра посмеялась моему недовольству: она мечтала о красоте, но красоте, которую предпочитают мужчины; не люди – мужчины. Я ответила, что опорочу своим поступком семью, а она запретила так думать, ибо пребывание в Монастыре – великая честь и заслуга. Младшая сестра агукнула. Я ответила, что постараюсь вернуться и воочию лицезреть её взросление. И ушла.
Родители тешили-утешали речами о том, что теперь, наконец!, заживут. Да и я тоже. Отец молился земле за мою красоту, а мать ликующе пересчитывала мешки с крупой, которые отстёгивал приехавший к полудню грузовик.
– Она? – хмыкнул недовольный мальчишка подле водителя.
Старшая сестра пригрозила ему:
– Будь поласковее! Эта девочка самого Господина.
– Её бы помыть, – ответил мальчишка.
– Помоют, не думай, – пробурчала средняя сестра, – а ты таким и останешься. Вот, а! чужому счастью не счастлив, падок на уксус.
Водитель требовал, и чернильные танцы почти голых перьев плясали на бумаге. Затем велел подготовить меня к завтрашнему отправлению. Мать и отец помолились земле, ответили согласием и проводили гостей.
Соседи – хвала небесам! отделенные от нас верстой, иначе бы удручали присутствием и голодными глазами каждый отмеренный им упомянутыми небесами год – взмахнули руками и пригласили к себе, но по итогу пришли сами. Злобная челюсть Сантьяго скрежетала от вида яств, коими никогда не наполнится их лачуга, а Бета – жилистая и хмурая тётка – причитала, как нашей семье повезло.
– Повезло! – воскликнула мать. – Такая красота везением не объясняется. Помолимся земле!
И они вновь молились.
Меня посадили во главе стола и устроили праздничный/прощальный ужин. Вкушали хлеб и кашу; зерна и воды теперь было предостаточно.
Соседи разнесли молву о радости моего отправления в Монастырь. На утро все желали стать нашими соседями и друзьями – отцу пришлось выудить из шкафа ружьё (хотя заряжалось оно по-прежнему солью).
Люди хотели жить хорошо, но хорошо жили лишь Боги (которые предпочли жить на небе) и – как вы уже могли понять – Монастырь, потому что Боги спускались с неба, дабы вкусить сладость своих взращенных плодов: прекрасных и юных дев.
А простые люди…они как-то работали, что-то делали и чем-то перебивались. Всё время – что-то, как-то и чем-то. Земли наши были мертвы и окутаны смрадом прошедшей однажды войны. Может, нескольких. Огромные поля, которые засеивали Боги и на которых они разрешали руководить избранным, находились к югу дальше. А мы…мы охраняли нефтяные вышки, хотя культу нефти не поклонялись уже которые века, а саму эту нефть – черпай ложкой! – потреблять было нельзя. Ни питья, ни еды.
Но теперь семья моя в достатке. Если родители будут расчётливы или устроят скромное дело (давать в долг – забирать вдвойне, например) припасов хватит на взросление ещё одной дочери, которая чертами своего лица внушит надежду сытого завтра.
Я в последний раз припадаю лицом к кровати в отчем доме. На следующий день приезжают. Вместо объятий, наставлений и пожеланий доброго пути родители незамысловато жестикулируют, предаваясь молитвенным чтениям. Они в очередной раз благодарят землю и – после – отдают в руки подоспевшего конвоя.
– Важная персона! – причитает тётка Бета и стрекочет кому-то из проходящих, что вчера бывала в нашем доме.
Бывала там и до моего отправления в Монастырь, о чем умалчивает.
– Вот деревенщина! – плюёт под ноги первый водитель. Так он отзывается об увиденных подле нефтяных ферм работягах. – И как их земля носит?
– А они сами по ней носятся, – отвечает второй водитель. Тот, который сменяет товарища через несколько часов пути. – Или сами землю носят. Потому места эти ещё обитаемы, да. Пребывающие здесь позабыли однажды сдохнуть.
– Тише, – хмыкает первый. – Красота оттуда.
Он мельком кивает на меня, сидящую позади.
– И что? – восклицает второй. – Оборванка есть оборванка. Из деревни её выкорчевали, но деревню из неё не выкорчевать.
Недовольный взгляд режет незнакомца, и он, будто бы ожидая того, восторженно добавляет:
– Надо же! Не глухая! Боссу понравится.
– А вот твоё обращение ко мне ему не понравится, – рычу наперерез. – Что я тебе сделала?
– Ничего. А по своей профессии – могла бы, – гогочет в ответ незнакомец.
Первый водитель, затолкнув ему в рот сигарету, велит молчать, и сам прикуривает крохотный свёрток.
– Ты, Красота, – говорит он, – внимания на черта не обращай. Девки-то не по его части, а на золотые слитки – вроде тебя – никаких сбережений не хватит. Злой он!
Вопрошающее лицо не медлит с ответом:
– Ты какого мнения? Моя има из таковых была, и толку? Думают прекрасная жизнь у них вечна, а на деле? Покрываются морщинами и годами, заплывают жиром и самомнением, а хозяева их заводят новых кошек – да-да! – от старых избавляясь.
– Твоя мать из Монастыря? – спрашиваю я.
– Почти. Не из самого Монастыря, но жила хорошо. В Монастыре как? в Монастыре кошек стерилизуют, чтобы разгуливающим котам бед не было. А мой тятька – высокопоставленный человек, между прочим, был. Снабдил нас хатой и добрым именем, сказал, что и с работой поможет. Вот я и здесь. У Босса. Правая лапа.
Едва не подавившись смехом, выбрасываю:
– Щенок!
– Что ты сказала?
– Мальчишка на побегушках, вот ты кто, – перебиваю нестерпимую гордыню. – Ты не правая лапа Босса, ты за ним и ты хвост.
И водители начинают спор.
Один заступается за меня, другой наступает на меня, один пытается утихомирить товарища, второй пытается ухватить причину зачиненной драки (мой язык).
– Это Красота Босса, Лука! Успокойся!
– Красота должна запомнить одно! Вне Монастыря – она обыкновенная девка, которой могут эту красоту подпортить.
Забиваюсь в кресло и, отрекаясь от беседы, внимаю проносящимся за окном, что прикрывает засаленная шторка, картинам запустелых и изживших себя деревень
– Вот ведь…всё этим Богам, всё этому Монастырю, – причитает недовольный – с подбитой щекой и вдавленной в жёлтые зубы сигаретой. – А людям простым? А они простые, их дело малое: работать и молчать, молчать и работать. Всё Богам, всё Монастырю…
День дороги отбирает у меня родные земли и направляет в края изобилия, лоска и безрассудства. Я здороваюсь с новым домом. Уродливая вывеска с приветственными речами указывает на каменную дорожку до главных ворот. Колючие прутья вмиг отгораживают от мира реального. Несколько женщин – в относительно скромных одеждах и с относительно скромными улыбками – проводят меня в кабинет. Пышные хвосты черных юбок, закрывающих часть бёдер, шелестят вдоль коридора. Черные купальники обтягивают вкусные тела. Я разглядываю пёстрые узоры на обоях, кованные столики под окнами, занавески, отдающие белизной и стиркой, и мягкие кресла. Голоса причитают о ласковом нраве хозяина, о красоте его резиденции и его придворных, о его любви к девочкам и заботливой «Мамочке». Но я упускаю эти слова: всё мимо, всё сквозь. Я разглядываю обои. До чего красивые: чистые, ровные, с обрамлением в виде белых колонн по углам. До чего красивые…
– …да?
Оборачиваюсь и ловлю несколько добрых взглядов склонившихся надо мной женщин.
– Кофей, сбитень? – повторяет одна из них.
Другая говорит, что Отец скоро прибудет.
Господин, Босс, Хозяин, Отец…Великое множество имён этого человека (того, что купил меня у моей семьи) говорило о его реальном величии: перед людьми, перед Богами (а, может, среди Богов?), перед миром в целом.
По разговорам я представляю низкорослого, покрытого сединой и потом, мужичка, с лукавыми крохотными глазками и с пухлым, висящим на ремне, омоньером. Хозяин этот носит, в моём представлении, костюм – отутюженный и кремового цвета; на шее петля в виде затянутого галстука, на ногах чищенные боты. Хозяин распивает крепкие напитки и курит сигары, оценочно глядит и много молчит.
Женщины рассыпают наставления:
– Отвечай на все его вопросы, милочка!
– Будь добра и вежлива.
Одна голубка перебивает другую, добрые лица причитают о моих шансах попасть в Монастырь. Но я, право, думала, уже в нём и уже безвозвратно…
– Поздоровайся, милочка! И не забудь поклониться.
– Угощайся! Он щедр и приветлив!
– Нет-нет, будь сдержана, и тогда он с интересом построит диалог.
– Непременно отвечай!
– Молчи!
Как вдруг восторженный голос из коридора вещает о приближении самого Господина. Женщины подхватывают меня и выталкивают из одного кабинета в другой – дальний и обитый тёмным буком. Оказываюсь за двустворчатыми дверьми; передо мной пышные диваны.
Я ожидаю знакомства: падаю меж подушками и с волнением перебираю оборку от юбки; мать пыталась нарядить меня под стать случаю (но, если бы случаем оказался поход на рынок, я непременно бы выглядела соответствующе).
Ткань у дивана грубая, жёсткая…Мечтаю змеей сползти на пол и припасть лицом к деревянному паркету. К дереву. К песку. К почве. Почва, родные земли, отчий дом.
– Приветствую, радость моя, – разряжает воздух мужской бас, и за спиной выплывает названный Отец. – Отныне ты принадлежишь мне и делать должна только то, что скажу тебе я. Поняла?
И он замирает напротив и протягивает стакан с танцующей рыжей жидкостью.
Принимаю угощение: спешу подтянуть напиток к губам, но наперёд получаю укоризненный взгляд и лязг по рукам. Жидкость чертыхается и каплями ставит отпечатки на ворсистом ковре.
– Я разрешал?.. Именно! А ты делаешь только то, что велит хозяйский голос. Поняла?
Урок усвоен: в третий раз повторять не надо. И потому я киваю.
– Отвечать можешь без разрешения, – смеётся мужчина и указывает на стакан вновь.
Опасаюсь его.
И стакана, и мужчину…Не желаю оплошностей, не желаю вызывать сомнения в выборе меня, не желаю эха на семье.
– Теперь угощайся, радость моя, – скалится мужчина и, вложив стакан трясущимся пальцам, отступает.
Вот и я могу разглядеть его.
Лицо щадящее и доброе, глаза приветливые и уставшие, волосы курчавые – вороньи, с отблеском каштанов на концах; кружево мелких кратких шрамов опоясывает часть лица, сам он некрупный и жилистый, однако повадки животной поступи сменяются вялыми вибрациями.
– Садись – поговорим.
Растерянность роняет меня на диван, а мужчина роняет бутыль на стол.
– Сколько у тебя было любовников, радость моя?
Он задаёт свой первый вопрос (из роковых, щекочущих и судьбоносных), а я, опешив, тревожно вжимаюсь в мягкие и мятые подушки дивана.
– Не багровей, радость, – смеётся мужчина. – Не при мне так точно…А ответ твой отпечатался на прекрасном и молодом румянце. Вирго! Значит, родители твои – честные люди – на жертвенный камень водрузили добротную скотинку…До чего порядочные господа!
Порядки мы чтили особенно (по-особенному), и потому в Монастырь меня отдали больше от любви к себе, нежели от любви ко мне. Но можно ли назвать порядочными людей, что обменяли ребенка на сытое брюхо? А чёрт проверял – то было понятно.
Укол с улыбкой врезается в мои просящие о чём-то глаза. Ропот и стыд сидят на левом и правом плечах.
– Так и хочется, радость, – клокочет мужской голос. – посмотреть на тебя в апостольнике и с руками в молитве. Но прошу!, – интонация меняется тотчас, – узри истину: ныне ты обеспечена и обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Считаешь, родители променяли кровь на несколько мешков овса и вершков репы?
Там была репа..?
– Я запрещаю так думать, ибо своим решением люди эти открыли тебе все доступные в Мире богатства: вкусную еду, покой без тревог, красивую одежду, крепкий сон, добрых подруг, богатых любовников и…лучшего хозяина. – Мужчина, обнажив зубы, смеётся. – Перед тобой дозволено открыться дверям в рай, ибо рай есть и он на земле. А сама ты готова вступить в Монастырь?
Мыслями путаюсь в его словах и в своих возможностях. Всё перечисленное им ублажило бы моих сестёр, но меня не трогало вовсе…И неужели я могла отказаться от Монастыря и вернуться домой? Нет…нет, уже не могла. Вопрос – формальность, вопрошающий взгляд – условность.
– Ты заходишь в Монастырь добровольно, но выйти из него уже не смеешь. Улавливаешь?
И я утвердительно качаю головой. От ледяного стакана немеют пальцы. Смотрю на пальцы, смотрю на стакан, и получаю наказ:
– Пей-пей, радость.
Припадаю губами к напитку – резко: глотаю и потому обжигаю горло, и потому кашлем разрезаю кабинетные стены. Мужская рука ласково касается спины, улыбка очерчивает грубую кожу.
– А ты мне нравишься, – со смехом роняет мужчина, ещё не осознавая грядущего, не предвидя, что любые слова находят вибрации и отголоски в будущем.
Стакан ударяется о край стола, стан напротив позволяет сесть.
Всё здесь выглядело иначе: отличительно от мира за стенами. Фальшивый порядок, фальшивые улыбки, фальшивые речи. Однако мне видится, что вот он – реальный мир; а дом, оставшийся за пустошью, – блажь, сон; те люди взращивали меня – зная с рождения – для Монастыря.
– Смотри на меня, – велит мужчина. – О, каков взгляд! Пытливая непокорность. Не хочешь того – и именно это прекрасно…Ты мне нравишься, – повторяет он (созывая тем самым беду). – Уже познакомилась с Мамочкой? Или эти трясогузки то и дело напевали дифирамбы о хозяине? Неисправимые женщины..! Нет, не знаешь Мамочку? Слушай. Мамочка будет следить за твоей красотой – внешней и внутренней. Если появятся беспокойства – иди к ней. Неважно какие – Мамочка пригладит и успокоит, поможет справиться и оправиться. Идёт?
Я молча соглашаюсь.
– Слушай, – восклицает мужчина, – а ты говорить-то умеешь?
Утвердительно качаю головой и, осознав глупость, поделённую пополам с растерянностью, добавляю вровень с его голосом «Да»:
– Издеваешься?
Он ведёт бровью и просит повториться. Осознание собственной глупости надбавкой ударов коптит сердце. На какой вопрос мне следовало ответить? На умение говорить или на манер наглой беседы?
Секунды щёлкают нас обоих по носу; мужчина вздыхает и предлагает позабыть случившееся.
– Итак, – заключает он. – Зови меня как угодно твоей прекрасной душе. Отец, господин, хозяин…как угодно. Главное условие – не по имени.
– А как твоё имя? – спрашиваю я, чему мужчина поражается и с чего смеётся.
– Твоя семья верующая. Значит, вы поклоняетесь богам. Значит, родителям было должно научить дщерь именам божеств.
– Родители верят в Богов земли, а не неба.
– Однако же кровь девственницы пускают небесному светилу, – язвит мужчина. – На алтаре меж двух пантеонов…Ты сказала «родители верят». А сама..?
– Предпочитаю верить в зримое.
– Я не зрим?
– Ты не Бог.
Его руки припадают к графину, а графин пускает по горлышку напиток. Хозяин с наслаждением пьёт и потом с таким же наслаждением интересуется у меня прожитыми под солнцем годами.
– Не молчи, – приказывает он интонацией просьбы.
– Шестнадцать.
– Самый сок. А выглядишь старше. – Бровь вновь незамысловато танцует. – Так отчего в роду безымянных работяг явила себя дивная атеистка? Хотя, знаешь, – он откидывается в кресле – со скрипом стула и всплеском напитка, – твоя непокорность заключена в твоих годах. Ещё немного – и мир притупит твои начинания ослушания. А твоё ослушание сейчас притуплю я. Понимаешь, радость?
И он кошкой прыгает с кресла: кулаки прижигают подлокотники моего кресла и порывом ветра заставляют дрогнуть рукава глупого платья цвета вяленой рыбы. Он нависает – быстро и страшно; и быстро и страшно шипит на ухо:
– Если солжёшь мне ещё раз – высеку так, что не сможешь ни сидеть, ни стоять. Понимаешь, радость? И никто не захочет касаться твоего некогда хорошего тела. А если ты перестанешь нести в Монастырь прибыль – пеняй на себя. Хорошее тело равно хороший заработок, равно стабильность. Иначе – прочь.
Мужчина отступает и выуживает из ящика стола пачку сигарет; острая игла западает меж зубов и пускает кольцеобразный дымок.
Выжидаю. Выжидаю, но совладать с характером не могу, и потому выпаливаю гневно:
– Блефуешь, папочка.
И он забавляется ответу.
– Наглая мерзавка, – причитает мужчина. – Язвит и кому? На первый раз я тебя прощаю! Но не вздумай впредь обращаться ко мне с такой интонацией. Накажу. Да-да, и за это тоже.
– Блефуешь.
– Поясняй.
Он затягивается вновь.
– Ты будешь оберегать меня, пока не прибудет первый покупатель.
– Умница, – зудит властный голос. – Но сказанное тобой сейчас останется сказанным тобой и потом. На данный момент – наглая… – ты и вправду цивильный лист. Но не думай, что я забываю слова, не думай, что я отпущу их После. Я мечтаю наказать тебя за твою наглость. Мечтаю. Понимаешь, радость?
Хочу процедить очередное «поняла, папочка», но, заглянув в перспективу скорого, решаю смолчать.
Мужской голос повторяет «умница» и следом вопрошает:
– Ты поняла, почему я пригрозил тебе наказанием в первый раз?
– Да.
– Тогда отвечай честно.
– Девятнадцать.
– Именно, радость! Ты – чудесное вино; твой возраст впитал самое вкусное и сладкое, теперь хоть росинки с тебя собирай. Так бы и пробежался по спине языком.
И он показывает соответствующие движения: губы припаиваются к незримому телу. Моему.
– Опять багровеешь, радость. Лучше ответь, как удалось вину настояться? Ко мне приводят девочек с четырнадцати, а тут одна треть вдобавок. Не стесняйся того: недоступность дорого стоит. Так как?
Молчу.
– Молчишь, – констатирует он. – А я приказываю: отвечай.
– Неинтересно. Мне это неинтересно.
– Вот как. А полюбить придётся: ныне-то – профессия.
– Люди всегда работают на нелюбимых работах.
– Я люблю свою работу, – не без ехидства добавляет мужчина. – Красивые женщины, большие деньги, богатые гости. Как такое не любить?
– Что ты сделал, чтобы прийти к этому?
– К Монастырю? – Он задумывается: лисье лицо дрожит. – Ты первая, кто поинтересовался. Давай отложим подобный разговор со дня знакомства, договорились?
– Обещай, что расскажешь, – требую я.
– Вот как… – повторяет он. – Обещаний тоже никто не просил и такую интонацию – вообще – избегал. Ты отличительна, моя девочка. А что это значит?
Голос его звучит так нежно и трепетно, и я вопрошающе выпаливаю:
– Что ты не продашь меня?
– Что я продам тебя подороже, – грохочет мужчина.
И наполняет стаканы; я вижу блестящее дно бутылки.
– Никогда не перебарщивай с выпивкой.
– Но ты сам угощаешь.
– Проверяю, – улыбается мужчина и докуривает сигарету.
Что тут можно было проверять?
– Тебя зовут Луна, правильно?
– Луна, – эхом подхватываю я.
– Прекрасно, Луна. – Мужчина качает головой.
Прикладываюсь губами к стакану и в этот же миг внимаю следующему вопросу:
– Что ты умеешь?
От прозрачной пепельницы вздымается клуб дыма; целуется с настольной лампой и выбирается сквозь приоткрытое окно.
– Готовить, – ошеломляюще для хозяина швыряю я. – Стирать, прибирать. Детей воспитывать – благо сёстры есть.
Мужчина косится и, едва открыв, рот, отвечает:
– Я имел в виду…
– Знаю, что ты имел в виду, – перебиваю его. – Ничего я не умею, ясно? Из необходимого тебе. А то, что умею, перечислила. Ни больше, ни меньше.
– Откуда ты, святая, и в Монастырь попала? Тревожно такую красоту губить. Вот тут коробит. – И он кулаком ударяет по своей груди.
– Ничего, пройдёт.
– Пройдёт, ты права, – энергично улыбается мужчина и выуживает из ящика стола кипу бумаг. – Подпись поставишь?
– Я еще не дала согласия.
– О..! – Восторгается голос. А затем протягивает задумчиво и не без внутреннего пытливого ехидства: – О-о-о-о… Вот ты какая. Хорошо… Согласна ли ты, о Луна, вступить в Монастырь? Повторяю: заходишь – добровольно, выйти – возможности нет.
И я по своей глупости – тревожной, нарастающей, предопределённой страхом и верой в возможное спасение – медлю. Медлю, на что мужчина добавляет:
– Если не согласна, можешь вернуться домой. Ты мне понравилась, а потому я доставлю тебя в твою деревню без платы, на том же транспорте, на котором тебя привезли. Не бойся, по пустыням одной плутать не придётся. Но учти, плату с твоих родителей я изыму соответствующую и не без процентов.
Из обыкновенного любопытства спрашиваю о процентах.
– Твои родители умеют читать?
– На старом наречии простолюдины не говорят. А все бумаги составлены на нём, я видела.
– Значит, понимаешь, что мать и отец твои подписали бумаги не глядя?
– Понимаю. – Скромно киваю.
– А, значит, понимаешь, что я, предпочитая безопасность со всех сторон, договор оформляю на выгодных для себя условиях? Если сделка срывается, я забираю данное и сверх того за потраченное время и средства. Так окупается любая девочка.
– Разумно.
– Почему ты спросила? – ссадит мужчина. – Грезишь побегом?
– Желания послушницы в Монастыре не учитываются, – забавляюсь я.
– Наглая ты мерзавка, – вновь смеётся мой собеседник и пальцем отбивает по краю стола.
Решаю признаться:
– Это простой интерес. Я отвечу согласием, но пока не ответила, желаю правды.
– Давай объясню. Думаю, про единственную возможность и великую честь оказаться в Монастыре тебе уже напели родные сёстры. Неродные сёстры ещё напоют о сладкой жизни: в провинции подобное не встречается. За пределами Монастыря люди мрут и изживают друг друга, здесь же – лакомятся и довольствуются божественной щедростью. Если откажешься сейчас – до дома своё превосходство вряд ли доставишь, а, смею заметить, продать его ты можешь мне и продать за хорошие «деньги». Я обязуюсь обеспечивать тебя, ухаживать за тобой и предоставлять тебе работу. Ты будешь знатной женщиной в божественных кругах, но не выше меня – я стану твоим, назовем это, духовным наставником. Ты можешь отдаться по пути домой первому встречному и познать горечь жизни за пустошью, а можешь продать свою невинность знатному господину и отныне не думать об удручающей жизни за пределами Монастыря. И твой ответ?
– Я согласна, – выпаливаю быстро и громко.
Взваливаю груз решения с плеч: помыслами о родительском доме и невозможности подвести их. Это решение моей семьи: они избрали для меня добрый путь, они спрогнозировали лучшую из возможных дорог. Они дали хорошую жизнь мне и хорошей жизнью обеспечили себя.
– Прекрасно, – кивает мужчина. Во взгляде его теряется немой вопрос: почему я дала согласие без внутреннего согласия (о! то видно, знаю). – Подпись здесь, здесь и здесь.
Я пододвигаю к себе перо и чернильницу и, макнув кончик белого лебедя в смольную грязь, вырисовываю своё имя. Трижды.
– Зачитаешь договор?
– Я рассказал о нём вкратце. Хочешь прочитать сама – выучись старому наречию.
– Очень смешно, – процеживаю сквозь зубы и повторяю процедуру с другим экземпляром.
– Что ты сказала? – без улыбки улыбается мужчина. – Повторишь?
Откладываю перо и протягиваю бумаги. Молчаливо.
Хозяин проверяет договор и – опосля – прячет в ящик. Ящик, в свою очередь, запирает на ключ, который скармливает пустому кубку на книжной полке. Лязг пляшущего металла на фоне душистой тишины напоминает заключение в клетку.
– Луна, – обращается мужчина, – не испытывай моё терпение. Это тебе на будущее.
Учтиво роняю взгляд (не без вызова), и хохот моего собеседника отбивает о красивые стены кабинета.
– За что ты свалилась мне на голову? – смеётся мужчина. – Ладно…Расскажи о своих родителях. Значит, они верующие?
– И верующие тоже, – отвечаю я.
– Прекрасно, – хмыкает мужчина. – А ещё, радость?
– Работающие, живущие, платящие по налогам земным богам и проводящие службы во имя охраняющих их небесных богов.
И Хозяин Монастыря ловит острый взгляд, который до этого – утаённый – вызволялся лишь с приправленными ядом речами.
– Надо же! – восторгается. – И как я раньше не углядел этого огня?
Он склоняется и сжимает в кулаках кулаки.
– Радость моя, – на выдохе повторяет мужчина. – Не окажись моей погибелью.
Шёпот прижигает и без того – по ощущениям – пылающие щеки. Хозяин Монастыря в очередной раз ласково улыбается и продолжает мысль:
– Удивительная натура из семьи рвани…О, ну не смотри так. Я запрещаю.
На слова эти роняю взгляд обратно к кулакам. Пересчитываю удвоенные костяшки пальцев и пытаюсь вычитать синие, хаотично вбитые в кожу, чернила. Старое наречие.
– Ты посмела думать, что они способны увлечь меня чем-то ещё? – причитает мужчина. – Будь уверена, семья твоя в благополучии и без нужд. Благополучие не изыму, нужды не добавлю. Они подарили мне прекраснейшее из своих земель, а потому заслужили награду. Хочешь поведать свою историю, радость?
Но я молчу.
– Разумеется, – мусолит на губах. – Разумеется. А теперь скажи, кто выучил тебя грамоте? Пёрышко в пальчиках сидит как следует.
– Разве теперь она пригодится?
– Что я говорио про терпение?
– Приехавшая однажды в нашу деревенскую брешь тётка со своим сектантским движением.
– Ты и её покорила?
– Что значит «и её»? – цепляюсь я, на что мужчина прикусывает губу и велит продолжать. – Я помогла ей устроить собрание и позвала на него знакомых, а в ответ попросила выучить письму. Дело не быстрое, но последующие дни практики дали свои плоды.
– Удивительно.
Вопросительно поднимаю бровь. В который раз.
– У, прости меня, деревенщин – от и до – вышло нечто сообразительное, с характером, тягой к знаниям и способностью к обучению. За что ты свалилась на голову тем людям? – парирует мужчина. – Ты вскормила себя сама…Вот, читай! – И он, сложив передо мной кулаки, кивает на костяшки.
– Не умею. Я не знаю старого наречия.
– Тогда запоминай. Первые две буквы означают отрицание, последующие – святость.
Он зачитывает эти несколько горе-слогов.
Повторяю за ним. Касаясь каждой из выбитых чернилами букв, выговариваю и проговариваю их. Мужчина заключает действительность моих возможностей и с похвалой велит впредь этим не заниматься. Заинтересованный взгляд сменяется тучностью.
Он огибает меня и терпеливо, хищнически петляет за спиной. Начинаю перекидывать ногу на ногу и обратно, взбивать подол глупого платья и поправлять спутанные от ветреной дороги волосы. Мелькания смущают и донимают. Пугают. Настораживают.
– Расслабься, – велит голос – почти над плечом. – Бояться тебе меня не надо. Не следует. Не меня так точно, потому что дать я могу намного больше, чем взять взамен.
Волнение от слов не преуменьшается, а – наоборот – возрастает. Мужчина замирает подле и, припав боком к столу, берет за руки. Перебарываю дрожь и выдавливаю самое гордое выражение лица.
– И как я мог рассчитывать, что этот, знающий в людях и себе толк, цветок посмеет открыться первому встречному? Как просчитать смоченные в иронии обращения, как увидеть грань, делящую глупость (от твоего незнания и непонимания многих вещей) и заведомо подготовленную ложь (которая колит своей непосредственностью). О, ты не так проста, радость.
И он отпускает мои руки.
Ловлю себя на мысли, что здешний всеотец вправе требовать любых речей, пригрозив семьёй или расправой с ней, но то не происходит.
– Добро пожаловать в Монастырь, Луна. Отныне ты не покинешь его стены, отныне ты принадлежишь мне, – улыбается мужчина.
И направляет к Мамочке.
Мамочку зовут Ману. У неё угольные волосы многотысячной армии тонких кос, у неё кошачьи глаза и орлиный нос, у неё пышные бедра и тонкая талия, а ещё громкий и властный и в этот же момент ласковый и утешающий голос. Мамочка расправляет руки и прижимает меня к стоящей дыбом, благодаря чёрному корсету, груди. Женщина журчит о приятности встречи и приговаривает:
– Ни о чём не волнуйся, девочка. Всё спрашивай у меня, всё рассказывай мне, во всём советуйся со мной. Договорились? Бо!, да ты птичка – хрупкая, маленькая.