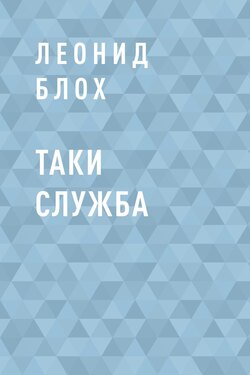Читать книгу Таки служба - Леонид Аркадьевич Блох - Страница 1
ОглавлениеПредисловие. 1979 год.
Эта новость так и осталась бы незамеченной широкой советской общественностью. Да и с какой стати ей быть замеченной – секретный объект все же.
Но вещающая черт знает откуда на русском языке радиостанция «Голос Америки», которую слушало почти все население Советского Союза, однажды сообщила: «От души поздравляем начальника штаба Приволжского военного округа полковника Москаленко с окончанием строительства очередного ракетного комплекса класса «Земля – Земля». Желаем крепкого здоровья, успехов в боевой и политической подготовке, мирного неба вам и вашим сослуживцам. Прослушайте, дорогой товарищ полковник, песню «Хотят ли русские войны».
ГЛАВА 1
ПРИЗЫВНИК
За полтора года до этого события Лёва Штейн в старой одежде, которую не жалко было отправлять в армию вместе с тем, кто ее носил, стоял в строю среди таких же вырванных из привычной обстановки восемнадцатилетних юношей во дворе областного военкомата.
– Пока гадите домашними пирожками, сынки, – кричал пришибленным парням какой-то лейтенант, не намного их старший, – толку от вас не будет! С армейской каши, прошедшей полный цикл в ваших незакаленных организмах, и начнется процесс превращения вас в солдат срочной службы.
– А нельзя ли, – спросил кто-то из строя, маскируясь за спинами товарищей, – превращаться в солдат с помощью жареной курочки?
– Кто? – заорал лейтенант.
Призывники благоразумно промолчали в ответ.
– Принять упор лежа, умники! – приказал офицер. – По пятьдесят отжиманий каждому!
С этого момента Лёва понял, что в армии свои обычаи и традиции. И лезть в нее со своим доморощенным юмором смерти подобно. Ну, может, и не смерти, но затрахать могут до потери того самого юмора.
Если и можно найти две наиболее несовместимые между собой категории, то это были Лёва Штейн и Советская Армия. Две недели провел он на сборном пункте, с которого разъезжались к местам дальнейшей службы новобранцы. Но никто из так называемых «покупателей» не позарился на такой штучный товар, как Лёва Штейн.
Лежа на деревянных нарах, служащих призывникам и кроватью, и обеденным, и карточным столом, он разговаривал с еще одним неприкаянным пареньком из села.
– Ты в какие войска хочешь попасть? – спросил Штейн.
– Я на кухню хочу, – мечтательно ответил тот.
– Готовить любишь?
– Не, жрать. Причем постоянно. У тебя, кстати, ничего не осталось?
– Сухари и пряники есть. Будешь?
– Конечно. А ты?
– Я не хочу. Супчику бы.
– А мне все равно, лишь бы побольше.
Сухари закончились, соседа забрали в пехоту, приезжали и разъезжались все новые и новые призывники, а Штейна, красу и гордость школы номер тридцать два города Винницы, никто не хотел покупать.
Поэтому его и отправили на два дня домой, чтобы мог помыться, почиститься и доложить маме, что служба идет успешно. Так Лёва получил первый армейский отпуск. Чему очень радовались его друзья, в первый же вечер достойно, с помощью болгарского лечо и молдавского красного крепленого вина, отметившие досрочный Лёвин дембель. А мама сказала ему: «Боже, шо такое? В институт не взяли, теперь уже и в армии не нужен?»
Но всему приходит конец, поэтому через неделю и Лёве нашлось местечко в общем армейском строю. На сборный пункт приехал покупатель из харьковской учебки механизаторов, старший сержант по имени Олег. Он взял всего четверых, в том числе и Лёву. Подойдя в поезде к Штейну, сержант тихо сказал ему:
– Я – Милевич Олег Израилевич. Но это, конечно, между нами.
Лёва философски оценил это сообщение, вспомнив из школьного курса истории, что Советский Союз – самое многонациональное государство в мире. А евреи – не очень малая его часть. По количеству, где-то между узбеками и чукчами. Поэтому ничего не было удивительного в том, что в центре Украины, находясь на страже покоя своей необъятной Родины, встретились двое из них. То ли еще будет, ой-ой-ой.
***
Мы по команде вертим головой,
Вступаем с мерзлым грунтом в бой.
Подъем, через мгновение отбой.
А я скучаю за тобой.
Эти строки Лёва написал в первые дни службы в харьковской учебке. Кого Штейн имел в виду, он и сам не знал. Никакая девушка его не провожала, ждать не обещала, а главное, в связи с этим, изменять не собиралась. Потому что девушки этой еще в природе не существовало. Нет, в принципе, девушек в природе много. И любая из них гипотетически могла бы. Но не такой был Лёва человек, чтобы просто так, на виду у посторонних людей гулять с девушкой в Винницком парке имени культуры и отдыха. Правда, если честно, была одна попытка. Как-то Штейна познакомили с дочкой директора крупного завода Катей Чайкой. У нее дома даже был телефон – огромная редкость в те времена. У Лёвы на всей улице Ленинградской, где он жил, не было даже ни одного телефона-автомата. Чтобы позвонить, надо было ходить на центральный телеграф. Катя была хорошей, тихой, домашней девочкой. Любила гулять под ручку и ходить в рестораны. А Лёва прокатился с ней на чертовом колесе, сводил в кафе-мороженое, посидел у фонтана. И деньги кончились. А потом начался чемпионат мира по хоккею, и ему стало некогда болтаться по городу. На этом первая попытка завершилась. Он Кате больше не звонил, а она при всем желании не смогла бы с ним связаться. А на вопросы вечно ржущих по этому поводу друзей, типа, как там Катя поживает, Лёва вполне миролюбиво отвечал, а не пошли бы вы, придурки.
Теперь Лёва снова при любой возможности нырял в увитую виноградом беседку в старом дворе, где все вечера напролет с друзьями детства пил вино, слушал тяжелый рок и резался в карты. Что может быть лучше в семнадцать лет? Тратить же драгоценные молодые годы и, извините за банальность, деньги на девчонок – это про кого-то другого. Тем более, что секса пока еще в Советском Союзе не было и, судя по внутриполитической ситуации, в ближайшие десять лет быть не должно было. А презервативы и жевательная резинка делались из того же материала и на тех же заводах, что калоши и болотные сапоги.
***
Армейская учебка – это такое место, где за несколько месяцев пытаются обучить молодежь разным солдатским премудростям, которые впоследствии выколачивают из них в действующих частях. Для того, чтобы вбить совсем другие вещи. Как-то пессимистично прозвучало, но вполне соответствует действительности.
Представьте себе человека, который прекрасно освоил школьный курс по гуманитарным и точным наукам. Математика вообще была его любимым предметом. И при поступлении в институт на факультет промышленного и гражданского строительства его заваливают на устном экзамене по той же математике. Нет, можно было бы предположить, что Лёва, а речь идет о нем, плохо подготовился, чего-либо не знал, сильно разволновался, в конце концов, но у него была еще сестра по несчастью. Их обоих пригласили в отдельную пустую аудиторию, где задали несколько дополнительных вопросов из высшей математики, которую им предстояло изучать, если бы они поступили в этот вуз.
– Вы из какой школы, молодой человек? – спросила Штейна член приемной комиссии.
– Из тридцать второй, – немеющими губами, не понимая, что происходит, ответил Лёва.
– Очень жаль. А кто у вас математику преподавал?
– Полина Моисеевна, – с надеждой сказал Штейн. А вдруг знакомы?
– Ну-ну. Тогда все ясно, – вздохнула дама в пиджаке и с ромбом на груди. – Забирайте документы.
– Зина Циперович, – представилась подруга по несчастью, когда они с Лёвой вышли из института с документами в руках. И все стало ясно. Хотя ее нос с горбинкой и жгучие со слезинкой глаза сразу могли бы подсказать Лёве, кто по национальности эта девушка. А секретарь приемной комиссии тихо шепнула им, чтобы ехали учиться в Москву или Ленинград, потому что на Украине слишком маленький лимит на прием в вузы граждан некоренных национальностей. Почему Лёва, который родился и вырос в Виннице, а также его мама и бабушка, всю жизнь там прожившие, считались некоренным населением, он понять не мог. «Дети разных народов, мы судьбою одною живем», – это про кого песня? Не про негров же американских.
А мама сказала, что так и знала, и даже почти не заплакала.
Поэтому, видно, и попал Лёва в учебку будущих армейских механизаторов. Чтоб было совсем смешно. Раз уже надо выполнять гражданский долг, то пусть хоть поржут люди до икоты. А чтобы совсем насмешить почтенного читателя, сообщу ему, что начали готовить Штейна к профессии машиниста башенных кранов. А? Он уже потом догадался, почему его привезли сюда. Когда увидел, что все инструктора по башенным кранам в этой харьковской учебке – тоже евреи. Тот самый сержант Милевич, нашедший Лёву на сборном пункте, сказал ему:
– Напиши родителям, чтобы готовили деньги. После экзаменов останешься здесь вместо меня.
– Сколько? – спросил Лёва.
– Всего две тысячи, – ответил Олег.
Почему-то считается, что если семья еврейская, то она богатая и зажиточная. Чуть ли не синонимы. Но Лёву и его брата растила одна мама при посильной помощи бабушки. Поэтому денег у них в доме давно не водилось, как и Лёвиного отца. Мама получала восемьдесят рублей, а бабушкина пенсия составляла еще тридцать.
– Спасибо, Олег Израилевич, – ответил Штейн, – но такой суммы маме не найти никогда.
– Ты что, дурак? – возмутился Милевич. – Тебя ж зашлют в тьму-таракань. Пусть в долг возьмет, у родственников.
Лёва покачал головой, типа, таких родственников у меня нет, не в смысле богатых, а которые две тысячи дадут, и пошел на занятия. Очень хотелось есть, а до обеда было еще два часа.
***
До службы в армии оставалось два года. Лёва со своими закадычными дружками пошел в очередной поход. С тремя ночевками. Они остановились в лесу на берегу быстрой речушки. Вино, взятое с собой, на удивление скоро закончилось, и пришлось идти в ближнее село за самогоном. Потому что песни у костра под гитару предполагают некоторый разогрев и исполнителя, и слушателей. Пошли Лёва с Павлом, как самые рассудительные. В те времена за производство самогона можно было даже попасть под суд. Поэтому незнакомым парням купить этот благородный напиток было непросто.
Они постучали в калитку. Вышла бабуся. Лёва изобразил вековые страдания еврейского народа, измученного жаждой в пустыне, а Павел спрятался за забором.
– Что, хлопчик? – спросила бабушка, подходя ближе. – Молочка хочешь?
– Не откажусь, – ответил Лёва, краснея от собственной наглости. – А водки у вас нет, случайно? Мой друг сильно руку порезал, продезинфицировать нужно. Деньги у меня есть.
Бабушка подошла еще ближе и неожиданно всплеснула руками:
– Ванечка, внучек! Де ж ты був? Мы же вси очи проплакалы.
– Я не, – начал Лёва, но получил снизу тычок от Павла и тут же сориентировался. – Да мы тут, рядом. В лесу ночуем.
– Заходь скорее. Я тебя покормлю. И друга своего зови.
Сначала посланцы как-то отстраненно подумали о друзьях, оставшихся в лесу, но бабушку обижать не хотелось, а тем более, лишать ее радости общения с «внуком Ванечкой».
На столе появилась бутылка самогона, домашней выпечки хлеб, холодное отварное мясо, вареные же яйца и соленые огурцы.
Много ли надо шестнадцатилетним городским парням? Тем более, что самогон был градусов под шестьдесят. А в сочетании с холодным молоком и солеными огурцами придал невероятные ощущения их организмам.
– Мы пойдем, пожалуй, – с трудом сказал Лёва, пытаясь встать.
– Да, – поддержал его Павел. – Нас ждут, – и добавил, – великие дела.
Они стояли, пошатываясь, а хозяйка собирала им с собой остатки еды со стола и еще бутылку самогона. Хотя и от первой осталась почти половина.
– Ты нас, Ванечка, не забывай, – попросила бабушка Лёву.
– Никогда, – Штейн хлопнул себя по груди, чуть не вышибив обратно плохо прижившиеся сто пятьдесят граммов первача.
На обратном пути друзьям попалось стадо гусей. Они, гогоча, мирно паслись на берегу пруда. Людей видно не было.
Что их подвигло на это геройство? Кроме самогона, вроде бы, нечему было. Один гусь на свою беду зашел слишком далеко, поэтому и был выбран в качестве жертвенной птицы. Забить его палкой не составило большого труда. Да и кто там их считает? Сотни две паслось, не меньше.
– Обходи его слева! – заорал Павел, и Лёва, страшно испугавшийся гогочущего и шипящего гуся, начал обход по большому кругу, отбежав метров на пятьдесят. Его друг был менее щепетилен. Он часто ходил с отцом на охоту.
Представьте себе эту картину. Лёва и Павел, оба пьяные, в гусином пуху, с мешком еды и полутора бутылками самогона, явились к оставленным в лесу друзьям. Павел к тому же тащил за лапы убиенную птицу.
Несколько нецензурных слов, услышанных добытчиками, были скорее положительной оценкой их непростого вояжа. После чего Лёва и Павел упали в траву и тут же уснули. Проснулись они от запаха гусиного супа, кипящего в котелке над костром. Второй раз они проснулись уже под утро, от холода. Так как, выпив самогон и съев по ложке супа, заснули прямо у костра. Друзья попытались переползти в палатку, но услышали зычный окрик:
– Подъем, гусиные душегубы!
Это за ними приехал отец Павла. Что заставило его примчаться в такую рань? Наверное, шестое чувство. Друзья быстро собрались и свалили с места преступления. И вовремя. Через час туда явились народные мстители из деревни. И чем бы это закончилось, одному богу известно.
А гусиный суп они доели во дворе Пашиного дома, разогрев его предварительно на газовой плитке. Под красное молдавское вино и песни Алеса Купера.
***
Вот такие воспоминания навеяло курсанту харьковской учебки Штейну элементарное чувство голода. Тема питания в армии – отдельная и многоплановая. При упоминании о ней в кишечнике появляется газообразование, а в печени – боль. Хотя и прошло много лет. Есть книги о вкусной и здоровой, о русской и французской, даже о еврейской кухне. Но труды об армейской стряпне спрятаны за семью засовами, чтобы, не дай бог, не стать достоянием рыдающей общественности, чьим детям еще предстоит надеть кирзовые сапоги.
Но для курсантов качество пищи не имело никакого значения. Количество и только количество. Каша из двух круп, плохо сочетающихся даже при взгляде на их сырые молекулы. Суп из вчерашней недоеденной каши, разведенный кипятком с куском комбижира. Великое изобретение – комбижир. Его состав наравне со схемой атомохода «Ленин» – две самые большие тайны советской военной доктрины. На комбижире жарили, его клали во все блюда, не исключая чая и компота из сухофруктов, полученных из подсохшей, а до этого подгнившей падалицы. Только сваренное вкрутую яйцо по воскресеньям, столбик масла по утрам и черный хлеб соответствовали своим названиям.
Хлеб – это вообще спаситель солдата-первогодка. Набив им после обеда полные карманы, он может как-то продержаться до ужина. Но враг-сержант заставляет зашивать все карманы обмундирования, чем вынуждает подчиненных выносить хлеб за пазухой и тут же, позади столовой, запихивать в рот. Никакой гигиены, зато желудок благодарно урчит еще пару часов.
На занятиях в учебке курсант Штейн развлекался. Они проходили темы по физике и математике где-то за седьмой класс. Ему бы сейчас интегралы брать да сопромат учить, а он проходил правило Буравчика и вычислял квадратный корень из двадцати пяти.
– Штейн, остаешься за меня, – часто говаривал преподаватель по математике. И уходил на свидание со штабной связисткой.
А Лёва садился на его место и объяснял бывшим двоечникам, как решать квадратные уравнения. Это надо родному государству? Так будем изучать хоть по десятому разу. Не удивительно, что Лёва стал в учебке лучшим учеником, за что регулярно получал увольнительные в Харьков. Где с другом Сашкой Ольшанским ходил в кино и в гости к Сашкиному дядьке. Как-то раз дядя Федя даже налил им за обедом по стопке водки, и они через три часа, после сеанса кино, вдыхая в себя и гордясь своими ощущениями, проходили через контрольно-пропускной пункт родной части.
***
Штейн постоянно получал кучу писем. Писали все: мама и брат, отец и бабушка по отцу, друзья и друзья. Иногда между несколькими листами плотной бумаги в конверте лежала трех- или однорублевая купюра. Для того, чтобы понять, что такое в то время было три рубля, приведу один пример. Собутыльники тех лет скидывались по рублю, и им вполне хватало на две бутылки хорошего вина, триста граммов чайной колбасы, батон хлеба и три плавленых сырка. Раз мы уже вспомнили про родных Штейну людей, то остановимся на них чуть подробнее.
В семье Лёвиных родителей никогда не было так называемого семейного счастья.
Пожалуй, об этом все.
***
Враг-сержант, который зашивал курсантам карманы, он же заместитель командира взвода Гриша Пасюк, был антисемитом. Не такая уж редкая на Украине особенность мировоззрения. Это на практических занятиях по изучению башенного крана руководили Олег Милевич сотоварищи. А в расположении роты рулили Пасюки. Поэтому Штейну приходилось особенно весело. Его первое время испытывали на прочность нервной системы и выносливость. Не только его, конечно. Всех поднимали посреди ночи и, прихватив с собой для устойчивости во время бега автомат и битком набитый вещмешок, заставляли бежать марш-бросок протяженностью десять километров.
– Я тебя загоняю, – глядя исподлобья, убеждал Штейна сержант Пасюк. – Ты у меня пощады запросишь, как твой Иисус Христос.
Лёва в ответ молчал. Он уже знал, что спорить в таких случаях нельзя. Нарваться на наряд вне очереди совершенно ни к чему.
Сержант Пасюк часто бежал рядом с Лёвой, прислушиваясь к его дыханию и присматриваясь к его бледному виду. Поджидая, когда он свалится без сил или запросит пощады, или начнет отставать от братьев-славян. Но Григорий не знал, что Лёва в юности постоянно занимался спортом. Он бегал с барьерами, плавал на байдарках, играл в футбол, занимался греблей в клубе юных моряков. Да и кто бы мог заподозрить, что городской еврейский мальчик может при желании обогнать весь взвод и первым сорвать финишную ленточку, а если понадобится, то еще и забить гол в левый верхний угол кирзовым сапогом. После двух марш-бросков на построении Пасюк вдруг, немного смущаясь, поставил Штейна в пример остальным:
– Ну? Еврей может, а вы, славяне, нет?
После этого Лёва неожиданно для себя стал командиром отделения.
Отмечу одну немаловажную для нашего рассказа деталь. События происходили в конце семьдесят седьмого года прошлого века. То есть учебка готовила специалистов, необходимых для строительства объектов московской олимпиады. Машинисты башенных кранов – крайне дефицитная в то время профессия. Командир взвода лейтенант Банькин, построив подчиненных, доложил:
– Курсанты, Родине нужны механизаторы. Поэтому срок вашего обучения будет сокращен. Ваш выпуск состоится не в мае, а в марте. Лучшие из вас поедут служить в Москву.
Штейн и не сомневался в том, что по всем параметрам окажется лучшим. И теория, и практика давались Лёве легко. Он не боялся высоты, легко управлял махиной крана. Кого же еще посылать в Москву, как не его?
Но кто мог подумать, что и здесь существовали ограничения? Пятая графа советского паспорта, то есть национальность, вставала непроходимым шлагбаумом на пути многих. Лёва не был исключением. И где? Ехать пахать на стройку, пусть и в столицу, тоже было не положено. Черт возьми! Впору было бы эмигрировать, как и отъезжающие первой волны. Отслужив, конечно, срочную службу.
***
Эмиграция, если честно – последнее дело. Это означает, что человек признается в своей несостоятельности, сдается перед обстоятельствами. Все, говорит, звиздец, больше так не могу. Заберите меня отсюда скорее, господа сионисты или америкосы.
А вот вам хрен! Это моя страна, пусть она сама так и не считает. Не нравлюсь, катитесь отсюда сами. Только так, и не иначе.
***
У Лёвы в юности было много друзей. Но главных, которые на всю жизнь, трое. Павел, Володька и Юра-капитан. Они особенно сдружились в клубе юных моряков, в котором занимались без малого пять лет. Четверо друзей стали экипажем четырехвесельного яла номер два. Штейна посадили на правый бак, то есть на место правого заднего гребца, как самого слабого из всех. Типа, для мебели. Чтобы не портил общую картину. Так оно, вообще-то, поначалу и было. Но через год Лёва так окреп, что легко поддерживал бешеный ритм, задаваемый Юркой-капитаном. За что удостоился от него короткой, но емкой похвалы «зашибись» и дружеского удара по плечу. Что само по себе ничего бы и не значило, если бы не знать, с какой иронией поначалу его друзья относились к возможности занятия Штейна физическим трудом, а тем более, спортом.
Есть, правда, пара видов спорта, в которых евреям можно себя проявить. Это, в первую очередь, шахматы. Во вторую – фигурное катание. Несколько человек играет в большой футбол. Один – в хоккей. И, пожалуй, все. Да, был еще один известный дзюдоист, один боксер и один штангист. Но это, скорее, исключение из правил, подтверждающее общее положение вещей. Поэтому скорее, когда хотят представить себе еврея, то вспоминают в первую очередь такие качества, как хитрость, жадность, жидкий фарш под кожей вместо мышц, длинный нос и кошачьи глаза. Такая себе шеренга вскормленных на курином бульоне брюнетистых интеллигентов, не приспособленных ни к каким трудностям. Ну, очень неприятное зрелище. Можно даже как-то понять этот бытовой антисемитизм.
***
Как и следовало ожидать, Штейн при распределении не попал ни в Москву, ни в инструктора харьковской учебки. Если имел несчастье родиться евреем, то хотя бы припаси к этому безобразию немного денег. В качестве компенсации за тот моральный ущерб, который получают нормальные люди, вынужденные жить и работать рядом с тобой. Лёва в конце марта семьдесят восьмого года с группой курсантов поехал на восток нашей Родины. Под присмотром того же Олега Милевича. В Харькове уже была весна. Плюс восемь, подснежники, солнце. По мере продвижения поезда на восток в вагоне становилось все холоднее и холоднее. Да и за окном в лесах и на полях появился еще не собирающийся таять снег. Милевич чувствовал свою вину перед Лёвой. Все-таки он притащил его в учебку, а теперь вон оно как обернулось. Ну откуда же он знал, что у его винницкого соплеменника нет денег.
– Штейн, – сказал он, подсаживаясь к лежащему на полке Лёве, – выпить хочешь?
– Шутить изволите?
– Да какие на хрен шутки. Ты хоть представляешь, куда мы едем?
– Военная тайна, наверное.
– В Степную область. Только тихо.
– Тогда наливайте, товарищ сержант. Это за что же нам такая честь?
– Везде люди служат.
– Вам легко говорить. Сдадите нас с рук на руки и тут же обратно.
– Поэтому выпей, Лёва. Ехать еще долго. А патрулей здесь не бывает.
ГЛАВА 2
ТО БЫЛИ ЦВЕТОЧКИ
Воинская часть, в которую прибыли Штейн и еще трое выпускников харьковской учебки, стояла посреди голой зимней степи. Недаром область называлась Степной. И находилась на границе с самой степной республикой – Казахстаном, в то время еще входившим в Советский Союз.
Лёва перестал что-либо соображать. Перестал с того момента, как попал в казарму, где ему суждено было провести ближайшие восемнадцать месяцев своей жизни.
Он перестал соображать прямо с порога, как только Олег Милевич поскорее сдал их документы и бегом свалил оттуда в обратный путь, очевидно, боясь, что его тоже примут за новобранца и заставят мыть полы.
В роту механизаторов попали только двое из доехавших из Харькова бывших курсантов: Штейн и Вова Закута, киевский мальчик-мажор аналогичной национальности. Он был рыжий и наглый. В поезде Закута с Лёвой не общался, сразу же заявив всем, что это дикая ошибка, и за ним скоро прилетит самолет и заберет его к маме.
Так вот, прямо с порога дежурный по роте сержант Голованов, будущий Лёвин заместитель командира взвода, широко улыбнулся вновь прибывшим и вручил им по лому.
– Присоединяйтесь к нашей жизни, – сказал он, и восемь молодых вышли на улицу.
В конце марта в тех краях мороз стоял крепкий. Вдоль дорожек громоздились созданные руками солдат ледяные навалы правильной формы. И сейчас салагам предстояло сбивать лед с тротуаров, чтобы не скучно было коротать время до обеда. Закута сразу же показал, что не намерен хоть как-то физически себя утруждать. Он приставил лом к стене и закурил. Штейн же вкалывал вместе со всеми, даже не задумываясь, зачем он это делает. Явно их проверяли на вшивость.
Через час разрешили вернуться в тепло казармы. Восемь салаг осеннего призыва выстроились пред светлые очи дембелей, которым оставалось служить около двух месяцев. Сержант Голованов доложил:
– Это наглый еврей (показав на Закуту), а это хитрый еврей (показав на Штейна).
Других определений не нашлось.
– За мной скоро приедут, – убежденно сказал Вова, – может быть, даже сегодня.
– Так нам надо спешить, – выразил общее мнение кто-то из дембелей. – С него и начните.
Закуту утащили куда-то в каптерку, то есть на вещевой склад, где была очень хорошая звукоизоляция. Минут через пятнадцать он вылетел оттуда дрожащий и красный, но без единого синяка. Он молчал, стиснув зубы, но ясно было, что досталось ему хорошо. Опытные бойцы били, не оставляя следов, сильно и больно. Лёва решил, что настала его очередь, и морально подготовился к этому. Но, как ни странно, его никто не собирался трогать. Сержант Голованов показал ему койку, выдал туалетные принадлежности и сказал, мол, давай, парень, приводи себя в порядок, через двадцать минут обед.
***
Штейн попал в бригаду монтажников башенных кранов и подъемно-козловых устройств. Каждое утро, кроме выходных, после завтрака сержант Голованов строил свой взвод, и они направлялись на работу. Где-то в километре от военного городка находились базы механизаторов разного профиля: автокрановщиков, водителей, бульдозеристов и, конечно, крановщиков-высотников. На работе было гораздо легче – делай честно свое дело за себя и за того парня, которому скоро домой. Там Штейн и познакомился с капитаном Кротовым, одним из главных действующих лиц нашего рассказа, который командовал крановщиками и монтажниками на работе.
Кротов сразу же показался Лёве каким-то ненастоящим военным. Он форму носил, как будто это был домашний тренировочный костюм. А когда хотел чего-нибудь от подчиненных, то говорил:
– Товарищи солдаты, пожалуйста, откатите эту тумбу в тот угол.
– Она очень тяжелая, – отвечал за всех сержант Голованов. – Нам не справиться.
– Ну что же, – вздыхал капитан. – Тогда пусть лежит здесь. А вот этот ящик? Не затруднит вас перенести его в помещение склада?
Но, увидев огорченное лицо Голованова, Кротов тут же отказывался от этой идеи:
– Да, я понимаю. Это тоже не к спеху.
У Кротова были жена и дочка девяти лет. Иногда, примерно два раза в неделю, он приходил на службу с неумело закрашенным тональным кремом синяком под глазом. В остальные дни он приходил с разбитой губой или расцарапанной шеей. Покомандовав с утра, Кротов запирался на складе и ложился спать до обеда. Видно, ночка бурная была. А его подчиненные оказывались предоставленными сами себе. То есть сидели в тепле и мечтали о доме. Это кому положено было. А первогодки всегда находили себе занятие. Оно буквально лежало под ногами. Подметали, чистили, подшивали свежие подворотнички себе и людям.
Но основные трудности подстерегали молодых солдат в казарме.
Один марш-бросок ночью на десять километров с полной выкладкой Штейн запомнил на всю жизнь. Из отпуска приехал прапорщик по фамилии Честный. В дороге, видно, он несколько дней пил и был зол на весь свет за то, что нужно приступать к своим обязанностям.
– Что, лять, расслабились тут без меня? – заорал Честный с порога. – Давно яйца в мыле не были?
– Никак нет! – заорал в ответ дежурный по роте ефрейтор Гребенюк. – Рады вам, товарищ прапорщик, аж до слез.
– Посмотрим, – более миролюбиво ответил Честный и сразу же направился в туалет. Нет, не за тем, что вы подумали, а для проверки чистоты и порядка.
Вышел он из туалета с горящими глазами, держа правую руку вверх.
– Что, лять, давно в чужих руках под себя не мочились? – заорал прапорщик опять. – Общее построение. Кроме дембелей, конечно.
Через десять минут весь личный состав роты, кроме дембелей, был построен в казарме. Честный продолжал держать правую руку вверх.
– Это вопиющий случай в моей службе, – громко заявил прапорщик. – Голованов, выдай всем автоматы, противогазы, саперные лопатки и плащ-палатки. На все про все пять минут.
Через четыре минуты и тридцать секунд рота построилась вновь. Теперь уже со всем вышеперечисленным на себе.
– Товарищ прапорщик, – решился спросить сержант Голованов, – что случилось-то?
– И ты еще спрашиваешь? Я, в святая святых армейской жизни – туалете, нашел обгорелую спичку. Мне больно говорить об этом. Невыносимо даже думать.
– Хоронить побежим? – понимающе спросил Голованов.
– Другого выхода нет, – вздохнул прапорщик. – Давай, командуй бойцами.
Марш-бросок по пересеченной местности под названием «Похороны спички» начался.
Весь личный состав, кроме дембелей и дежурных, побежал. Прапорщик и два сержанта ехали сзади на «Жигулях» Честного. Через час, обогнав бегущих и просигналив, машина остановилась посреди степи.
– Здесь, – показал рукой прапорщик и пошел отлить. А Голованов разъяснил:
– Копаем яму глубиной два метра, размерами пять на пять.
– Зачем такую большую? – спросил кто-то.
– Таковы суровые правила. Меньше нельзя, – ответил сержант.
И стало ясно, что спорить бесполезно. Копали, естественно, только молодые. Хорошо, что земля оттаяла после зимы и легко давалась. Через два часа яма была готова. Голованов подозвал дремлющего в машине прапорщика. Он встал, опять отлил и подошел к яме.
– Стройся! – скомандовал сержант.
Честный снял фуражку и произнес:
– Товарищи бойцы! Сегодня мы прощаемся с дорогой нашим сердцам вещью – обгорелой спичкой. Когда-то она была стройным, зеленым деревом. Радовалась солнцу и питательному дождю. Потом она превратилась в одну их многих спичинок, лежа в коробке рядом с подружками. Но чья-то злая рука, гнусно попользовавшись, швырнула нашу спичку в сортир. Но она не закончила свою жизнь под ногами неблагодарных солдат. Она заслуживает другой участи. Голованов, возьми ее.
Сержант бережно принял спичку у прапорщика, завернул в кусок белой материи и, спрыгнув в яму, положил ее на дно.
– Давай, – махнул Честный. И молодые солдаты начали сбрасывать землю обратно в яму. Потоптавшись и уплотнив грунт, они встали обратно в строй. Прапорщик достал табельное оружие и произвел выстрел вверх, изображая салют погибшей.
***
Закута, и правда, быстро куда-то слинял. Оказалось, что его перевели в почтальоны. После какого-то письма из Киева. Соответственно, и жил он где-то в казарме роты обеспечения. «Наглый и хитрый», – сказал о нем все тот же дембель. «А ты, Штейн, глупый», – добавил другой. То есть, если бы у Лёвы в военном билете в графе национальность значилось чуваш, мариец или негр преклонных годов, к примеру, то при его способностях, физическом здоровье, внешних данных и отсутствии комплексов он бы никогда не попал в армию. А раз попал, значит – точно глупый. Спорить не о чем. Один еврей на всю роту механизаторов. Как сказал какой-то дембель: «Вы слышали новый анекдот? Еврей-слесарь». Имея в виду запись в военном билете Штейна. В графе специальность значилось «слесарь». Ха. Три раза.
***
Не поступив в институт, Штейн пошел работать. Маме нужно было помогать. Один из лучших учеников школы за месяц до семнадцатилетия стал учеником слесаря нестандартного оборудования. Звучит! Это была песня, а не работа. Участок нестандартного оборудования занимался всем, чем ни попадя. В свободное от распития портвейна время. Он варил металлические швы, резал уголок, таскал станки с места на место, чинил, паял, кроил железо. Работа кипела. Но чаще всего весь участок делал памятники из стального листа. В качестве халтуры. А чтобы начальство не застукало за этим занятием, на шухере сидел дядя Миша с электросварочным аппаратом. Как только кто-нибудь посторонний пытался пройти, он прятал лицо за защитной маской и начинал тыкать электродом куда попало, зажигая электрическую дугу и крича: «Поберегись, курва! Глаза попорчу!»
После чего незваный гость сбегал, пряча те самые глаза.
А вывозил памятники за территорию мастер участка Семен Тузик. Вывозил внаглую, посреди белого дня, на электрокаре. Он подъезжал к проходной, бибикал. Охранник выглядывал, наблюдал пустую электрокару и улыбающегося Тузика.
– Я на полдник! – кричал Семен. Он жил рядом с заводом. Охранник открывал ворота, и Тузик переставал его интересовать. В этот момент стоящие в мертвой точке Лёва и еще один слесарь Славик быстро грузили памятник на электрокару. Мастер мгновенно стартовал. Схема была отработана до автоматизма. Только однажды, когда открылись ворота, с внешней их стороны стояла «Волга» директора завода. Невозмутимый Тузик отдал честь шефу, и на лихом вираже проехал мимо него.
– Что это было? – спросил директор у своего водителя.
– Сема Тузик металлолом сдавать поехал.
– Понятно, – равнодушно произнес директор, – я думаю, раз охрана пропустила, значит, все оформлено честь по чести.
Со спиртным на участке нестандартного оборудования никогда не было проблем. По соседству находился ликероводочный завод. И разделял оба завода только трехметровый забор с орнаментом из колючей проволоки. Но разве это преграда для русского умельца широкого профиля? В определенный момент и в оговоренном месте по сигналу с двух сторон к забору приставлялись стремянки. Одновременно поднимались парламентарии. Один тащил пачку электродов, или несколько подшипников, или набор гаечных ключей «шаловливые ручки». Другой был менее оригинален – обычно это была трехлитровая банка со свежей продукцией. Стороны обменивались верительными грамотами и, чтобы не навлечь на себя гнев руководства, довольные друг другом, быстро спускались на заранее подготовленные позиции.
Там, на заводе, Штейн впервые в жизни по-взрослому напился. Он до этого никогда не пил водку. А тут бригада участка выгодно продала сразу три памятника и решила отметить это дело. Обычно Лёва такие мероприятия пропускал, ссылаясь на слабую печень и нелюбовь к водке. Но его уговорили. Боевое крещение, мол, докажи, что евреи тоже люди, пятьдесят грамм даже не заметишь. Как Штейн дошел до дома, он и не помнил. Всю ночь он куда-то летел, крича тазику у кровати страшные проклятия. А утром оказалось, что Лёва пришел домой в грязном рабочем комбинезоне, забыв переодеться. Он даже не помнил, кого встретил по дороге домой. Лишь соседка тетя Маня сказала вежливо его маме: «Левочка так вырос. Я только вчера заметила».
***
В казарме всегда было весело. Только всем по-разному. Дембеля, то есть солдаты, которым осталось служить месяц, целыми днями лежали на кроватях в углу, бренча на гитаре. Им даже еду, то есть белый хлеб, масло и мясо, приносили туда. Офицеры и прапорщики старались к этому углу не подходить, дабы не провоцировать конфликт.
Старики, то есть те, кому оставалось служить семь месяцев, рулили процессом, указывая, кому и что надлежит выполнять. Кому стирать их обмундирование, чистить сапоги, кому мыть полы, кому пришивать подворотнички – полоски белой материи, облегающие шею под гимнастерками.
Годки или черпаки, отслужившие по одному году, уже никому ничего не стирали, но и за собой ухаживали сами.
А вот молодым было веселее всех. Дембеля, старики, черпаки, прапорщики и офицеры имели их всегда, везде и по любому поводу. Вся рота ложилась спать, а восемь молодых тянули центряк. В их числе и Штейн.
Это происходило так. Дежурный выливал на некрашеный деревянный пол пару ведер воды, а салаги, держа тряпки, как паруса, задом вперед мчались шеренгой, собирая воду. Выжимали в ведра и мчались опять. Спать Лёва ложился на два часа позже остальных. Утром, за час до подъема, его поднимали опять. Для той же процедуры. Свежевымытые полы – как приятно. Конечно, не всем.
***
В мае поехали домой дембеля. И прибыл новый призыв. К восьми молодым, среди которых был и Штейн, прибавились шесть духов. Дышать стало легче. Появилось даже свободное время для ответов на письма. Кто-то заметил, как Лёва пишет стихи, и тут началось. Старослужащие раздирали Штейна на части, добиваясь, чтобы каждая их них помогла оформить дембельский альбом. Причем заставляли не только сочинять, но и рисовать, недоумевая, что до сих пор не разглядели в этом еврее такой талант.
Перлы типа «Зеленью вся степь одета, отслужить осталось лето», «Мы с тобою, Маша, словно два бойца. Не забыть вовек мне твоего лица», «Когда ложишься спать, подруга, то прочь гони ты моего недруга» пользовались бешеным успехом. А полное отсутствие художественных способностей Штейн компенсировал природной смекалкой, переводя в дембельские альбомы картинки из журналов и открыток через кальку. Лёва расправил плечи, стал выглядеть гораздо чище. Его уже почти не заставляли мыть полы. А как же. Поэту необходим полноценный сон. И за обедом его начали сажать за другой стол, где мяса в каше было побольше, и суп из отдельной кастрюли, и чай без марганцовки и брома.
Но работу никто не отменял. По рабочим дням Лёва все так же запасовывал тросы в бобины, закручивал и раскручивал сотни гаек, таскал квадратное, перекатывал круглое и чистил ржавое. Где-то рядом строился ракетный комплекс, но туда Лёву пока не допускали. Международная общественность уже встала на защиту угнетенного в Советском Союзе еврейского народа, и первая волна эмигрантов покатила в Израиль. И прокатилась по тем евреям, которые никуда не собирались уезжать. Прокатилась, как электричка по травинке, залетевшей на рельсы. Разрезав ее пополам.
Однажды в казарму воскресным утром зашли трое кавказцев.
– Гдэ у вас тут еврэй живет? – спросил один из них дневального. Тот испуганно показал пальцем на Лёву, смотрящего вместе со всеми любимую передачу «Служу Советскому Союзу». Лёва, услышав, что речь идет о нем, мгновенно посерел и попытался спрятаться за спинку кровати.
– Брат! – заорал тот же кавказец. Они втроем начали тормошить Штейна, хлопать по плечам, трогать мускулатуру, одобрительно цокая языками. Оказалось, что это были представители народа, называемого горскими евреями. Лёва и понятия не имел, что существует такая разновидность, живущая в Дагестане. Они очень чисто говорили по-русски. Акцент, с которым кавказцы вошли в казарму, применялся специально для таких случаев. Все трое работали шоферами, отслужили по полтора года и навели шороху в Лёвиной роте, предупредив о нежелательных последствиях местных стариков. «Если, канэшно, кто-нибудь нашего брата абидит».
От них Лёва узнал, что существуют еще и бухарские евреи, чертой оседлости которых является Узбекистан. А сам Штейн, судя по всему, относился к самым неуважаемым, европейским.
В конце лета произошло неординарное событие – Лёву перевели работать на башенный кран. Капитан Кротов спросил его:
– Товарищ Штейн. Вы еще не забыли, как управлять башенным краном?
– Никак нет, товарищ капитан, – чуть не заорал Лёва от радости.
– С завтрашнего дня я вас перевожу в крановщики, – Кротов посмотрел на солдата, боясь возражений.
Это еще был, конечно, далеко не ракетный комплекс. Это был старенький кран на бетонном заводе. Лёвиным сменщиком работал Серега Яцкий. Трудились по очереди – утро, вечер. Служба стала в какие-то моменты даже доставлять радость. Особенно в те, когда Лёва забирался в старенькую кабину и смотрел сверху на копошащихся внизу солдат и офицеров. Была только одна проблема: чтобы пописать, надо было спускаться вниз. Но решение находилось в одной мудрой поговорке «Нету лучшей красоты, чем, сами понимаете, что сделать с высоты». Что Лёва однажды и воспроизвел, предварительно убедившись, что под стрелой никого нет. Как написано в плакате по технике безопасности.
– А, что за сволочь! – услышал он, еще не завершив процесс. Это была мастер бетонного завода Анна Тихоновна, женщина сорока лет, закаленная работой с военнослужащими. Она выразилась даже сильнее, но мы не решаемся воспроизвести данное выражение в истинном виде.
– Штейн! – заорала она. – Убью, на хрен!
– Это вода, товарищ мастер! – заорал в ответ Лёва, прячась в кабине и дрожащими руками застегивая брюки. – Старая вода из бутылки! – он нашел в кабине какую-то бутылку и помахал ею над головой.
Анна Тихоновна потрогала мокрую прическу и понюхала руку. На лице ее отразилось сомнение, как бывало всегда, когда ей приходилось решать, с кем из солдат-срочников развлекаться сегодня вечером. А иначе зачем одинокой женщине без шансов болтаться в такой глуши.
– Скажи еще, божья роса, – гораздо тише сказала Анна Тихоновна.
«Бог тоже был евреем», – подумал Лёва, а вслух добавил:
– Можете загадать желание, обязательно сбудется.
– С чего это? – засомневалась она.
– Аминь, – ответил Штейн и полез в кабину. Пришла машина с ракетного комплекса. Грузиться бетонными блоками. Лёва посмотрел вниз и узнал в шофере одного из горских евреев.
– Эй! – заорал он.
Тот удивленно, не веря своим глазам, что его соплеменник может достигнуть таких высот, покачал головой и протер глаза. А когда убедился в том, что не ошибся, станцевал от радости зажигательный танец под собственный аккомпанемент языком.
Лёву распирало от гордости. Вот он, его звездный час. Посреди голой степи он стоит на двадцатиметровой высоте и сверху вниз смотрит на всех. На горских евреев, на Олега Милевича, на сержанта Пасюка, на всех дембелей и старослужащих Советской Армии. Антисемиты всего мира, а не пошли бы вы все на хрен!
ГЛАВА 3
И ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ
Всего лишь месяц проработал Лёва на бетонном заводе. Потому что в один несчастный вечер его башенный кран, гонимый сильным порывом ветра, проехал пятьдесят метров подкрановых путей, уперся в тупиковые упоры и опрокинулся. Потому что Серега Яцкий выпил после смены со стропалями и забыл закрепить тормоза.
В одно мгновение бетонный завод потерял и башенный кран, и основной производственный корпус, на который этот кран свалился, разрушив две стены и крышу. А также сложенную внутри арматуру. Хорошо, что дело было летом. Поэтому работы продолжились под открытым небом. А для погрузочно-разгрузочных дел на завод срочно пригнали автокран.
В часть тут же примчался следователь из военной прокуратуры. Штейн показался ему наиболее достойной кандидатурой для уголовного дела. Следователь вызвал Лёву в штаб их части на допрос.
– Майор Катанин, – представился он.
– Очень приятно, – зачем-то ответил Лёва.
– Кто поручил тебе эту диверсию? – с места в карьер заорал следователь.
Лёва мгновенно побелел и потерял дар речи.
– Говори правду, Штейн. Тогда ограничимся дисциплинарным батальоном. А будешь изворачиваться, в тюрьму пойдешь.
– Вы о чем, товарищ майор? Я ничего не знаю.
– Не валяй здесь Ваньку, Штейн. Родственники за границей есть?
– Никого, все дома, – промямлил Лёва. – А что сказать надо? Вы подскажите.
– Идиота из себя корчишь? Ладно, рассказывай, кто поручил тебе открутить тормозные колодки у крана.
– А, так вы бы сразу же и спросили бы. Я-то думал.
– Ну? – у следователя загорелись глаза.
– Откуда я знаю, товарищ майор. Меня там не было. Смена-то не моя.
– Иди, Штейн, отсюда. Но я с тобой не прощаюсь. Ты у меня теперь в черном списке под номером один.
А Яцкий на первом же допросе взял вину на себя. Кран давно был списан, и пришлось следователю замять дело.
– Вы, товарищ майор, моих мальчиков не вините, – жалобно просил Катанина капитан Кротов. – Они служат в нечеловеческих условиях. Техника старая, инструмент не выдают. Даже рабочих рукавиц не хватает.
– Ты что, капитан, за этого еврейчика отсидеть хочешь? Так я тебе устрою показательный процесс.
– Что вы, товарищ майор, – перепугался Кротов.
– У меня и на тебя досье имеется. И на жену твою.
– Я ж верой и правдой, – залепетал капитан.
– Ладно, успокойся. Иди, работай. Но если что, сигнализируй.
– Так точно, товарищ майор.
Яцкому служить оставалось недолго, и последующие четыре месяца до отъезда домой Серега проработал чайханщиком. Посреди огромной стройки, где сооружалась маточная точка ракетного комплекса, стоял небольшой вагончик, в котором любой воин мог всегда выпить горячего чаю. В окошке этого вагончика теперь постоянно торчала улыбающаяся физиономия Яцкого. А на стене внутри висел большой календарь с изображением деда Мороза, на котором Серега безжалостно перечеркивал прошедшие дни.
Потеряв рабочее место, Штейн снова попал в бригаду монтажников. Хотя и ненадолго. К нему привыкли, его приняли. Почти забыли о том, что он еврей. Он стал одним из многих, не вылезая со своей иронией и начитанностью. Но вскоре ему пришлось снова вспомнить о своей национальности. Объявился Вова Закута. Он пришел в казарму в новенькой форме, весь такой наглаженный и блестящий. Принес пакет из штаба их командиру роты. Закута сел посреди казармы в ожидании ответа, закинув один хромовый сапог на другой, и вальяжно заявил:
– Сегодня день рождения у помощника начальника штаба. Опять пить придется. А от этой жареной баранины у меня изжога. И пива свежего не завезли.
– В морду дать? – спросил у Закуты дежурный по роте азербайджанец Магомед Магомедов.
– Ах, какие мы нервные, – улыбнулся Вова. – На гауптвахту захотел?
Закута ушел. А отношение к нему тут же пришлось испытать на себе Лёве. Он все еще числился молодым. Всю ночь он драил стены казарменного туалета, выложенные кафельной плиткой. В качестве инструмента используя коробку зубного порошка и зубную щетку. Вот тогда Штейн и возненавидел Закуту окончательно. А сержант Голованов, зайдя утром в туалет и увидев измученного подчиненного, ничего не сказал. Только на работе неожиданно позвал его на склад и запер там до обеда, буркнув: «Спи». Что Лёва тут же и сделал, завалившись на мешок с ветошью.
***
Все лучшие воспоминания юности у Штейна были связаны с клубом юных моряков. Отставной морской офицер Андрей Данилович Седых на личном энтузиазме и оптимизме создал это чудо в городе, лежащем на расстоянии тысячи километров от моря. Конечно, город Винница стоит на большой реке – Южном Буге, но море – это мечта многих мальчишек всех времен и народов наряду с небом и красивыми женщинами.
Можно ли представить себе сейчас, что несколько лет, не требуя с родителей ни копейки, преподаватели и бывшие моряки обучали их детей морскому делу, составу двигателя внутреннего сгорания, семафорной азбуке, премудростям морских узлов и многому другому. А главное, конечно, это летняя практика на воде. Пусть не море, пусть река. Седых выклянчил у руководства Черноморского флота восемь списанных четырехвесельных ялов. И вскоре они прибыли на Южный Буг. Клубу выделили кусок земли рядом с водой и старый сарай, где теперь хранились эти шлюпки. Целыми днями пацаны драили старую краску, шпатлевали щели, промазывали их дегтем, красили заново, сдирая руки в кровь и не обращая внимания на занозы. Каждый будущий экипаж готовил шлюпку для себя.
И вот этот день настал. Они все надели специально к случаю сшитую морскую форму и бескозырки. Офицеры и преподаватели пришли в парадных кителях и сели на рули. Второму экипажу в составе Паши, Вовчика, Юры-капитана и Лёвы в рулевые достался капитан второго ранга, бывший штурман флотилии Фейгин Давид Доныч. У него на поясе висел боевой кортик, поразивший воображение двенадцатилетних парней.
– А-гыть, а-гыть! – начал мерно отбивать ритм работы гребцов рулевой второго экипажа. Шлюпки пошли…
Это было то еще зрелище. Казалось, что весь город столпился у берегов Южного Буга. У Лёвы от усталости и с непривычки колотилось сердце, и дрожали руки. Он еле поворачивал тяжеленное вальковое весло. Но он бы скорее умер сейчас, чем сбился с ритма или признался в том, как ему трудно. Вот так и закалялась сталь, товарищи солдаты и сержанты.
***
Перед ноябрьскими праздниками Штейн попал на губу. Так называлась в просторечье гарнизонная гауптвахта. Дело было ночью, шестого ноября. Лёва стоял дневальным по роте, то есть у стены напротив входа в казарму. И если входил офицер, он должен был во всю глотку орать: «Рота, смирно!» Старики в каптерке ночью пили что-то крепкое, потому что оттуда слышался отборный мат, веселые песни и хохот. Подвыпивший сержант Голованов подошел к Лёве, положил руку на плечо и сказал:
– Братан, сгоняй в хлеборезку. Закусывать нечем. Скажешь, что от меня.
Лёва кивнул и побежал к столовой, где хлеборез Вася находился круглосуточно, чтобы не упустить хлебную, в полном смысле слова, должность. Вася без рассуждений, услышав фамилию земляка Голованова, выдал Штейну в окошко полбуханки хлеба и кусок сливочного масла. С чем его патрульные и взяли буквально через двадцать метров.
Дежурный офицер, к которому в штаб привели Лёву, спросил:
– Сколько отслужил, боец?
– Одиннадцать месяцев, – ответил Штейн.
– Значит, не для себя тащил. Кто послал?
– Я для себя, товарищ старший лейтенант, – горячо заговорил Лёва. – Проголодался очень.
– Да кто б тебе дал, боец. Не ври мне. Ладно, чувствую, все равно не скажешь. Сидоренко, оформляй этого проголодавшегося на гауптвахту. Там его до отвала накормят.
Через полчаса у Лёвы отобрали ремень, шапку и заперли в камеру, в которой уже находилось трое солдат. Хлеб и масло остались у дежурного офицера.
До утра оставалось минут тридцать. Только Штейн уснул, как раздался такой крик, что он подлетел и вскочил на ноги, ошарашено оглядываясь. А это было всего лишь вежливое предложение к посетителям гауптвахты проснуться.
– Встать, встать! Вашу мать! – орал дежурный солдат, прогуливаясь по коридору и ударяя по дверям камер какой-то железной трубой. – Не спать, не спать! Вашу мать! – громыхал дежурный.
Да и какой тут сон. Под такую-то симфонию?
– Построение на завтрак, дебилы! – заорал тот же голос. Камеры одна за другой открылись, и арестанты выстроились в коридоре.
– Направо! – крикнул дежурный и взвел курок автомата. – В столовую шагом марш!
Столовая для них была здесь же, в здании гауптвахты. Десять солдатиков встали по обе стороны стола, позади скамеек.
– Сесть! – заорал охранник, и сразу же, без перерыва: – Приступить к приему пищи!
Пока Лёва переступал через скамейку, желая устроиться поудобнее, более опытные собратья стоя похватали миски с кашей и хлеб и начали запихивать в себя все подряд. Они не жевали, они заглатывали еду, буквально заталкивая ее руками. Лёва только успел поднести ко рту первую ложку, как родимый дежурный по гауптвахте весело заорал:
– Закончить прием пищи, уроды!
Все тут же побросали миски на стол. Только Штейн, не успев среагировать, продолжал нести вторую ложку ко рту. А зря. Удар палкой по руке не дал ему это сделать.
– Я же сказал, закончить прием пищи! – взревел охранник. – По камерам, дебилы! А ты, – он ткнул палкой в Лёву, – останься, будешь сегодня у меня дневальным.
До обеда Штейн мыл полы во всей гарнизонной гауптвахте. Потом вдвоем с каким-то парнем принес из общей столовой тяжеленные баки с едой. А за обедом история повторилась. Только теперь Лёва был умнее. Он успел немного поесть. Вечером его сменил новенький, только что пойманный в городке самовольщик. И Штейн смог насладиться отдыхом на деревянном топчане без матраса и подушки.
На следующий день был праздник. Шестьдесят один год со дня Великой октябрьской социалистической революции. С утра на гауптвахте играла музыка.
«С нами Ленин впереди! – орал новый дежурный, ударяя трубой по дверям камер в половине шестого утра. – Праздник в стране, уроды!»
Словечки у них были одинаковые.
За завтраком Лёва успел съесть хлеб и выпить половину кружки чая. Потом их оставили до обеда в покое. Штейн познакомился с товарищами по несчастью. Особенно они сдружились с автокрановщиком Сашкой Рожковым, который рассказал Лёве историю своего попадания на гауптвахту.
– Представляешь, – рассказывал Рожков, – я на автокране работаю. По дороге на точку проезжали мы с сержантом нашим мимо колхозного амбара.
– Притормози-ка, – сказал сержант и залез на кабину. Осмотрел сверху, что там за забором происходит. А там мешки с зерном лежали. Это ж такой ходовой товар. Его немцы с хуторов меняют на самогон и любые продукты.
– Какие немцы? – удивился Лёва, представив себе, что еще со второй Мировой войны в соседних деревнях засели немцы и не хотят отступать.
– Да здесь немцев полно, – махнул рукой Рожков. – Они тут давно. Живут все богато за высокими заборами. Так вот, поставил я кран на упоры, сел в кабину и поднял стрелу. Сержант уцепился за крюк, и я перевел стрелу за забор амбара. Там он спрыгнул. Через пару минут кричит, типа, давай. Я поворачиваю стрелу обратно, а на ней сразу два мешка привязано. Я отвязал и обратно ее направляю. Сержант молчит. Я тоже жду. Вдруг слышу «Давай!», гляжу, а на крюке сержант связанный за ремень подвешен. Пока я его отцеплял, из амбара колхозники вышли и меня тоже повязали, рожу разукрасив. Теперь я здесь, а сержант в госпитале с переломом челюсти.
Вечером всех задержанных в честь праздника выпустили с гауптвахты. И Лёва даже успел на ужин, за которым всем выдали по котлетке, куску белого хлеба и по две конфеты типа сосулька со вкусом мяты.
***
Осенью, когда ушел на дембель крановщик с маточной точки, Лёву перевели на его место. Это вам не бетонный завод. Здесь работа кипела круглые сутки. Штейн со сменщиком Юркой Бондаревым работали по двенадцать часов. Кирпичи, панели, ящики с оборудованием, раствор, бетонные блоки. Кабина крана была похожа на малогабаритную квартиру. Внутри обшита доской и оклеена газетами. Трамвайная печка для тепла и приготовления еды. В ночную смену к Лёве забирался сержант-прораб, и они, пока каменщики отдыхали, жарили на обработанной газосваркой крышке от электрощита картошку с тушенкой и луком. А в холодную погоду, когда всех работяг в форме загоняли греться, Лёва спал на топчане, доставшемся ему в наследство от предыдущего товарища. Там же, в кабине. Красота. Чем не служба? И так продолжалось до шестнадцатого ноября семьдесят восьмого года. В тот день на улице было минус десять. Ночью работы не было, поэтому Лёва спокойно заснул. Если что, постучат какой-нибудь трубой по крану, мигом проснется. Но всех рабочих увели в казарму. А так как они были из другой части, то про Лёву успешно забыли.
Проснулся Штейн от того, что вся кабина была в дыму. И в огне. Горело все, что могло гореть. А могло гореть очень многое. Доски, газеты, дембельские альбомы, спрятанные под обшивку, поролон. Горели Лёвин бушлат, валенки, портянки и шапка, снятые им. Так как спать было тепло, даже жарко. Бушлат и стал причиной пожара, упав со спящего Лёвы на открытые тены трамвайной печки.
Штейн уже и не пытался ничего спасать, кроме себя. Он вышиб голой ногой дверь кабины и практически побежал по ледяной металлической лестнице вниз. Через мгновение он стоял на снегу и смотрел вверх, на пылающую кабину. В тонком хлопчатобумажном обмундировании на босу ногу.
Подбежал дежурный офицер, на ходу крича непечатные выражения.
– Там есть кто-нибудь? – спросил он, тяжело дыша.
– Уже нет, – дрожа всеми фибрами души, ответил Лёва.
– Пошли в вагончик, боец, – махнул рукой офицер.
Оттуда он позвонил в роту механизаторов, и через десять минут примчался сержант Голованов. Он нес валенки, шапку и бушлат. Все было такого вида, будто побывало только что на пожаре, а потом отмокало в воде.
Штейн еле натянул обновочки и поплелся за сержантом в казарму.
– Под трибунал пойдешь, – сказал Лёве на прощание дежурный офицер. – Лет на пять.
Добрый такой дядя. Голованов всю дорогу молчал. Штейн решил, что до трибунала он не доживет. Что его сегодня же старики убьют в каптерке за свои альбомы. Или убьют просто так. За то, что еврей, или за то, что мудак, или еще за что-нибудь. И таки будут правы.
Но в казарме все спали.
– Умывайся и ложись, – сказал сержант. – И на хрена тебя в армию взяли?
– Я не напрашивался, – ответил Лёва. И пошел в туалет, отмывать копоть.
На следующий день приехал все тот же следователь Катанин из военной прокуратуры. Он со злорадством посмотрел на Лёву, сразу же вообразив сионистский заговор в наших рядах. Второй кран за три месяца! Тут уже предательством Родины пахнет. Чуть ли не расстрельная статья.
Капитан Кротов даже не пытался защищать своего беспутного подчиненного, памятуя о маленькой дочке и стерве-жене.
Майор из прокуратуры вызвал Штейна в штаб. В отдельном кабинете рядом с ним сидел сержант с гауптвахты. Он отобрал у Лёвы ремень, шапку и встал с автоматом за его спиной. Следователь любовно выписывал на обложке картонной папки «Уголовное дело. Штейн Лев Семенович».
Катанину явно нравилась его работа. Он не спешил. Теперь-то уж точно его переведут в Москву. После раскрытия заговора!
***
Лёва вдруг вспомнил десятый класс. Они с Павлом, прочитав книгу какого-то американского автора о жизни угнетенного негритянского населения, придумали создать аналогичную тайную организацию. И название взяли из этой же книжки. «СЛЖБ» – смерть сильным, жизнь большим. Почти все мальчишки из их класса вступили в ее ряды. Лёву назначили мозгом организации, Павла – ее главой. Переписали из книжки почти слово в слово устав. Придумали азбуку для передачи шифровок посреди уроков. Короче, повеселились от души. Первый сбор они назначили в воскресенье в мужской бане. У многих в квартирах тогда уже были ванны, и только пара одноклассников, в том числе и Лёва, продолжали по субботам ходить в баню мыться.
Они купили бутылочного пива, вяленой рыбки и чудно провели время. Сбор тайной организации превратился в элементарную веселуху. Про «СЛЖБ» весь день никто и не вспоминал.
Но в понедельник в школе им о нем сразу же напомнили. Вахтерша тетя Броня сказала вошедшему в школьный холл Лёве:
– Штейн, сейчас же иди к директору.
– Я на урок опоздаю.
– Ничего, там тебя всему, чему надо, научат.
В приемной у директора уже сидел Павел. Он был явно напуган. Как только вошел Лёва, их пригласили в кабинет, не дав даже словом перемолвиться. Павел только и успел, что сделать страшные глаза и провести рукой по горлу, типа, кирдык нам, дружище.
Директор школы номер тридцать два Нина Ивановна по кличке Геббельс обладала тремя качествами, давшими право старшеклассникам придумать ей такое прозвище. Это пронзительный, достающий до ливера взгляд мутных глаз, стремительная походка и печатный шаг, от которого классики литературы в рамках на стенах начинали покрываться испариной. А также манера орать на школьников и подчиненных, краснея и синея всем телом в зависимости от степени их провинности.
Не удивительно, что друзья входили в ее кабинет, как в газовую камеру.
– Кто организатор этого разврата? – заорала директриса, не дав им даже закрыть за собой дверь.
Оба молчали, не понимая, что она имеет в виду.
– Штейн, подойди сюда, – призвала Нина Ивановна. – Можешь объяснить мне, что это.