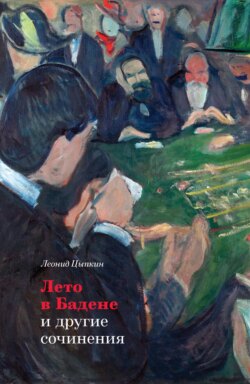Читать книгу «Лето в Бадене» и другие сочинения - Леонид Цыпкин - Страница 1
Об отце
ОглавлениеМой отец был печатающимся писателем одну неделю: номер эмигрантского еженедельника «Новая газета» с первыми страницами его романа «Лето в Бадене» вышел 13 марта 1982 года в Нью-Йорке, а 20 марта отец в одноминутье умер в Москве – в свой пятьдесят шестой день рождения. Сюжетная линия его жизни несложна: она не так уж была богата событиями и достаточно типична для человека его круга и поколения.
Леонид Борисович Цыпкин родился в 1926 году в Минске в потомственной врачебной еврейской семье. Когда ему было лет десять, отец хотел стать астрономом, потому что это «неответственная работа» – отголосок взрослых страхов в 30-е годы, в начале которых мой дед, известный хирург-ортопед Борис Наумович Цыпкин, был арестован. Времена еще были сравнительно мягкие, до-ежовские, и когда дед прыгнул в пролет лестницы в здании минского НКВД и повредил позвоночник, то по заступничеству коллег (в особенности известного минского доктора Моисея Наумовича Шапиро, который в самые страшные годы не боялся – и умел – помогать попавшим в беду), его выпустили и больше не трогали, хотя его брат и две сестры были арестованы и погибли. Каким-то чудом дед не остался инвалидом и продолжал оперировать до своей смерти в 1961 году. Отец не любил об этом рассказывать, вроде бы даже и не помнил (я эту историю узнал от бабушки), но эпизод возвращения деда из тюрьмы промелькнул в повести «Мост через Нерочь» как предвестие его болезни и смерти тридцать лет спустя.
История нашей семьи важна не столько потому, что отец черпал из нее сюжеты и образы, сколько потому, что отец, человек сугубо частный, «камерный», ощущал мир через семью и защищался от этого недружелюбного мира – семьей. События, разрушившие эту когда-то большую семью, обрубившие семейные корни, положены в основание двух повестей – «Мост через Нерочь» и «Норартакир». В 1941 году семью согнала с насиженного места война: чудом выскользнули они из уже замыкавшегося немецкого кольца вокруг Минска. Не сумевшие уйти сестра деда, его мать и два маленьких племянника были убиты в гетто. Почти сорок лет спустя моя эмиграция завершила это разрушение.
В эвакуации в Уфе отец, которому тогда не было и семнадцати лет, поступил в медицинский институт; в студенческой среде развился его интерес к художественной литературе, и он, по-видимому, сделал первые попытки писать. Попытки были неудачные, и до 60-х годов отец писал уже только научные статьи. А у него была вполне успешная (в пределах возможного для безусловно беспартийного и безысходно еврейского интеллигента) карьера: в сорок два года отец был доктор медицинских наук, автор десятков научных статей, сотрудник научно-исследовательского института. К тому же большая часть его жизни прошла в Москве. В 1948 году он женился на Наталье Иосифовне Мичниковой; в 1950 году родился единственный сын.
Не все было гладко. Работы во времена борьбы с «космополитизмом» не было, и отца вместе с другими безработными врачами-евреями в конце концов пригрел главврач московской областной психиатрической больницы имени Яковенко Владимир Васильевич Ченцов. Не только взял на работу, что было небезопасно, но и, вероятно, – а это уж было очень опасно – спас от ареста: нажал на нужную кнопку в местном отделе МГБ, и дело с доносами на отца, притащившееся за ним аж в деревню Мещерское, куда-то пропало. А тут и Сталин умер, но отец в Москву не вернулся до 1957 года.
Отец, навидавшись бед, ценил внешне благополучные обстоятельства своей жизни – семью, кооперативную квартиру в центре Москвы, летние круизы по рекам. Он любил медицину и свою мрачноватую врачебную специальность – отец был патологоанатомом – и полушутил, что, проведя столько времени в обществе мертвецов, он стал отчасти сродни шекспировским могильщикам. В 1964 году он написал:
МОЯ ПРОФЕССИЯ
Любители чистой поэзии,
Поклонники Венеры Милосской
и прочих муз и богинь,
а также все слабонервные,
отойдите в сторону:
я буду говорить о своей профессии.
Я патологоанатом,
а, попросту говоря, трупорез.
Передо мною возвышаются горы
человеческого мяса,
красного, синего, серого, розового,
напоминая фламандские натюрморты.
Когда я вижу классический инфаркт сердца,
Я не удерживаюсь и восклицаю:
«Какая красота!»
Когда люди спят, тоскуют или смеются,
я могу точно сказать,
что у них происходит в печени.
Для меня шагреневая кожа
не символ и не абстракция,
а отложение извести в сосудах.
Никто лучше меня не знает,
что жизнь висит на волоске
и что смерть неизбежна.
Именно поэтому я начал писать стихи.
Стихи отец начал писать в начале 60-х годов, а до этого мечтал уйти из мединститута на филологический факультет, позднее всерьез думал поступать на вечернее отделение ВГИКа. Оба раза практические соображения, чувство долга перед семьей возобладали. Да я и вовсе не представляю себе его советским литературоведом или киношником: его почти болезненная (по советским понятиям) брезгливость ко лжи в даже самых малых дозах, халтуре и грязи извергла бы его из этой среды. Но его мечта о самовыражении была неистребима.
В доме преклонялись перед русской литературой. Возможно, что тут частично сказалось влияние тетки моего отца – литературоведа Лидии Моисеевны Поляк – и ее мужа, крупного языковеда Рубена Ивановича Аванесова, в семье которых отец проводил много времени в конце 40-х годов. Я помню, как менялись литературные страсти моего еще совсем молодого отца: от поклонения перед Толстым он перешел к пожизненной вовлеченности в творчество и личность Достоевского. В Достоевском – и писателе, и личности – отец находил то, чего ему не хватало в медицине: бездну «проклятых» вопросов. Можно ли жить без Бога и как быть, если нет веры? Есть ли связь между психопатологией личности и творческим началом? (Отец страдал от периодических депрессий.) Где корни антисемитизма?
У меня из отцовской библиотеки осталось старое (первое послесталинское) собрание сочинений Достоевского. По нему видно (особенно по томам с «Братьями Карамазовыми» и «Бесами»), что с ним буквально работали – при том, что отец был фанатично аккуратным человеком: его много потрудившийся фотоаппарат «Зоркий-2С» выпуска 1954 года до сих пор как новенький. К повести из жизни Достоевского «Лето в Бадене» отец шел не один год: изучал воспоминания современников, много времени провел над дневниками Анны Григорьевны Достоевской, находил места (Достоевский почти всегда описывал реальные дома и улицы), где происходило действие его произведений. Несколько лет исследований ушло на создание фотоальбома «По местам героев Достоевского», в котором фотографии сопровождались соответствующими цитатами. Отец подарил фотоальбом музею Достоевского в Ленинграде и выступил там с лекцией. Но это уже было в конце его жизни.
Некоторые стихотворения были, наверно, удачными; примечательнее всего для меня в них упорный поиск подлинного чувства. В 1965 году отец должен был идти показывать свои стихи А.Д. Синявскому, но того как раз арестовали. Получилось как бы предупреждение: наступают другие времена, сиди, не высовывайся! Отец не склонен был много говорить и даже думать о политике; у нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим – это воплощенное Зло. Отец ощущал политические перемены скорее своим художественным чутьем: через несколько дней после падения Хрущева (которого отец, несмотря ни на что, уважал за освобождение узников ГУЛАГа и за публикацию Солженицына, портрет которого тоже появился над рабочим столиком отца и так там и остался до его смерти) он написал:
КРИВЫМ ПЕРЕУЛКОМ
Я иду кривым переулком.
Надо мной фонари и звезды.
Днем обитатели переулка
играют в футбол,
забивают козла,
развешивают белье,
Я торопливо прохожу сквозь строй
сверлящих взглядов
и чувствую себя, словно зимой
пятьдесят третьего.
А сейчас тишина.
Все спят, и только
в редких светящихся окнах
фикусы и угол гардероба.
Обитатели переулка спят:
им завтра рано на работу.
Я слышу, как они тяжело дышат
(наверно, и я во сне так же дышу).
И чья-то свесившаяся рука касается пола.
И кто-то вздыхает.
Хотя на дверях засовы и замки,
все – настежь.
Можно закрыть воду,
сменить правительство.
Все останется безнаказанным:
спящие беззащитны.
Я иду не спеша.
Мне незачем торопиться.
Надо мной только фонари и звезды.
мешает нам стать друзьями?
В середине 60-х годов отец познакомился и почтительно подружился с соседкой по новому дому – пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, которую раньше он знал как знаменитую исполнительницу Бетховена, как крещеную еврейку, открыто исповедующую православие, не отказываясь от своего еврейства. Видел он ее до личного знакомства один раз – на похоронах Б.Л. Пастернака. Эта дружба означала для отца, в первую очередь, прикосновение к высокой традиции русской культуры, люди которой чувствовали себя дома в культуре европейской. Затем, православие Юдиной интересовало отца: как довольно многие интеллигентные евреи в Москве, он начал в это время искать Бога и, не получив никакого иудаистского образования, думал об этих исканиях в рамках православия, религии, глубоко связанной с культурой, которую отец почитал для себя родной, однако сам никогда не помышлял о крещении, считая, что такой шаг будет приспособленчеством, хотя бы даже и самым рафинированным. А еще был иногда вопиющий разрыв между высокими устремлениями Юдиной и ее временами весьма нелегким в повседневной жизни нравом – этот разрыв интересовал отца, увы, далеко не с чисто исследовательской точки зрения, в быту он часто бывал вовсе не таким человеком, каким хотел бы быть, и глубоко страдал от этого.
Дружба с Юдиной и ее смерть в 1970 году стали материалом для раннего рассказа отца «Ave Maria!». После немногочисленных неудачных попыток напечатать стихи в конце 60-х годов отец почти перестал их писать; к тому же его силы уходили на завершение работы над докторской диссертацией. Получение более высокой научной степени и соответствующая прибавка к зарплате (отец был старшим научным сотрудником Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук) давали возможность отцу не прирабатывать вечерами в больнице. (Отец считал постыдным, что сотрудники медицинских НИИ зарабатывали гораздо больше, чем больничные врачи, работу которых он считал в общем гораздо более осмысленной, и сам работал в НИИ только потому, что это лучше обеспечивало семью.) Как только диссертация была закончена, отец снова начал писать, но уже не стихи, а прозу.
Теперь-то я понимаю, что отец работал на износ. Каждый день, ровно без четверти восемь, он отправлялся на дальнюю (почти во Внуково) работу и возвращался ровно в шесть вечера. Обедал, дремал полчасика и садился писать если не рассказы, то научные статьи. На ночь мог выйти погулять. В выходные тоже писал, работал в профессорском зале «Ленинки» (там часто собирал материалы по Достоевскому), зимой по воскресеньям катался на лыжах в «Мичуринце», где у Дома ученых была лыжная база. Любил осень, зиму, солнечные времена года часто угнетали его. Обычно брал меня, школьника, потом уже и студента филфака МГУ, на эти лыжные прогулки, которые запомнились на всю жизнь, как и одно лето, которое отец провел почти целиком (в их институте работали с очень опасными вирусами, и поэтому полагался длинный отпуск) со мной, двенадцатилетним, на даче.
Мне не под силу, да и не к месту, разбирать достоинства и недостатки его прозы. Отец жаждал каждой встречи с белым листом бумаги, но писал нелегко, нередко мучился над каждым словом, бесконечно выправлял рукопись. Дело было в основной стилистической задаче: придать четкую форму его мысли, необычайно богатой, взвихривающейся и захватывающей поразительно широкие круги все новых и новых ассоциаций, эту мысль не стреножив. Отсюда очень длинные, нередко на несколько страниц, предложения, «путешествующие» из Москвы в Курск через Хабаровск. Маршрут не самый короткий, но зато по дороге можно настолько больше увидеть!
Перечерканные рукописи отец обычно сам перепечатывал на старенькой, сияющей чистотой трофейной «Эрике» – как пел в те годы Галич, «Эрика» действительно брала «четыре копии», и большего «тиража» отцу и не понадобилось, так как он по редакциям не ходил и практически не пытался напечататься, и был прав, не тратя зря силы на это. Он не писал ничего острополитического – поэтому его проза и в самиздате бы особого успеха не имела; чем можно было удивить самиздатовскую читающую публику в годы, когда по рукам ходил «Архипелаг ГУЛАГ»! Да отец и не хотел давать свои вещи в самиздат: боялся «разговоров» с КГБ и остаться без работы. В мир же «позволенной» литературы ему ходу не было, и это связано как с обстоятельствами, так и с природой его литературного дарования.
Писательство было для отца самовыражением в самом прямом смысле слова: он не умел выдумывать с нуля положения и характеры, брал их из своей жизни, смотрел на них своими глазами, и главное для него было – честно разобраться в самом себе. И тут уж никак нельзя было обойти запретные темы, разве что если жить с закрытыми глазами и ушами (как многие из чувства самосохранения умудрялись). Можно ли было написать «Мост через Нерочь», позабыв об отставших от колонны заключенных, которых убегавший из Минска в июне 1941 года НКВД расстреливал прямо на обочине дороги, почти что на глазах у беженцев? А что бы осталось от «Норартакира» без вызревающего в трагедию автора вопроса еврейской эмиграции на фоне арабо-израильской войны 1973 года? И где была бы душевная пружина «Лета в Бадене», если бы не крамольное (даже и по нынешним временам) подозрение автора, что Достоевский ненавидел евреев со страстью оттого, что видел в своем характере столь презираемые им у евреев черты? Отец отнюдь не стремился писать на запретные темы, просто он не мог осмысливать свою жизнь, не касаясь их. А тут еще доза формального эксперимента, и не-членство в литераторской стае – в редакции ходить было и вправду незачем, да и опять же оттуда рукописи могли утечь на Лубянку. Один хороший журнальный редактор, которого отцу порекомендовали как надежного, черкнул на рукописи: «Прекрасный рассказ, но кто же его напечатает?» Весь «дух» его прозы, как сказал тот же редактор, был «не антисоветским» – а просто «не нашим».
В 1970-е годы очевидным выходом было бы напечататься на Западе, он манил отца, но последствия (в лучшем случае безработица, гэбэшные провокации и угрозы и в конце концов вынужденная эмиграция) отпугивали еще больше. Солженицынский «Бодался теленок с дубом», прочтенный отцом не позже 1977 года, оставил его в тяжелом настроении: цена свободы, которой Солженицын добивался в борьбе со всей навалившейся цекагэбэшной системой и за которую расплатился насильственной эмиграцией, показалась отцу недоступной. Круг прижизненных читателей отца остался очень узок: моя мать, я, пара моих филфаковских друзей, иногда кто-то из литературной среды, где отцу не удалось создать себе ни серьезных друзей, ни даже подпольного имени, а впоследствии – несколько знакомых среди «отказников». Здесь, конечно, виновата не только советская власть, но и характер отца: очень ранимый, гордый, он плохо переносил непонимание, хотя доброжелательную профессиональную критику был готов выслушивать.
Начавши писать прозу в сорок с лишним лет, отец становился писателем в одиночестве и молчании. Он сам был своим основным критиком, и, несмотря на это, его мастерство росло шаг за шагом: от коротких, почти бессюжетных рассказов он перешел к более длинным, с более сложным сюжетом, оттуда шагнул к автобиографическим повестям («Мост через Нерочь» и «Норартакир»), а затем и к неавтобиографическому (хотя и частично основанному на документальных материалах) «Лету в Бадене».
К западной литературе девятнадцатого века отец был сравнительно равнодушен. Немногие новинки (для советской публики) западной литературы двадцатого века читал с большим интересом. К сожалению, многое забылось; помню, как он читал переводы «Чумы» и «Постороннего» Камю, «Самопознание Дзэно» Итало Свево. Очень важным для отца было знакомство с творчеством Франца Кафки. Отцу была тревожно близка основная тема творчества этого дважды изгоя – немецкоязычного писателя среди чехов, еврея в немецкой культуре – человека, преследуемого чем-то бесчувственным и бессмысленным, то ли государственной машиной, то ли роком. У отца была подспудная глубокая уверенность, что от сумы да от тюрьмы ему в конце концов не уберечься. Моя эмиграция в 1977 году быстро превратила его жизнь в кафкианский сюжет. В 1979 году отца «сократили» из института полиомиелита как не прошедшего переаттестацию, несмотря на двадцать два года безупречной работы в институте, около ста научных публикаций и т.д. Переаттестация часто использовалась в 1970-е годы для избавления от неугодных, в частности, евреев, в системе Академии медицинских наук, к которой принадлежал Институт полиомиелита1. Отец, зная, что ему предстоит переаттестация, просил меня подождать – пару лет – с эмиграцией, чтобы он, уже переаттестованный, мог дотянуть до пенсии. Я ждать не стал. Увольнение было волчьим билетом – ни на какую другую работу в Москве его не брали из-за анкеты с «пятым пунктом» и сына в Америке. Мать уже была без работы со времени моей эмиграции – ушла сама, чтобы меня не посадили в отказ из-за ее секретности, и устроиться заново, по тем же анкетным соображениям, тоже уже не могла.
К эмиграции как общественному явлению отец относился положительно: ему нравилось, когда кому-то хватало смелости действовать наперекор режиму. Он никогда не был за границей, даже в соцстранах. Незадолго до моего отъезда отец сказал мне, что раньше мечтал побродить по Парижу, но что теперь ему и этого уже не хочется. Мне было двадцать шесть, и я поверил моему пятидесятилетнему отцу; теперь мне пятьдесят три, и я знаю, что он просто утешал себя. О себе как об эмигранте он тогда еще всерьез не думал; во всяком случае, до моего отъезда такую возможность отрицал. Отец боялся не пережить неизбежной схватки с режимом (докторов наук выпускали с очень большим скрипом) и почти так же боялся оказаться вне родной языковой и культурной среды. Эта среда была для него чрезвычайно важна: герой «Норартакира», оказавшись вне России всего лишь в подсоветской Армении, болезненно чувствует себя иностранцем!
Мой отъезд вместе с все ухудшающейся обстановкой в стране изменили отношение отца к эмиграции: теперь он уже хотел уехать, и увольнение послужило последней каплей. Его подталкивала жажда увидеть наконец свои произведения в печати. Директор Института полиомиелита С.Г. Дроздов (директорствующий и по сей день) был в прошлом функционером Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и надеялся туда вернуться. Опасаясь, по-видимому, что я подыму скандал на Западе из-за увольнения отца, который повредит международной карьере Дроздова, он предложил отцу остаться в Институте «временно» на должности младшего научного сотрудника – с условием, что отец подаст документы на эмиграционную визу, и с надеждой, что таким образом он вскоре покинет институт.
Дроздов просчитался: отец и мать получили первый отказ из ОВИРа только почти через два года. Два года, в течение которых он каждый день ходил на службу, где ему не давали никакой работы, кроме самой рутинной, потому что никто не хотел проводить исследования вместе с «политически неблагонадежным» сотрудником. В институте с отцом продолжали разговаривать считанные люди: основатель института Михаил Петрович Чумаков, относившийся к антисемитизму с омерзением и презиравший трусов, многолетняя сотрудница отца Люсия Иосифовна Равкина и еще несколько человек. Отца и вскоре подавших на эмиграцию Равкину и еще одного сотрудника – Григория Львовича Зубри – пересадили в отдельную комнату. Отец называл эту комнату камерой. Телефона в комнате не было, и отец, по словам Л. И. Равкиной, был ужасно оскорблен и угнетен тем, что заведующий лабораторией А. В. Тюфанов, сидевший в комнате с телефоном, перестал звать отца, когда тому звонили.
Второй отказ отец и мать получили через несколько месяцев после повторной подачи документов, с пояснением, что их выезд «нецелесообразен». Абсурдность всего этого усугублялась тем, что, как выяснилось позднее, относительно недавняя секретность матери была ни при чем, все, по-видимому, упиралось в отцовскую злосчастную степень доктора наук. Недаром писал он докторскую диссертацию без всякой радости!
Незадолго до первого отказа, 7 января 1981 года, отец закончил «Лето в Бадене». К концу повести действие переносится из 1867 года, летом которого супруги Достоевские и были в Бадене, в январь 1881 года, дни последней болезни и смерти писателя. Смерть – в центре многих вещей отца, и это неудивительно, учитывая его профессию и жизненные обстоятельства. Узлы сюжета «Моста через Нерочь» – это смерть дедушки, а затем и отца автора повести, гибель родных под смертным валом 1941 года и ощущение собственной смертности автором, который, глядя на попутчиков в московском метро, неожиданно видит их всех «лежащих в однообразных позах – с руками, сложенными на груди, с головой, запрокинутой назад, с желтыми, восковидными лицами…». Смерть – в центре рассказов «Тараканы» и «Ave Maria!». Повесть «Норартакир» проходит под отзвуки смертоубийства на Ближнем Востоке, под гул советских самолетов, везущих туда оружие, чтобы убивать братьев по крови героя повести; он сам накликает на себя беду (эмиграцию сына), играя с чужой смертью: наугад говорит насолившей ему гостиничной администраторше, что у нее рак, и оказывается, к собственному ужасу, прав.
Он описывал смерть с клинической точностью и какой-то отстраненностью, как смерть отца героя повести «Мост через Нерочь»:
…когда он побрил одну щеку, а вторая еще оставалась намыленной, он вдруг услышал голос матери, обращенный к нему: «У папы остановилось дыхание!» – она сказала это так, как будто сообщала ему, что его к телефону или что суп на столе. Он вбежал в столовую: над изголовьем отца склонились две фигуры – кажется, ординаторы из его клиники – они пытались что-то сделать с отцом – один из них вводил резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. «Ровно двенадцать», – сказала мать, посмотрев на часы отца, и они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля…
Составитель тысяч протоколов вскрытий, отец много думал о смерти, боялся ее – и описывал со стороны, не пытаясь проникнуть в душу умирающего. В своей последней повести «Лето в Бадене» он такую попытку сделал. Может быть, это было предчувствие: отец вообще не верил, что долго проживет, а оказавшись «в отказе», часто говорил, что так и умрет в СССР. Скорее, по-моему, это был все же новый шаг для отца как для писателя – он переступал через границы собственной личности, своего непосредственного опыта. Этот шаг был и последним – после «Лета в Бадене» отец не успел уже ничего больше написать.
К весне 1982 года бюрократические карты Дроздова легли по-новому. Могу лишь догадываться о мотивах его действий. Знаю, что весной 1982 года стала светить ему должность зама главы ВОЗа – Женева, очень большое (даже по западным понятиям) жалованье; в общем – мечта. В 1979 году увольнять отца совсем показалось Дроздову лишним: как бы на Западе чего не сказали. Но это было до Афганистана, до ссылки Сахарова. А за два года дух изменился: уже пахло андроповщиной, и умный номенклатурщик должен был выказывать непреклонность к врагу без дипломатических виляний. Почти никто еще не видел, что непреклонность уже была не что иное, как rigor mortis – мертвецкое окостенение режима. Видимо, чтобы обеспечить тылы для последней цекагэбэшной проверки перед желанным назначением, Дроздов и решил, что теперь самое время от отца избавиться. 15 марта Дроздов вызвал отца к себе, усадил, спросил, не дует ли из форточки, и сообщил о немедленном увольнении. Стало не на что жить, не на что надеяться. В этот день я позвонил отцу сказать о начавшейся публикации «Лета в Бадене», узнал о случившемся – и был поражен его голосом. Не было в нем ни нотки раздражения, что для отца в такой ситуации обычно было бы непременным, говорил он со мной тихо и очень ласково, как с маленьким.
Это было в понедельник. На неделе я разговорился о бедах моих родителей с коллегой, хотя и не был с ней особенно близок, и, неожиданно для самого себя, вдруг сказал: «Ты знаешь, я боюсь, что он этого не переживет». А в субботу мне позвонила мать… В этот день отец с утра сел работать: он решил зарабатывать техническими переводами. Мать купила ему на день рождения его вещь, о которой он мечтал, – многоцветную шариковую ручку, наверно, в помощь работе, и пошла готовить любимое блюдо отца на обед. Отец неважно себя почувствовал, прилег, попросил мать (впервые в жизни) вызвать «скорую помощь», успел сказать: «Наташа, мне еще никогда так не было плохо» – и умер.
Последние пять лет его жизни я разговаривал с отцом только по прослушивавшемуся телефону, переписывался через руки цензоров; изредка удавалось отцу послать неподцензурное письмо через надежных людей. Обрывочно я чувствовал, как нарастали его пессимизм по поводу российского будущего, горечь от двусмысленного положения еврея в русской культуре. Это должно было быть очень больно моему отцу, который еще в 60-е годы ездил фотографировать церкви в Поволжье и любил белоголовых крестьянских детей. В последние три месяца жизни он работал над статьей, начинавшейся с горького признания: «Я не русский философ, не русский писатель и даже не русский интеллигент. Я просто советский еврей…». Основной пафос так и не законченной статьи – безнадежность положения евреев в любой диаспоре, особенно в российской, обреченность их попыток дать что-то приютившей их, волей или неволей, культуре.
Я, конечно, по тем временам не мог приехать на похороны отца: не пустили бы. Отец завещал похоронить себя там, где у него были корни, рядом со своими родителями, в Минске, откуда в молодости он так стремился в Москву. Теперь бы он горько посмеялся: после смерти все-таки оказался за границей! – шутка, вполне достойная шекспировского могильщика. Но не видел и не вижу я для него подходящего места ни на Западе, ни в Израиле: он был соткан из противоречий, страстей и пристрастий своего места и времени, слишком сильно эти место и время чувствовал, точно их запечатлел и принадлежал только им.
Я так и не успел толком попрощаться с отцом перед отъездом. На шумном прощальном сборище родители стояли в молодой толпе одиноко и неуютно, на краю комнаты, на фоне неба, угасавшего в окне над балконом. Я видел профиль отца, чувствовал его молчание и ожидание, но какие серьезные разговоры могли быть в этом гвалте?.. Я должен был забежать к родителям на несколько часов на следующий день, но провел на Шереметьевской таможне почти целые сутки, покуда чиновники отдыхали, досматривали пассажиров более высоких категорий, и, наконец добравшись до меня, решили устроить «пилюлю от ностальгии» с разрезанием воротничков и т.п. Отца я увидел уже только утром 29 июня 1977 года в Шереметьеве. Говорить было некогда, да и все было переговорено. Мы обнялись, и я почувствовал, что мой отец, в чьих глазах я никогда не видел ни слезинки, с трудом подавляет рыдание. Пройдя через таможню и поднимаясь по открытой лестнице на второй этаж к паспортному контролю, я увидел на несколько мгновений отца внизу, он глядел на меня пристально и бесслезно. Между нами уже была черта, которую ему так и не пришлось переступить.
***
Отец сомневался в своем даре и вряд ли примерял к себе булгаковское «рукописи не горят». В одном из писем он спросил меня, не изменил ли я своего высокого мнения о его прозе, прочитав на Западе запретную в СССР русскую литературу. В душе он, конечно, мечтал о писательском успехе, но не очень-то надеялся на это, не будучи склонен верить в чудеса. Я не утешаю себя, пытаясь представить, что бы он сказал, если бы узнал, что его роман «Лето в Бадене» издан (или будет издан в ближайшее время) в полутора десятках стран, что о романе и его авторе написала в журнале «Нью Йоркер» Сьюзен Зонтаг, что роман встретил в Америке восторженный прием серьезной критики. Отец не верил ни в наказание, ни в награду после смерти: «Нам нужно видеть расплату, – иначе это уже не расплата», – написал он в «Мосте через Нерочь». Радость держать его книги в руках он оставил мне.
Я хочу поблагодарить (в хронологическом порядке) тех, без чьей помощи книг бы не было.
Моя мать, Наталья Мичникова, взяла на себя почти весь труд по дому – без этого мой отец бы не смог писать по вечерам и выходным.
Моя жена, Лена, организовала переправку значительной части архива отца в 1977 году с помощью Наны Рогинской и сотрудницы австрийского посольства, имени которой, к сожалению, я не помню.
Азарий Мессерер вывез рукопись «Лета в Бадене» из СССР с помощью американских журналистов – Уолтера и Мэри Вишневски. Он же устроил ее публикацию в «Новой газете» – публикацию, которую заметил из Германии издатель Лев Ройтман, усилия которого привели к первой публикации романа на немецком языке, а затем и к первой публикации по-английски. Роджер и Анжела Киз блестяще перевели этот трудный текст. Именно это издание и нашла в букинистическом магазине в Лондоне Сьюзен Зонтаг. Без Азария я бы никогда не узнал, что г-жа Зонтаг прочла «Лето в Бадене» и хочет добиться его издания в США.
Джозеф Финдер и его сестра Сьюзен Финдер вывезли из СССР архив отца после его смерти.
Зара Абдуллаева боролась за издание книги в России несколько лет. Она первой в России написала о моем отце в журнале «Искусство кино»2. Благодаря Заре сборник прозы отца был напечатан маленьким тиражом в 1999 году издательством МХТ, где над ним с любовью работала Анна Анатольевна Ильницкая.
Без вмешательства Сьюзен Зонтаг в литературную судьбу моего отца чуда бы не произошло: не было бы переводов на полтора десятка языков, не было бы рецензий в «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Ревью оф букс». Чрезвычайно занятая, знаменитая, целый год она действовала как литературный агент давно умершего автора – и добилась публикации английского перевода «Лета в Бадене» в США.
Андрей Устинов подготовил к публикации текст «Лета в Бадене».
Проза моего отца обрела наконец свое место на полках книжных магазинов в России благодаря усилиям Ирины Дмитриевны Прохоровой и ее коллег по «НЛО».
Михаил Цыпкин
Пасифик Гроув, Калифорния, США
Ноябрь 1995 г. – апрель 2004 г.
1
Детальный анализ этого явления можно найти в воспоминаниях академика РАН Г. И. Абелева «Драматические страницы истории отдела вирусологии и иммунологии опухолей» // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. №1–2, http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/VIET/ABELEV.HTM
2
Абдуллаева Зара. Фантастический реализм // Искусство кино. 2002. № 3. С. 28—31.