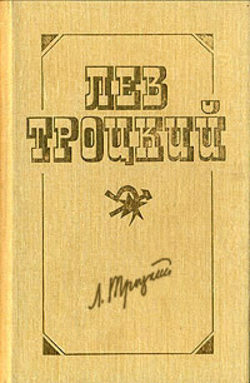Читать книгу Вокруг Октября - Лев Троцкий - Страница 1
I. ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ
ОглавлениеО том, что Ленин прибыл в Петербург и выступал на рабочих собраниях против войны и Временного правительства, я узнал из американских газет в Амхерсте, в канадском концентрационном лагере. Интернированные немецкие матросы сразу заинтересовались Лениным, имя которого они впервые встретили в газетных телеграммах. Все это были люди, жадно ждавшие конца войны, который должен был открыть для них ворота концентрационной тюрьмы. Они с величайшим вниманием относились к каждому голосу против войны. До сих пор они знали Либкнехта. Но им часто говорили, что Либкнехт подкуплен. Теперь они узнали Ленина. Я рассказывал им о Циммервальде и Кинтале. Выступления Ленина привели многих из них к Либкнехту.
В Финляндии проездом я нашел первые свежие русские газеты и в них телеграммы о вступлении Церетели, Скобелева и других «социалистов» в состав Временного правительства. Обстановка была, таким образом, совершенно ясна. С Апрельскими тезисами Ленина я познакомился на второй или третий день по приезде в Петербург. Это было именно то, что нужно было революции. Только позже я прочитал в «Правде» статью Ленина, присланную еще из Швейцарии: «Первый этап первой революции». И сейчас еще можно и должно с величайшим интересом и с политической пользой прочитать первые, весьма расплывчатые номера пореволюционной «Правды», на фоне которых ленинское «Письмо из далека» выступает во всей своей сосредоточенной силе. Очень спокойная, теоретико-разъяснительная по тону статья эта похожа на свернутую в тугое кольцо огромную стальную спираль, которой в дальнейшем предстояло развертываться и расширяться, идейно покрывая собою все содержание революции.
С товарищем Каменевым я условился о посещении редакции «Правды» в один из ближайших по приезде дней.
Первое свидание состоялось, должно быть, 5–6 мая. Я сказал Ленину, что меня ничто не отделяет от Апрельских тезисов и от всего курса, взятого партией после его приезда и что предо мной стоит альтернатива: либо сейчас же «индивидуально» вступить в партийную организацию, либо попытаться привести лучшую часть объединенцев, в организации которых числилось до 3 тысяч рабочих в Петербурге и с которыми связано было много ценных революционных сил: Урицкий, Луначарский, Иоффе, Владимиров, Мануильский, Карахан, Юренев, Позерн, Литкенс и другие. Антонов-Овсеенко уже вступил к тому времени в партию; кажется, и Сокольников. Ленин категорически не высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Прежде всего нужно было конкретнее ориентироваться в обстановке и в людях. Ленин считал не исключенной ту или другую кооперацию с Мартовым, вообще с частью меньшивиков-интернационалистов, только что прибывших из-за границы. Наряду с этим нужно было посмотреть, как сложатся взаимоотношения внутри «интернационалистов» на работе. В силу молчаливого соглашения я с своей стороны не форсировал естественного развития событий. Политика была общая. На рабочих и солдатских собраниях я с первого дня приезда говорил: «Мы, большевики и интернационалисты», а так как союз «и» только затруднял речь при частом произнесении этих слов, то я вскоре сократил формулу и стал говорить: «Мы, большевики-интернационалисты». Таким образом, политическое слияние предшествовало организационному [Н. Н. Суханов в своей истории революции строит особую свою линию в отличие от линии Ленина. Но Суханов заведомый «конструктивист». – Прим. авт.].
В редакцию «Правды» я заходил до июльских дней раза два-три, в наиболее критические моменты. В те первые свидания, а еще более после июльских дней Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности – под покровом спокойствия и «прозаической» простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся «ничтожной кучкой». Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам…
Его выступления на I съезде Советов вызвали у эсероменьшевистского большинства тревожное недоумение. Они смутно чувствовали, что этот человек взял прицел по какой-то очень далекой точке. Но самой точки они не видели. И революционные мещане спрашивали себя: кто это? что это? простой маньяк? или какой-то исторический снаряд небывалой разрывной силы?
Выступление Ленина на съезде Советов, когда он говорил о необходимости арестовать 50 капиталистов, не было, пожалуй, ораторски «удачным». Но оно было исключительно значительным. Короткие аплодисменты немногочисленных сравнительно большевиков провожали оратора, уходившего с видом человека, который не все сказал и, может быть, не совсем так сказал, как хотел бы… И в то же время над залом пронеслось необычное дуновение. Это было дуновение будущего, которое на момент почувствовали все, провожая растерянными взорами этого человека, такого обыкновенного и такого загадочного.
Кто он? что он? Разве Плеханов не назвал в своей газете первую ленинскую речь на революционной почве Петербурга бредом? Разве делегаты, выбиравшиеся массами, не примыкали сплошь к эсерам и меньшевикам? Разве в среде самих большевиков позиция Ленина не вызвала на первых порах острое недовольство?
С одной стороны, Ленин требовал категорического разрыва не только с буржуазным либерализмом, но и со всеми видами оборончества. Он организовал борьбу внутри собственной партии против тех «старых большевиков», которые, как писал Ленин, "не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу вместо изучения своеобразия новой, живой действительности". Таким образом, он на поверхностный взгляд ослаблял собственную партию. А в то же время он заявил на съезде Советов: «Не правда, будто ни одна партия не согласна ныне взять власть; такая партия есть: это наша партия». Разве не чудовищное противоречие между положением «кружка пропагандистов», который отмежевывается от всех остальных, и между этой открытой претензией на взятие власти в гигантской стране, потрясенной до дна? И съезд Советов глубочайшим образом не понимал, чего хочет и на что надеется этот странный человек, этот холодный фантаст, пишущий маленькие статьи в маленькой газете. И когда Ленин с великолепной простотой, которая показалась простоватостью подлинным простецам, заявил на съезде Советов: «Наша партия… готова взять власть целиком», – раздался смех. «Вы можете смеяться, сколько угодно…» – сказал Ленин. Он знал: «хорошо посмеется тот, кто смеется последним». Ленин любил эту французскую пословицу, ибо твердо готовился смеяться последним. И он спокойно продолжал доказывать, что нужно для начала арестовать 50 или 100 крупнейших миллионеров и объявить народу, что мы считаем всех капиталистов разбойниками и что Терещенко ничуть не лучше Милюкова, только поглупее. Ужасно, поразительно, убийственно простецкие мысли! И этот представитель маленькой части съезда, которая время от времени сдержанно аплодирует ему, говорит съезду: «Вы боитесь власти? А мы готовы ее взять». В ответ, разумеется, смех, в тот момент почти снисходительный, только чуть-чуть тревожный.
И для второй своей речи Ленин выбирает ужасно простые слова из письма какого-то крестьянина о том, что нужно больше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам, тогда война кончится, но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет. И эта простая, наивная цитата – вся программа? Как же не недоумевать? Опять смешок, снисходительный и тревожный. И действительно, в качестве отвлеченно взятой программы группы пропагандистов эти слова: «напирать на буржуазию» – не так уж много весят. Недоумевающие не понимали, однако, того, что Ленин безошибочно подслушал нарастающий напор истории на буржуазию и что в результате этого напора ей неизбежно придется «лопаться по всем швам». Недаром же Ленин разъяснял в мае гражданину Маклакову, что «страна» рабочих и беднейших крестьян… раз в 1000 левее Черновых и Церетели, раз в 100 левее нас". Тут-то и есть главный источник ленинской тактики. Сквозь свежую, но уже достаточно мутную демократическую пленку он глубоко прощупал «страну рабочих и беднейших крестьян». Она оказалась готовой совершить величайшую революцию. Но эту свою готовность она пока еще не умеет политически проявить. Те партии, которые говорят от имени рабочих и крестьян, обманывают их. Нашей партии миллионы рабочих и крестьян еще не знают, не нашли ее еще как выразительницу своих стремлений, и в то же время сама наша партия еще не поняла всей своей потенциальной силы, и потому она «в 100 раз» правее рабочих и крестьян. Надо пригнать одно к одному. Надо открыть миллионные массы партии и партию миллионным массам. Не забегать чересчур вперед, но и не отставать. Терпеливо и настойчиво разъяснять. Разъяснять же нужно очень простые вещи. «Долой 10 министров-капиталистов!» Меньшевики не согласны? Долой меньшевиков! Они смеются? До поры до времени… Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним.
Помнится, мною было выдвинуто предложение потребовать на съезде Советов постановки в первую очередь вопроса о готовящемся наступлении на фронте. Ленин одобрил эту мысль, но хотел, очевидно, еще обсудить ее с другими членами ЦК. К первому заседанию съезда товарищ Каменев принес наспех набросанный Лениным проект заявления большевиков по поводу наступления. Не знаю, сохранился ли этот документ. Текст его показался, не помню уж, по каким причинам, неподходящим для съезда как присутствовавшим тут большевикам, так и интернационалистам. Возражал против текста и Позерн, которому мы хотели поручить выступление. Я набросал другой текст, который и был оглашен. Организация выступления была, если не ошибаюсь, в руках Свердлова, с которым я впервые встретился именно во время I съезда Советов как с председателем большевистской фракции.
Несмотря на небольшой рост и худощавость, вызывавшую представление о болезненности, от фигуры Свердлова исходило впечатление значительности и спокойной силы. Он председательствовал ровно, без шума и перебоев, как работает хороший мотор. Секрет тут был, конечно, не в самом искусстве председательствования, а в том, что он превосходно представлял себе личный состав собрания и хорошо знал, чего хочет достигнуть. Каждому заседанию предшествовали встречи его с отдельными делегатами, расспросы, иногда увещания. Уже до открытия заседания он в общем и целом представлял себе, какими путями оно развернется. Но и без предварительных переговоров он лучше, чем кто бы то ни было, знал, как именно тот или другой работник отнесется к поднятому вопросу. Число товарищей, политический облик которых он себе ясно представлял, было по масштабам тогдашней нашей партии очень велико. Это был прирожденный организатор и комбинатор. Каждый политический вопрос представал перед ним прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации и взаимоотношения между организацией в целом и массами. В алгебраические формулы он немедленно и почти автоматически подставлял числовые значения. Этим самым он давал важнейшую проверку политических формул, поскольку дело шло о революционном действии.
После отмены демонстрации 10 июня, когда атмосфера I съезда Советов накалилась до чрезвычайности и Церетели грозил разоружить петербургских рабочих, я с товарищем Каменевым отправился в редакцию и там, после короткого обмена мнениями, я написал по предложению Ленина проект обращения от ЦК к Исполнительному Комитету.
На этом свидании Ленин сказал несколько слов о Церетели по поводу последней его речи (11 июня): «Был ведь революционером, сколько лет на каторге, а теперь полный отказ от прошлого». В этих словах не было ничего политического, они и сказаны были не для политики, а явились плодом мимолетного раздумья над жалкой судьбой бывшего крупного революционера. В тоне был оттенок сожаления, обиды, но выраженный кратко и сухо, ибо ничто так не претило Ленину, как малейший намек на сентиментальность и психологическое рассусоливание.
4 или 5 июля я виделся с Лениным (и с Зиновьевым?), кажется, в Таврическом дворце. Наступление было отбито. Злоба против большевиков достигла у правящих последнего предела. «Теперь они нас перестреляют, – говорил Ленин. – Самый для них подходящий момент». Основной мыслью его было: дать отбой и уйти, поскольку окажется необходимым, в подполье. Это был один из крутых поворотов ленинской стратегии, основанный, как всегда, на быстрой оценке обстановки. Позже, в эпоху III конгресса Коминтерна, Владимир Ильич говорил как-то: «В июле мы наделали немало глупостей». Он имел при этом в виду преждевременность военного выступления, слишком агрессивные формы демонстрации, не отвечавшие нашим силам в масштабе страны. Тем более знаменательна та трезвая решительность, с какой он 4–5 июля продумал обстановку не только за революцию, но и за противную сторону и пришел к выводу, что для «них» теперь в самый раз нас расстрелять. К счастью, нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости. Они ограничились переверзевской химической подготовкой. Хотя весьма вероятно, что, если бы им удалось в первые дни после июльского выступления захватить Ленина, они, то есть их офицерство, поступили бы с ним так же, как менее чем через два года немецкое офицерство поступило с Либкнехтом и Розой Люксембург.
Прямого решения скрыться или уйти в подполье на только что упомянутом свидании принято не было. Корниловщина раскачивалась постепенно. Я лично еще в течение двух-трех дней оставался на виду. Выступал на нескольких партийных и организационных совещаниях на тему: что делать? Бешеный напор на большевиков казался непреодолимым. Меньшевики пытались всеми мерами использовать обстановку, созданную не без их участия. Мне пришлось говорить, помнится, в библиотеке Таврического дворца, на каком-то собрании представителей профессиональных союзов. Присутствовало всего несколько десятков человек, то есть самая верхушка. Меньшевики господствовали. Я доказывал необходимость профсоюзам протестовать против обвинения большевиков в связи с германским милитаризмом. Смутно представляю себе ход этого собрания, но довольно отчетливо вспоминаю две-три злорадные физиономии, поистине плюхопросящие… Террор тем временем крепчал. Шли аресты. Несколько дней я провел, укрываясь на квартире товарища Ларина. Затем стал выходить, появился в Таврическом дворце и вскоре был арестован.