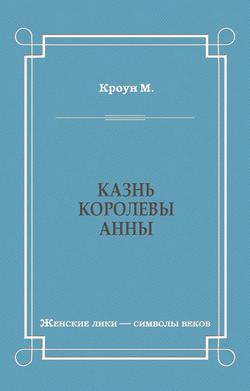Читать книгу Казнь королевы Анны - М. Кроун - Страница 1
Глава I
Царь мрака
ОглавлениеВремя близилось к полуночи. Сатана летел быстро, стремительно в беспредельности заоблачного пространства. Земной шар тонул в непроходимом мраке, а высоко над ним блестели мириады светил, таинственных миров, которых не достигла даже мысль человека.
Владыка ада не мог оторвать взгляд от этого торжественного, величественного зрелища, и в нем вспыхнуло ярче чувство смертельной ненависти к Создателю Вселенной.
Он вдруг остановился, и его исполинские, чудовищные крылья раскинулись по воздушным волнам и замерли в полнейшей неподвижности.
Царь Тьмы взглянул на солнце: оно как будто погружалось в дремоту и втягивало в себя огненные лучи; он окинул взглядом и полную луну, и золотые звезды, горевшие на небе, и не сдержал восторженного восклицания.
– Этот волшебный мир – творение Его рук! – произнес сатана с яростью.
Он не мог произнести имя Господа – оно жгло ему губы.
– Да! – продолжал он с тем же суровым озлоблением. – Он создал эти дивные, таинственные страны; Он присвоил себе верховное владычество над Вселенной, а мне отдал только темные бездны. Зная о моих темных помыслах, Он ограничил мою волю и сковал силу. Моя судьба плачевнее, чем судьба человека – ничтожного творения, возникшего из праха, чтобы обратиться в прах; последний вправе относиться ко мне с полным пренебрежением, если он не поддался никаким искушениям; мне нет прощения, он же, прощаясь с жизнью, прожитой в беззакониях, должен лишь воззвать к Создателю, и раскаяние снимает с него все преступления!
Опустившись ниже, сатана сел на облако и погрузил взор в непроницаемый мрак, окутавший Землю.
– Ночь – славная пора, – прошептал он со злорадством. – Это пора разгула всех порочных наклонностей, которые свойственны человеку: преступная любовь, предательство, измены, убийства, грабежи, засады и дуэли – этот бич человечества, когда людское самолюбие превращает чувство задушевной приязни в жажду крови и мести. В освещенные залы входят под звонкие песни, скандальные оргии; азартные игры собирают своих приверженцев, и темные притоны, где минута решает участь человека, наполняются светом и суетой; золото лежит грудами на карточных столах, и вокруг них толпятся люди с бледными лицами и горящими глазами. А число тех, кто умрет сегодняшней ночью, особенно велико, и среди них немало личностей, занимавших прекрасное положение в обществе. Заглянем в этот дом с мраморными лестницами, уставленными статуями и дорогими тропическими растениями. На шелковых подушках молочной белизны, под темно-алым пологом из лионского бархата лежит седой дипломат, отходящий в вечность. Не пройдет и двух минут, как он предстанет перед грозным судилищем, где ему придется держать ответ за интриги и предательства своей гнусной политики. А там – богач, ворочавший миллионами, умирает, окруженный своими земными сокровищами. Яркий свет канделябров освещает его лицо, искаженное мукой и беспредельным ужасом. Ликуй, мой темный ад, это твоя добыча! Его казна и сердце были всегда закрыты для бедных и страждущих! Ничей вздох не проводит отходящую душу, и ничья молитва не смягчит приговор, который покарает адское бессердечие этого человека. У изголовья стоит его наследник – он еще полон жизни, но мне известно будущее моих земных рабов: он кинется, как коршун, на золото отца и расточит его в попойках и разгуле; но смерть сразит его в расцвете лет, и у него останется от всех сокровищ только богатый саван, если жадный могильщик не сочтет его роскошью, совершенно излишней для остывшего трупа.
Сатана задумчиво помолчал, затем продолжил после минутной паузы:
– Вот еще смертный одр, но все здесь выглядит иначе. Тусклый свет ночника не в силах разогнать непроглядный мрак в тесной и сырой каморке; на железной кровати с изодранным матрацем в предсмертных муках корчится убежденный атеист. Для него нет спасения – он осужден заранее. Но что это? Дверь открывается, и к нему входит женщина с печальным, прекрасным и спокойным лицом; она тихо склоняется над ложем умирающего и старается вызвать в очерствевшем сердце раскаяние. Он обращает к ней угасающий взор, и в нем светится чувство, ему прежде не свойственное. Появляется священник с распятием в руках; он подходит к одру смирившегося грешника и дарует ему после короткой исповеди полное отпущение всех его прегрешений – вольных и невольных.
По лицу умирающего промелькнула спокойная и ясная улыбка… Его дух отлетел с последним вздохом… Он уже в царстве славы, уготованном Богом всем любящим Его…
– Этой женщине стоило сказать несколько слов, чтобы смягчить это сердце, окаменевшее от долгого и упорного неверия, и отнять у меня законную добычу! – проревел сатана, задыхаясь от бешенства. – Она уже не раз вырывала у меня из рук рабов моих! Будь она проклята, эта Благотворительность! Христос призвал ее к подножию креста и заповедал ей облегчить все печали человечества. Творец, Твое могущество превышает мое! Я это сознаю, но ненависть к Тебе разгорается больше от сознания моего бессилия перед Твоей властью.
Глаза владыки обратились с угрозой на спокойное небо: он взмахнул гневно крыльями и стал в ту же минуту опускаться на землю, словно ястреб, который устремляется на добычу.
Перед ним промелькнули неприступные горы и шумные потоки, обширные пустыни, обожженные солнцем, страны, города и столицы, и хотя на земле свирепствовали голод и мор, они не привлекли внимания сатаны. Он пролетел, как молния, когда она пронзает неподвижную тучу и озаряет сразу и запад и восток, и сдержал свой полет над берегами Англии, погруженной во влажный и глубокий туман. Окинув страну холодным и безучастным взглядом, сатана опустился на вершину большого отлогого холма, в одной из самых дальних местностей королевства.
На нем возвышался древний, величественный замок с зубчатыми стенами и высокими башнями; исполинское здание стояло на самом берегу глубокой, но спокойной реки; за ней тянулись вдаль цветущие равнины и богатые села, а вековые леса овевали прохладой это замечательное родовое поместье одной из самых древних и известных фамилий Англии.
На его массивных дверях, окованных железом, красовался герб непобедимых Перси: лев с косматой гривой – символ чести и мужества – стоял на задних лапах; царь зверей поднял кверху свою умную голову и открыл свою страшную, воспаленную пасть, как будто ожидая приближения врага; спокойная отвага, которая исходила от неподвижно застывшего льва, его одиночество на голубом поле герба по воле случая вполне верно олицетворяли и нравственные достоинства, и земной удел последнего потомка угасающего древнего и доблестного рода.
Сатана облетел исполинское здание с зубчатыми стенами и высокими башнями, и мрачное лицо его побледнело от злобы: он повис на мгновение над светлыми водами неподвижной реки и проскользнул без шума к высокому окну – это было единственное из многих окон замка, которое светилось в эту глухую пору. Уцепившись когтями за подоконник, сатана с глубочайшим вниманием уставился на разноцветные стекла массивных рам.
Он увидел обширную и высокую комнату, озаренную светом алебастровой лампы. У яркого огня, пылавшего в камине, в кресле сидел мужчина представительной и прекрасной внешности, с длинной остроконечной бородой. Его ноги покоились на большой волчьей шкуре; он был в глубоком трауре. Человек этот был еще крепок и молод, но яркий румянец юности на его лице заменила матовая белизна, переходящая в бледность; его черные, слегка вьющиеся, глянцевые волосы спадали на затылок из-под бархатной шапочки, прикрывающей темя; на широкой груди блестела золотая массивная цепочка превосходной работы.
Он казался печальным и смотрел на огонь, но мысли этого человека витали, очевидно, далеко.
– Я не смог вызвать в нем ни малейшего ропота, – прошептал сатана, злобно и мрачно глядя на его симпатичное и грустное лицо, – хотя и не щадил ни усилий, ни средств, чтобы восстановить его против Творца. Я сгубил безвозвратно его земное счастье, я отнял у него надежды. Он пытался бороться, и победа осталась не на моей стороне: я обольщал его страстями – он не поддался им. Я вонзил в его сердце острое жало ревности – но он вырвал его, облитое кровью, и отрекся от мщения у подножия креста. Я пробовал не раз вселить в него сомнение – он призывал на помощь свою твердую веру во всемогущество Божье и был неуязвим. Я терзал беспощадно этого человека: ни один светлый луч не упал на его грустную, одинокую жизнь – и дружба, и любовь, и семейное счастье остались для него лишь пустым звуком. Но все мои усилия не привели к желаемому результату: с его губ не слетело ни проклятия горькой судьбе, ни жалобы на Создателя.
Глаза владыки ада сверкнули в темноте, как два горячих угля; уступая порыву непосильного бешенства, он вонзил в тело свои острые когти, и несколько капель крови попало на стекло; предание утверждает, что ничто не могло уничтожить эти багровые брызги.
Но каковы бы ни были те великие силы, которые природа дарует своим избранникам, а близость искусителя начинала угнетать его жертву: ужасное смущение охватило Генри Перси, какой-то странный холод сковал его члены, сердце заныло тревожно и болезненно и перестало биться.
– Что со мной, боже мой! – воскликнул он с испугом. – Это яркое пламя не дает тепла… Я не могу дышать… кровь застывает в жилах… Неужели я способен поддаться этой слабости и свалиться без чувств? Гарри, дай мне вина!
Но никто не отозвался. Поняв, что его старого и верного слуги не было в комнате, лорд Перси встал не без усилия и подошел к изящному резному буфету, который стоял под большим балдахином в другом конце зала; в нем было несколько очень широких полок, покрытых полотняной, белой как снег тканью с кружевной отделкой.
На них стояли блюда с паштетами и дичью и пирамиды сочных оранжерейных фруктов, целая батарея бутылок и стаканов, сосудов из металла и слоновой кости и коллекция кубков всевозможных размеров.
Лорд Перси взял одну из самых драгоценных и тяжеловесных чаш и, наполнив ее до краев вином, вернулся и сел, как прежде, у камина.
– Всегда один! Что может быть ужаснее! – произнес он печально.
Сатана читал в сердце своей несчастной жертвы и задрожал от радости.
За оконной рамой раздался легкий треск, но Перси погрузился в глубокое раздумье и не слышал его.
– Бог создал человека не для одиночества, – продолжал он все с той же мечтательной грустью. – Мир кажется пустыней, когда не слышишь голосов живых существ. Огонь в камине греет, когда дом оживляется присутствием семьи и песнями детей. Крики новорожденного заставляют невольно думать о будущем. Блажен тот, кто имеет семейство и детей! Жизнь отказала мне в этом великом даре; мои земные радости осыпались, как лепестки цветов, оставив обнаженный, полуиссохший стебель… Куда я дел вино?..
Перси отпил глоток из драгоценной чаши и, слегка приподняв ее, стал молча любоваться чудесной работой.
На нижней ее части был изображен дракон, уснувший в букете маковых цветов, листья которых падали на его безобразное чешуйчатое тело; крылья его поддерживали объемистую чашу из горного хрусталя с легкими инкрустациями из жемчуга и золота; хвост страшного дракона обвивал чашу доверху и спускался вниз причудливыми изгибами; на свободном пространстве между лапами дракона была выгравирована старинным шрифтом коротенькая надпись: «Я дарую забвение!» Верхнюю часть сосуда отделяла от нижней металлическая лента с фантастическим бантом, украшенным гербом благородных, неустрашимых Перси – лев с разинутой пастью приподнимал кверху графскую корону, унизанную крупными, сверкающими бриллиантами.
Нужно заметить, что художники того времени не придавали, видимо, никакого значения обработке подобных драгоценностей, их шлифовке: они, конечно, думали, что их уникальность и ценность исключают необходимость искусственной отделки.
Генри Перси хотел было выпить еще глоток, но в ту же минуту почти с отвращением отвел чашу от губ.
– Нет! Я не в силах пить! Ты не дашь мне забвения! – прошептал он с тоской и поставил на столик около камина сверкающий сосуд. – Ты лжешь! – продолжал граф. – Ты не дашь мне желаемого. Я пришел к убеждению, что мне не найти покоя в этой жизни! Бог создал человека вовсе не для земли… не для того, чтобы пить и питать это тело, которое раньше или позже разрушается, эту глину, которая высыхает и валится на землю. Нет, во мне есть иное существо – моя душа, над которой не властны законы разрушения, мое сердце, исполненное беспредельной любви, мой разум, отличающий дурное от хорошего, моя совесть, которая охраняет меня от соблазнов порока. Да, вот что не погибнет, вот что сотворено не для земной, но для вечной жизни. Все, что я здесь вижу, мелко и ничтожно, пусто и изменчиво. Все наводит на мысль, что гоняться за счастьем – все равно что преследовать звук: обстоятельства разлучают нас с людьми, близкими нашему сердцу; но и, кроме того, их постигают болезни и несчастья… смерть сводит их в могилу. В настоящем нет прочности; если заглянешь в прошлое, то вспомнишь о промахах, несбывшихся надеждах, горьких разочарованиях, а будущее покрыто непроходимым мраком.
Генри Перси замолк, и его выразительное, симпатичное лицо исказилось; он стиснул руки и произнес чуть слышно с мучительной, беспредельной тоской:
– Прошел уже год, с тех пор как Томас Мор погиб на эшафоте, и еще день после казни Рочестера… Прошел уже целый год, с тех пор как вина за эту ужасную казнь возлагается на нее. На нее! Боже мой, мог ли я думать… что Анна Болейн… моя милая Анна!.. Эта мысль разрывает мне сердце! Всемогущий Создатель! Облегчи это страшное, непосильное бремя или пошли мне смерть!
Сатана выпустил свои острые когти, как будто готовясь запустить их в добычу.
– Я не просил Тебя, – продолжал тихо Перси, – дать мне жизнь! Иов тоже оплакивал день своего рождения, но Иов не роптал!.. И я, всесильный Боже, сомкну свои уста и покорюсь безропотно Твоей священной воле! Мне думалось сначала, что Ты открыл для меня источник покоя и счастья, который не иссякнет до конца моей жизни; но он превратился в источник жгучих слез. Да будет на все Твоя святая воля!
За этим восклицанием графа последовал резкий крик или, вернее, свист; лорд Перси вскочил с места и обвел взглядом комнату; он не увидел никого, кроме Гарри, шедшего от дверей своей обычной неверной походкой.
– Это ты свистнул, Гарри? – спросил поспешно Перси.
Слуга взглянул на графа.
– Нет, – сказал он спокойно.
– Это довольно странно. Но ведь ты слышал свист?
– Я ничего не слышал.
Граф подошел к окну с разноцветными стеклами и открыл его: он увидел во мраке только лучистый след и услышал в глубокой тишине всплеск – как будто очень грузное тело упало в спокойную реку.
– Я, признаюсь, не думал, что наши рыбаки занимаются ловлей в такую позднюю пору, – проговорил лорд Перси, всматриваясь в темноту ночи.
Но он не увидел ничего необычного: над сияющим пространством царило, как и прежде, полнейшее безмолвие, лес утопал во мраке, спокойная река отражала небесный свод, усеянный блестящими звездами; только где-то вдали слышался мерный стук колес водяной мельницы.
Граф открыл окно.
– Я, однако же, слышал довольно резкий свист, – с уверенностью сказал он, подходя к старику, который приютился между тем у камина. – Не желаешь ли, Гарри, выпить это вино?
И лорд Перси подал ему чашу, взглянув сострадательно на обнаженный череп и на сгорбленный стан своего старого и верного слуги.
Гарри схватил ее дрожащими руками, но, когда он увидел при ярком свете пламени крылатого дракона и сверкающий герб, он тотчас возвратил ее своему господину.
– Милорд, ведь эта чаша принадлежала вашему достойному отцу, – проговорил старик. – Избави меня Боже прикасаться к ней иначе, как с чувством уважения. Ваша мать принесла ее в дар своему супругу в день вашего рождения; он подарил ей дорогое ожерелье; меня тоже призвали, и ваш отец в порыве невыразимой радости взял вас из колыбели и сказал мне приветливо: «Бог дал мне сына, Гарри, я хочу, чтобы и ты полюбовался им, дорогим моим первенцем!» Он схватил эту самую драгоценную чашу и, налив в нее превосходное вино, осушил ее залпом. Дом наполнился радостным и шумным ликованием, каждый хотел взглянуть на вас, полюбоваться вами. Как теперь вижу: вы лежите в прекрасной колыбели, а кормилица ваша, покойная моя жена, обезумев от радости, повторяет без устали: «Это наследник славы Нортумберлендских графов!»
– На земле есть народы, которые оплакивают рождение человека и предаются радости в минуту его смерти… Эти люди умнее, чем мы думаем, Гарри, – произнес Генри Перси.
– Зачем вы постоянно говорите о смерти? – сказал старик с упреком и досадой. – Мысль о ней отравила последние годы моей жизни, хотя вся моя молодость прошла в шуме битв и праздновании побед вашего благородного и храброго отца. Я, как верный слуга, гордился его славой, благодарил Творца за все его удачи, радовался успехам его, как своим собственным. Король Ричард погиб у меня на глазах на равнинах Босворта. Когда он посмотрел на вашего отца и встретил его взгляд, исполненный глубокой, непримиримой ненависти, он приказал схватить его, но мы все отступили, и никто не дерзнул посягнуть на свободу отважного вождя. Взбешенный нашей непокорностью, король бросился на своего врага, но не прошло и минуты, как он упал с коня, пораженный бесчисленными смертельными ударами. Сражение при Стоке, по прошествии двух лет после того события, усилило еще нашу ратную славу: граф Линкольн был убит, мы одержали полную, блестящую победу! Но… ведь вы равнодушны и к упоению битвы, и к торжеству победы, хотя первые опыты ваши на ратном поле и обещали иное!..
– Неужели ты думаешь, что я стану сражаться за Генриха Восьмого?! – воскликнул с гневом Перси. – Вспомнил ли он хоть раз, что граф Ричмонд обязан королевским венцом графу Нортумберленду?[1]
– Нам не пришлось повторять с той радостью, с которой мы твердили у вашей колыбели: «У графа есть наследник его славы и имени!» – сказал с сердцем старик. – Ваши вассалы видят с душевным сокрушением, как угасает род непобедимых Перси! Вы осыпаете их щедротами, так что, потеряв вас, они потеряют все! Благородное самолюбие, желание сохранить ваше славное имя не смогли взять верх над той роковой печалью, которая затмила, как туча, вашу молодость.
– Я не буду оспаривать эту печальную истину, – отвечал Генри Перси. – В судьбе моей действительно есть что-то роковое; на мне лежит тяжелый и непосильный гнет… имя Анны Болейн разрывает мне душу. Я готов думать, Гарри, что на свете есть люди, обреченные расплачиваться за чужие грехи, но нам не дано постичь эту странную и великую тайну; наш слабый ум не может понять цели благого провидения! Мы должны покоряться и уповать на милость всемогущего Бога… И если я не оставлю след на земле, что же в этом особенного? Что слава? Пустой звук!.. Что такое сражение? Уничтожение друг друга людьми, которые даже не знакомы. Наша жизнь проходит так быстро, что о ней не стоит размышлять, Гарри! Можно утолить жажду, голод, но нет средств, чтобы унять нравственные страдания. Я не был обуреваем никакими химерами; одиночество научило меня видеть вещи в истинном свете, без прикрас; я понял, что если в человеке и есть что-нибудь достойное внимания, так это его сердце, а его-то и рвут безжалостно на части!.. Нет, мне нужно иное!.. Мне нужны крылья, Гарри, чтобы улететь отсюда, но я хочу унести с собой ее.
– Кого это – ее? – спросил старик, потерявший от старости способность понимать, о ком идет речь, без ясных указаний на имена или фамилии.
– Кого? О, Гарри, Гарри! Тебе ли еще спрашивать? – сказал с упреком лорд. – Ну, понятно, кого: ее, Анну Болейн, единственную женщину, которая была и будет мной любима до конца моей жизни! Выслушай меня, Гарри! Только с тобой я могу говорить откровенно, хотя знаю, что тебе не понять всего, что я скажу. Что за беда? Мне нужно излить наболевшее, что облегчит, несомненно, исстрадавшееся сердце! Ты любишь вспоминать о своей молодости, но моя унеслась еще быстрее твоей. Когда я впервые увидел эту женщину, я был глубоко тронут ее детской грацией, ее скромностью; мне показалось, что мы с ней не чужие, что я знал ее прежде. Она была чиста в то блаженное время, она ценила все возвышенное, сопереживала всем страждущим и облегчала страдания всех мучеников. Она казалась ангелом, спустившимся на землю, чтобы напомнить людям о забытом небе! Я ее полюбил, и мне не приходилось стыдиться этого чувства: оно было таким честным! Все, чего я желал, так это оберегать нежное, прелестное создание от всех невзгод. Я смотрел на нее почти с благоговением, как на великий дар, ниспосланный мне Господом; скажу более, Гарри: я пришел к убеждению, что ответствен за ее настоящее и будущее. Я был в расцвете сил, мне были доступны любые наслаждения, но чувство к Анне оградило меня от всех соблазнов: оно даже переродило меня. Я стал смотреть на жизнь по-другому и понял, что мы призваны в нее не для пиров и веселых попоек. Я начал понемногу отдаляться от придворной молодежи и удивлялся способности товарищей проводить дни и ночи в пустых развлечениях. Святые узы брака и семейная жизнь стали конечной целью моих дум и желаний; мне открылось истинное назначение жизни; я не узнавал себя! Анна Болейн была единственной владычицей моей души и мыслей. Я старался развить в ней природные дарования и сформировать ее религиозные верования. Честолюбие было отличительной чертой ее родни, и я один любил ее бескорыстно. Для них же она была не более как средством к достижению целей; все они спекулировали на ее красоте, уповая на то, что брак с влиятельным лицом придаст им больше веса при дворе. Я понял их расчеты и решил просить без всяких отлагательств руки Анны Болейн. Славное имя предков и мое солидное положение в обществе ослепили ее надменного отца: он представил меня собравшимся вассалам в качестве жениха своей прекрасной дочери. Не забыть мне, Гарри, этих блаженных дней! Анна Болейн казалась мне еще очаровательнее в уединении древнего родового поместья, куда ее отец после нашей помолвки разрешил мне являться на правах родственника; когда она входила в темные залы замка, мне казалось, старик, что они наполняются ослепительным светом; когда зной спадал и сменялся вечерней прохладой, мы садились на скамью в тени дубов, недалеко от старого замка; его серые башни казались величавыми на фоне темнеющего неба; воздух наполнялся благоуханием множества растений и цветов, ящерицы скользили по раскаленным камням высокого крыльца и прятались в расщелинах, поросших травой. Птицы весело пели, а я сидел и слушал, как очарованный, сладкие речи Анны и ее нежные клятвы в вечной любви. Ночь спускалась на землю: с колоколен церквей окрестных деревень разносился далеко тихий и мерный благовест, и уста моей милой, ненаглядной невесты произносили набожно вечернюю молитву. Мрак становился гуще и тишина торжественнее, я не мог уже видеть нежное личико Анны, и только ее платье белело в темноте… Ты не в силах понять, насколько тяжелы эти воспоминания! Упоительно время нашей золотой молодости, когда мы верим в счастье, но оно пролетает слишком быстро! И мое счастье, Гарри, постигла та же участь!.. Но кому не известно, чем закончилось мое сватовство? К чему вспоминать те страшные дни, когда в Анне Болейн вдруг заглохли все лучшие чувства, и она нашла в браке с английским королем не власть, а цепи рабства! Ее родной отец, уступая корысти и тщеславию, благословил ее на этот страшный шаг… Бессердечная мать примирилась охотно с ее позором ради громкого титула и пышности, за которой попытались скрыть двусмысленное положение дочери, а младшая сестра взирала с чувством зависти на бесславие старшей! Какое сцепление пороков! Кто в силах описать такое? Подобные события не печалят, но заставляют негодовать, что и происходило со мной в течение многих лет. Но все прошло, и я уже могу молиться за нее. Пусть смеются философы, но я знаю по опыту, что в душе человека существует, помимо дружбы и любви, загадочное чувство, которое нельзя описать: в нем нет ни ревности, ни непостоянства, присущего нашим чувствам; нет земной грязи, эгоистических порывов и желаний; две души как бы сливаются в одну, так что готовы делить и горе, и радость, и позор. Вот чувство, с которым я буду относиться к Анне Болейн до конца моей жизни! Если бы ты спросил, Гарри, почему я живу этим, я бы ответил – не знаю! Кто может читать в нашем сердце? За что, например, мать любит свое дитя? Почему она умирает от горя, потеряв его? Почему даже птица тоскует без своего друга? Я знаю, что подобное чувство испытывают даже неразумные создания. Я помню до сих пор, как в замок принесли пару горлинок; их посадили в клетку, и они легко свыклись с жизнью в неволе; они быстро росли, и их темные перья стали длинными и блестящими; не испытав блаженства вольной жизни, птицы клевали корм и были совершенно довольны. Но как-то летним днем, когда обе они прыгали беззаботно по жердочкам, одна из них упала и повредила ножку; не прошло и двух часов, как она умерла; ее тотчас убрали и присматривали за оставшейся гораздо внимательнее; но птица захирела, перестала клевать корм и вскоре умерла. Скажи мне теперь, Гарри, чем это объяснить? Я бы не мог ответить, точно так же, как и ты, на подобный вопрос, но я уверен, что птицы были связаны неразрывной связью и имели одну общую душу. Ты поймешь теперь, Гарри, почему я всегда на заходе солнца иду, заслышав благовест, в наш деревенский храм. Войдя под его древние своды, я пробираюсь в темный угол и, в то время как аббат совершает вечерний обряд богослужения, склоняю смиренно колени перед Господом и молюсь за нее. Когда нищий появляется у этого замка, завидуя, конечно, по простоте душевной счастью его владельца, я кладу ему в руку щедрую милостыню, и когда его бледное, изнуренное горем и нуждой лицо загорается ярким румянцем, я говорю ему: «Моли Бога за ту, от имени которой я одарил тебя, моли, чтобы Он простил ей все прегрешения!» Нужно признать, Гарри, что положение Анны действительно печально: в этом обширном мире один я принимал в ней сердечное участие, все же вообще настроены против нее враждебно; все проклинают ее имя; все считают ее виновницей роковых несчастий. Кровь неповинных жертв вопиет о возмездии; ответственность за казнь епископа Рочестерского, а еще того более за казнь Томаса Мора возлагается всеми на королеву, а она забыла в водовороте пышных и непрерывных празднеств, что ни один из нас не уйдет от суда Всемогущего Бога!
– Ни один, это верно, – сказал бесстрастно Гарри, придвигаясь к огню. – А она, королева, сделала и нам тоже немало зла! Я и шага не могу ступить из замка без того, чтобы кто-нибудь из ваших вассалов не подошел с вопросом: «Как здоровье милорда?» или: «Есть ли надежда, что милорду наскучит жить затворником в замке?» Иные же, прости Господи, я готов иногда разорвать их на части, качают головой, как будто сомневаются в вашем рассудке! Как хотите, милорд, а ведь это обидно старому слуге.
– Бедный Гарри! – сказал с состраданием граф. – Так они говорят тебе, что я сошел с ума?
– Нет! Они не осмелятся сказать такую дерзость! – воскликнул гневно Гарри, побледнев при мысли об этом.
– Почему же нет? – спросил с улыбкой Перси.
– И вы мне задаете такой вопрос, милорд?
– Ну перестань сердиться! Люди вообще так мелочны, что придают значение даже пустой фантазии, которая взбредет в голову их соседу!
– Их соседу, милорд? – проговорил старик с насмешливой улыбкой. – Вы могли бы сказать: «Их господину!» Вассалы должны видеть в вас своего повелителя и покровителя! Я только повторяю то, что слышал не раз от нашего аббата, когда он объяснял обязанности господина по отношению к вассалам.
– Аббат говорит дело, – перебил Генри Перси, – и я тебе признателен за то, что ты напомнил мне об этом. Но мне кажется, Гарри, – продолжал он задумчиво после минутной паузы, – что я выполнял эти обязанности. Вассалы мои пользуются всеми благами мирной, обеспеченной жизни… Они ограждены от всяких притеснений… Я делаю для них все, что могу!..
– Все это так, милорд, – продолжал в том же тоне непреклонный старик, – но вы еще обязаны заботиться о том, чтобы интересы их не расходились с вашими. Я предан вам всей душой, вы это сами знаете, я могу сказать вам то, что считаю нужным, и вас не оскорбит моя откровенность.
– Ты можешь говорить все, что тебе угодно, – сказал Нортумберленд. – Мне даже часто кажется, что не я, а ты, Гарри, владелец замка!
– Думайте что хотите! Я говорил вам, кажется, уже не раз, милорд, что я был в невозвратные времена моей молодости самолюбив и пылок. Следуя неотлучно за вашим благородным и отважным родителем в блистательных походах, стяжавших ему славу, я пристрастился к шуму и волнениям битв. Раз… это было осенью, в сырой ненастный вечер… наше войско спустилось после кровопролитного и упорного боя в широкую лощину. Ночь уже наступила, и все небо закрыла темная туча. Ваш отец отдыхал под холщовой палаткой на пуховых подушках; мы же, грешные люди, стояли под проливным дождем; мы не ели весь день и не могли рассчитывать и на минутный отдых в этом топком болоте. Продрогнув до костей, я печально поглядывал на звездочки, мелькавшие из-за туч, и думал: «Отчего одним людям живется хорошо и привольно, а другим суждено страдать и любоваться на чужое счастье?» Не сердитесь, милорд!.. Мало ли какие мысли заползают в башку голодным и холодным!
– Продолжай, – сказал Перси.
– Итак, я против воли задавался вопросом: почему у одних целые груды золота, а другие нуждаются в хлебе насущном?
– Ну и нашел ты ответ, старик? – спросил лорд с любопытством.
Он и сам не раз был, разумеется, морально, в положении Гарри и завидовал людям, жизнь которых проходила без борьбы и тревог.
– Да, – отвечал с уверенностью Гарри. – Господь создал богатых и бедных для того, чтобы люди помогали друг другу и не жили бы порознь. Ваш отец, например, нуждался в моей преданности, я же в свою очередь не мог ничего сделать без его покровительства; если бы все были знатны, богаты, умны и избавлены от всяких притеснений, то каждый стал бы жить для себя, и благодарность, преданность, взаимная поддержка – все, что роднит и связывает нас, стали бы совершенно лишними.
С той поры, милорд, я решил довольствоваться тем скромным положением, которое Господь избрал для меня в жизни, но это не мешает мне думать, как и прежде, что знатным и богатым не следует чураться неимущих и слабых.
– То, что ты сказал, великая, непреложная истина, но ты судишь меня чересчур строго, Гарри! – отвечал Генри Перси. – Я всегда исполнял свой долг и сочувствовал всем, за кого должен отвечать перед Богом. Ты ведь знаешь и сам, что я о них забочусь и поступаю с ними по справедливости!.. Я только не хочу, чтобы ты и они имели притязания на мои чувства к других людям.
– А все-таки, – заметил Гарри с назойливым упорством большинства стариков, – все мы были бы счастливее, если бы вы были семейным человеком!
– И я первый из всех, – прошептал Генри Перси.
Что-то похожее на светлую слезинку мелькнуло и исчезло в его черных глазах.
– Неужели, – с горечью промолвил он после недолгой паузы, – ты считаешь меня обязанным сделать для вашей выгоды то, что я не делаю для себя самого?
– Как знать! – воскликнул Гарри, любивший бесполезные и пространные прения. – На такие вопросы сразу не отвечают!
– Полно спорить, старик! Выпей лучше вина, – сказал с улыбкой Перси.
– С удовольствием, милорд, но не из этой чаши!..
Он взял с буфета кубок из оленьего рога с золотым ободком и подал его графу.
Лорд наполнил его почти до краев.
– Довольно! – сказал Гарри.
– Не скромничай, старик! Ты выпивал гораздо больше, когда летел в сражение вслед за моим отцом!
– Вы ошибаетесь! – возразил Гарри с большим воодушевлением. – Я вел самую строгую и воздержанную жизнь! О, милорд, это было благодатное время, мне его не забыть! Все радости – ничто в сравнении с минутой, когда войско вступает в покорившийся город под громкие звуки труб и бой барабанов! Везде толпы народа, из всех окон выглядывают любопытные лица, все ликует и движется, офицеры гарцуют на боевых конях, знамена развеваются, а сердце так и рвется из груди! Милорд, в такие дни люди забывают про холод и жажду!
– А забывал ли ты в эти минуты, Гарри, о товарищах, которых потерял в сражении, и о тех людях, которых убил?
– Их жаль, душевно жаль! Но что же делать? Каждому свой черед: нынче мне, завтра вам! Люди не вечны… Все мы, грешные, смертны.
– К счастью, да, – со вздохом сказал Перси.
1
Граф Ричмонд, впоследствии король Генрих VII и отец Генриха VIII, был обязан победой при Босворте, а вследствие ее и английской короной графу Нортумберленду, отцу Генри Перси.