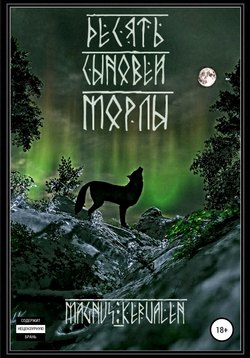Читать книгу Десять сыновей Морлы - Magnus Kervalen - Страница 1
ОглавлениеЧасть I
Глава 1
В бражном зале было дымно и душно, а снаружи царила нескончаемая зимняя ночь. Мадге выходил проверить лошадей; он вбежал обратно в дом дрожа, шмыгая носом и злясь на холод – жестокий, гибельный холод зимы Трефуйлнгида. С остервенением топая ногами, чтобы сбить снег с меховых сапог, Мадге прислушивался к незнакомым голосам. Всё сегодня сердило его: чужие голоса, чужие кони, следы чужих ног, истоптавших снег вокруг бревенчатых стен Ангкеима – бражного зала, в котором его отец, карнрогг Тьярнфи Морла, нынче справлял свадьбу.
Хендрекка Моргерехт, их южный сосед и давний враг, отец невесты, привез с собою так много людей, словно собирался не на свадебный пир, а на битву. Они явились в дневных сумерках, разряженные и надменные, и заполонили весь двор своими лошадьми, своими рабами и своей избыточной спесью. К вечеру, когда сумрак превратился в непроглядную темень, чужаки набились в бражный зал, так что теперь в Ангкеиме было не продохнуть от приторно-пряного запаха хризских благовоний. Он мешался с запахами жареного мяса, браги и чистой соломы, устилающей пол, и оттого становился еще тошнотворнее – по крайней мере, для Мадге.
Мадге раздувал ноздри и фыркал. Ему не хотелось отходить от дверей, садиться на скамью рядом с братьями, смотреть со своего места в конце стола, как отец по обычаю ударяет плетью невесту и пьет из одного рога с Хендреккой Моргерехтом. Мадге не желал пить здоровье заклятого врага их Дома. И еще больше не желал он славословить отца, которому вздумалось жениться на дочери Хендрекки вместо того, чтобы женить на ней своего сына Мадге. Всё оттого, что Мадге девятый сын. Старшему, Ульфдангу, каждый окажет почет, самого младшего, красавчика Лиаса, каждый приласкает – а он, Мадге, никому не нужен. Всякий горазд обойти его – что при дележе военной добычи, что за столом, что с женитьбой. Кто знает, когда теперь отец сможет его женить? Гордый Хендрекка назначил непомерный выкуп за честь своей дочери, а такого богатого свадебного пира Трефуйлнгидский лес не видел, наверное, с тех пор, как роггайн Райнар Красноволосый взял в жены прекрасную Элейфгун. Да и не нужна Мадге другая невеста. Это ему была предназначена Вальебург, дочь Хендрекки, это он должен бить ее плетью по спине и платить ей за бесчестье, и это его должны сейчас величать рогастым оленем и яростным вепрем.
Ангррод, еще один его брат, отошел отлить в углу и заметил Мадге.
– Что ты там? Бесишься опять? – бросил он через плечо. Подвязав штаны, Ангррод шагнул к Мадге и толкнул его в спину – не столько ударил, сколько шлепнул широкой ладонью. – Идем, сейчас будут делить быка.
– И что с того? – пробормотал Мадге. – Всё одно мне достанутся хрящи да кости.
Ангррод силой усадил брата на скамью, потрепал за загривок.
– У, волчонок. Всё бы тебе огрызаться. Чего сердиться? И на твоей свадьбе выпьем, куда ты денешься!
Мадге хмуро посмотрел на Ангррода. Куда там старшему брату понять его обиду! Сам Ангррод давно уже зрелый муж: правит землей Карна Тидд, наследством своей жены, родил двух сыновей, отъелся, стал тяжелым на подъем и ленивым, будто сын фольдхера, а не карнрогга. Глядеть тошно на его сытое благодушное лицо.
Вернулись Йортанраг, Сиандел и близнецы Урф и Урфтан, помогавшие отцу уложить на столе громадную бычью тушу. Братья сели на положенные им места между Ангрродом и Мадге – Йортанраг пихнул Мадге, чтобы тот подвинулся. «А, чтоб тебя гурсы утащили!» – прошипел Мадге, но его проклятье потонуло в гуле одобрения: все восхищались быком и хвалили щедрость хозяина. Тьярнфи Морла поднялся с карнроггского трона – деревянного, украшенного бронзой кресла, добытого дедом Тьярнфи в набеге на хризский город Тирванион – эсы называли его Ан Орроде, Золотой Город. Морла протянул нож Хендрекке, как велит обычай, и Хендрекка по обычаю же отказался. Со своего места Мадге видел лишь их фигуры, черные на фоне языков пламени в очаге посреди зала: высокую, статную – Хендрекки и низкорослую и узкоплечую – своего отца. У противоположной стены, на женской скамье, сидела невеста, но Мадге не смог бы рассмотреть ее, даже если бы лицо Вальебург не закрывал алый шелковый плат: люди, толпящиеся у стола, то и дело заслоняли собою женщин.
Морла раскрыл бычьей туше рот, одним точным, привычным движением отрезал язык и с поклоном подал его Хендрекке. Потом отсек чресла быка и взял их себе, а большой, сочащийся соком, кусок мяса подал карнроггу Гунвару Эорамайну. Остро запахло кровью – бык был настолько велик, что не прожарился как следует. Эсы любили сыроватое мясо. Мадге сглотнул слюну. Пройдет немало времени, прежде чем очередь дойдет до него, девятого сына, – ведь прежде должно почтить всех карнроггов, приехавших на пиршество, их родичей и элайров-дружинников, а потом и старших сыновей Морлы. Братья Мадге, так же, как и он сам, с жадностью следили за каждым куском. Один только Лиас, красавчик Лиас, перемигивался с молодой рабыней – он успел наесться еще до того, как люди сели за пир: женщины, готовившие угощение, охотно потчевали всеобщего любимца.
Чтобы не смотреть на мясо, Мадге перевел взгляд на гостей. В Ангкеим прибыли карнрогги со всех земель Трефуйлнгида: Гунвар Эорамайн и его племянник Данда, правители Карна Руда-Моддур, Вульфсти Хад, правитель Карна Вилтенайр, Хеди Эйдаккар, правитель Карна Фальгрилат. Лишь двое, карнрогг-ведун Тельри Хегирик из самого северного карна, Великих Топей Унутринга, и его дочь, владычица Карна Баэф Тагрнбода, не явились на пир – они не были Морле друзьями. Карнрогги и их люди теснились у стола, ревниво замечая, какая часть быка досталась другому, и в бражном зале уже слышался недовольный ропот. Каждому мнилось, что соседу достался кусок куда больше, жирнее и почетнее, чем тот, что достался ему самому. Элайры Морлы ворчали, что их господин угождает людям Хендрекки, их давним врагам, а южане, наоборот, подозревали, что Морла обделяет их из-за былой вражды. Эсы говорят, не будет мира там, где собираются старые враги. Воинов, еще совсем недавно обнажавших мечи друг против друга в жестоком сражении, не заставишь так скоро забыть о пролитой крови.
Мадге чувствовал, как сгущается и гудит воздух в бражном зале. Он разглядывал элайров Хендрекки, смотрел на хмурые лица элайров Морлы и ухмылялся своим мыслям. Ему нравилось, что в Ангкеиме неспокойно. Ему вообще нравилось, когда что-то шло не так, как хотелось отцу. Мадге все еще злился. Ему не сиделось на месте, он ерзал, пока Йортанраг не прикрикнул на него. Тогда Мадге принялся вертеть головой, прикидывая в уме, кому из этих воинов первому надоест разыгрывать дружбу. На одной из дальних скамей он приметил Эадана, своего приятеля – тот, как и все, наблюдал за разделыванием быка и прихлебывал брагу из деревянного кубка.
– Хей, Эйди! Эйди, дружище! – позвал его Мадге, с трудом перекрикивая оглушительный шум пиршественного зала.
Эадан наконец услышал его, поднялся и подошел к скамье сыновей Морлы, не выпуская из рук кубка – он достался Эадану от отца, фольдхера Райнара, и Эадан, у которого почти не было своего добра, дорожил этим нехитрым богатством. Мадге схватил приятеля за руку и заставил его сесть подле себя. Эадан запротестовал:
– Это место Лиаса, я не хочу оскорбить его…
– К гурсам Лиаса, – сказал Мадге. – Все равно он улизнул в прядильню со своей девкой. Что, по нраву тебе пир моего отца? – Мадге прищурил злые желтоватые глаза.
Эадан помедлил с ответом. Он видел, что Мадге отчего-то гневается, и боялся разозлить его неосторожным словом. Наконец он сказал уклончиво:
– Хороша брага у нашего господина.
Мадге осклабился.
– Еще бы! Ведь она замешана на крови наших родичей, убитых людьми Пучеглазого. Дивлюсь, что твой кубок не треснул и не выпал у тебя из рук, когда ты пил из него славу Хендрекки Моргерехта.
Эадан отвел взгляд. Он опасался спорить с Мадге, но и ругать карнрогга Морлу тоже страшился.
– Наш господин пожелал забыть старые обиды и замириться с Моргерехтами…
– Уверен, ты скажешь другое, когда увидишь кольцо твоего отца на пальце его убийцы, – перебил его Мадге. – Взгляни, вон он! Альскье Кег-Догрих, элайр Пучеглазого. Безо всякого страха явился он сюда с кольцом на пальце, ибо думает, что владеет достоянием мертвых. А может, так и есть? Может, некому отомстить за храброго Райнара Фин-Диада?
Эадан до боли сжал кубок. Он давно уже приметил и Альскье, и отцово кольцо – медное, с вепрем, пораженным стрелой, – но смолчал, потому что не хотел затевать ссору на пире своего карнрогга. Кто он таков, чтобы возвышать голос на собрании знатных? Его отец, элайр Райнар, давно мертв. Морла отдал его надел другому дружиннику, когда Эадан был еще мал. У Эадана нет ни богатства, ни земель, ни большой родни, чтобы пойти против воли Морлы и бросить вызов элайру Хендрекки Моргерехта прямо на праздновании долгожданного мира. Эадан совсем один и живет в доме Морлы лишь из милости. Много ли отваги у пса, подбирающего объедки?
– Ну, что же? – продолжал подстрекать Мадге, распаляясь все больше. – Напомни-ка, Эйди, остались ли после славного элайра Райнара одни только дочери, которым место в прядильне среди рабынь, или всё же был у него сын?
– Довольно насмешничать, – укорил брата Сиандел. – Не слушай пустой болтовни, младший брат Эйди, – мягко сказал он Эадану. – Никто не станет презирать тебя за то, что ты покорен своему карнроггу и отказался от мести за отца.
Примирительные слова Сиандела прозвучали еще унизительней насмешек Мадге. Другие сыновья Морлы, заслышав их разговор, отвлеклись от быка и повернули головы. Им стало любопытно, как поведет себя Эадан – снесет ли оскорбление или поступит так, как честь велит поступать каждому свободному эсу.
Эадан поднялся на ноги. Морла все еще разделывал бычью тушу; люди, получив свою долю, не отходили к столам, а оставались посмотреть, что достанется другим. Каждый гость, принимая из рук Морлы угощение, благодарил хозяина в положенных учтивых выражениях. Чувствуя спиною взгляды сыновей Морлы, сверлящие его, Эадан двинулся сквозь толпу к Альскье Кег-Догриху. Тот орал что-то на ухо своему брату Авенделю и не замечал Эадана, пока тот не приблизился вплотную. Решив, что юноша из дома Морлы хочет выпить с ним, Альскье закинул руку ему на шею, стукнул своим кубком о кубок Эадана, прокричал «До саней Орнара!» и, осушив кубок до дна, по обычаю расцеловал Эадана в обе щеки.
Кровь бросилась Эадану в лицо. Он подумал: «Сейчас!» – и выкинул вперед руку с ножом.
Лезвие вошло в тело легко – Эадан даже подумал было, что промахнулся. Но тут Альскье посмотрел Эадану прямо в лицо и тяжело повалился на пол. В его взгляде читалось удивление – похоже, он и сам не понял, что его убили. На подкашивающихся ногах Эадан отступил от него. Все силы будто бы схлынули – Эадан, удивленный не меньше своей жертвы, чувствовал себя совсем вялым, слабым, точно больным. Его слегка мутило.
Обернувшись к брату, Авендель Кег-Догрих обнаружил его лежащим на полу в соломе и пьяно рассмеялся. Он пошутил что-то о знаменитой гуорхайльской браге – его слова донеслись до Эадана сквозь гул в ушах. В Эадане всколыхнулось возмущение. Он только что совершил подвиг беспримерной отваги, показал себя истинным сыном Орнара, доказал, что достоин зваться наследником своего прославленного отца и разить врагов для своего карнрогга – а этот захмелевший дурень шутит о браге! Эадан взял Авенделя за плечо, заставляя его повернуться.
– Твоего брата свалила не брага! – прокричал ему Эадан. Вместо того чтобы бояться – или торжествовать – он только досадовал, что его голос почти не слышен за гулом других голосов и стуком кубков. Эадан замолчал, глотнул побольше воздуха и выкрикнул еще громче, так, что стоявшие вокруг воины Хендрекки посмотрели на него: – Слышишь, Авендель Кег-Догрих? Альскье Кег-Догриха свалила не брага, а мой клинок! Я сын Райнара Фин-Диада, сына Эйфгира, сына Лайфе, семени Диада Старого, наш боевой клич – «уоуохир», и сегодня я выплатил кровавый долг убийце моего отца!
* * *
Вальебург заволновалась, услышав, как переменился прежде веселый шум Ангкеима. Сквозь шелковый плат она различала лишь размытые, окрашенные алым силуэты гостей да алое же пламя в очаге. От дыма, проникающего сквозь тонкую хризскую материю, слезились глаза. Обычай предписывал невесте сидеть низко склонив голову, и из-под кромки плата Вальебург видела только свои белые руки в золотых и серебряных запястьях, солому на полу, ноги пирующих да лапы собак, рыскающих по бражному залу в надежде на объедки, точно голодные волки в поисках добычи. От тяжести высокого, усаженного жемчугами и бирюзой головного убора и золотых височных украшений голова Вальебург клонилась еще ниже. Она могла полагаться лишь на свой слух, но в гуле возмущенных голосов было не разобрать слов, а Вальебург и без того с трудом понимала речь гуорхайльцев из-за их странного для ее уха грубоватого выговора. Вальебург сжала похолодевшие руки. Она догадывалась, что в бражном зале свершилось, наконец, то, чего она боялась всю трудную зимнюю дорогу из родного Карна Рохта в Карна Гуорхайль, землю ее жениха: давние враги, сойдясь на свадебный пир, вспомнили старые распри.
Сколько Вальебург себя помнила, ее отец, карнрогг Хендрекка Моргерехт, воевал с Тьярнфи Морлой. Певцы прославляли в хвалебных песнях силу и отвагу предков Хендрекки, без пощады разивших воинов Гургейля, как называли Гуорхайль в ее краях; а старые воины из дружины ее отца вспоминали давние сражения на границе Гуорхайля и Рохта. От руки гуорхайльца пал ее брат Тубаф… Мир, залогом которого должна была стать Вальебург, многим казался чересчур поспешным и непрочным. Так думалось и Вальебург, когда она, притаившись вместе с другими женщинами за узорчатой перегородкой, в тревоге и смятении прислушивалась к разговорам в тронном зале отца.
Тьярнфи Морла, непримиримый враг рохтанцев, желал союза. Он не скупился на подарки, и его посланцы вложили в руки Хендрекке более чем щедрую виру за убийство его сына Тубафа. Карнрогг Хендрекка любил подарки и не любил старшего сына… После того, как посланцы удалились, Нэахт Кег-Райне, побратим и мудрый советник карнрогга, предположил: Морла, верно, хочет вновь добиваться власти над соседним Карна Вилтенайр, которое когда-то уплыло у него из рук, – вот для чего он жаждет покончить с войной на юге. Но Вальебург не вникала в их разговор – до глубины души ее поразило, что посланцы их старого врага говорили не только о мире. Они говорили о сватовстве.
А ведь Вальебург уже отчаялась распрощаться со своим затянувшимся девичеством. Ее тщеславный отец отвергал любых женихов, какими бы достоинствами они ни обладали – ни богатство, ни воинская доблесть, ни высокое рождение не прельщали гордого Хендрекку Моргерехта. Он полагал, что ни один эс не достоин породниться с ним, величайшим карнроггом Трефуйлнгида, если только тот сам не карнрогг или, по меньшей мере, старший сын карнрогга. Раз за разом сваты уходили ни с чем – и в конце концов позабыли дорогу к дому надменного хозяина. Вальебург только и оставалось, что коротать бесконечные, похожие друг на друга дни в девичьей, где уже подрастали ее младшие сестры.
Мачеха Хрискерта, дочь хризского роггайна, сердилась, что из-за засидевшихся в девках старших дочерей муж обделяет подарками ее саму. Накладно держать в доме столько народу! Скоро родные дочери Хрискерты войдут в возраст – что же, и им растрачивать свою красоту в девичьей, дожидаясь, когда выйдут замуж старшие сестры? Быстро выучившая язык мужа, Хрискерта бойко, хоть и с ошибками, высказывала свои опасения и Хендрекке, и побратиму его Нэахту Кег-Райне, и даже, нимало не смущаясь, самой Вальебург, будто это была ее вина. Слушая такие разговоры, Хендрекка хмурился. Его оскорбляло, что карнрогги Трефуйлнгида не спешат нести ему выкуп за честь дочери. Когда истинноверские служители, постоянно толпившиеся у его трона, осторожно завели разговор о знаменитом на всю империю тирванионском монастыре, Хендрекка воскликнул со злостью в голосе: «Что ж, так тому и быть! Если земные карнрогги не желают назвать мою дочь своей женой, пусть она станет невестой карнрогга небесного!» – и Хендрекка размашисто сотворил святое знаменье, сверкнув перстнями на пальцах.
Хризы были довольны. Они наперебой расхваливали Хендрекку за его истинноверское рвение, а своенравный карнрогг, наслаждаясь их лестью, уже и сам верил, что принял свое решение не в сердцах, не из-за уязвленной гордости, а из благородства. Шутка ли – отдать Господу родную дочь! Хендрекка не особенно любил Вальебург, пусть и кичился ее красотой, так похожей на его собственную; карнроггу была по нраву вторая дочь, ласковая Эвойн: она умела подольститься к отцу. Но красноречивые хризы не уставали осыпать Хендрекку похвалами, сравнивая то с одним, то с другим праведником (Хендрекка плохо различал их хризские имена). Да и сам он любил почувствовать себя великодушным. Его духовник, и прежде наставлявший детей карнрогга в истинной вере, со всем усердием принялся готовить Вальебург к ее будущему сладостному служению. Он ставил ей в пример добродетельных женщин, о которых говорилось в его книгах, и живописал радости – не плоти, но духа – что ожидают ее в благодатной тирванионской земле. Вальебург слушала его со вниманием и соглашалась, хоть и страшила ее жизнь в дальнем краю, взаперти, среди чужих женщин и молитв. В детстве она любила поучительные рассказы духовника о чудесах, диковинных тварях, дивных полуденных странах и жизни, столь отличной от жизни эсов, что Вальебург не всё могла понять и охватить разумом. Теперь она старалась укрепить свое сердце и радоваться уготованной ей участи, но вместо этого на глаза Вальебург то и дело наворачивались слезы.
И вдруг – сватовство, замирение с заклятыми врагами, отпертые сундуки с хризскими тканями и дорогой утварью, шутки сестрицы Эвойн, разволновавшейся от всеобщей суеты так, словно это не Вальебург, а ее выдавали замуж… Морла и Хендрекка торопились укрепить свой мир, опасаясь, что он рухнет даже из-за самого малого промедления. Вальебург видела, как многие из элайров отца мрачнели, когда речь заходила о союзе с их старинным врагом, и у нее перехватывало дыхание от страха, что отец и ее нежданный жених вновь рассорятся. Тогда уже ничто не спасет Вальебург от горькой иноческой доли!..
Наспех собрали приданое, наспех запрягли коней, наспех уложили в сани дорожную снедь и тронулись шумной, растянувшейся разноцветным змеем вереницей через заснеженные равнины и замершие в зимнем оцепенении леса – и всё же не успели. На земли эсов опустилась Дунн Скарйада – долгая ночь, когда боги, нечисть и духи умерших ходят в непроглядной тьме Трефуйлнгида и ни одно начинание не кончается добром. Пройдет еще немало дней, прежде чем над верхушками леса вновь взойдет солнце.
Вальебург почти не помнила, как ехала, закутанная в меха, под тяжелым медвежьим одеялом. Помнила только холод, кусающий лицо, и невообразимый, оглушительный гам. Ржали и всхрапывали кони, скрипели полозья, бряцали оружием и перекликались отцовы элайры. Вальебург по-прежнему не верилось, что она покинула дом отца. Она словно резко пробудилась ото сна или вышла на мороз из жарко натопленного покоя. Всё вокруг было таким ярким, шумным, незнакомым! Вальебург вспомнилась давняя поездка в Бедар-ки-Ллата, владение Нэахта, – тогда мать была жива, а сама Вальебург, ее сестра и братья, совсем еще дети, играли и ссорились всю дорогу. Как весело им было! Да и сейчас Вальебург весело – верно, это от радости так бьется ее сердце.
Они добрались до усадьбы гуорхайльского карнрогга в первый день Дунн Скарйады. Прямо с саней Вальебург повели убирать для свадьбы – она успела увидеть лишь длинное крутоверхое строение, похожее на отцовские житницы, только много, много больше; скопище черных хозяйственных построек вокруг; высокую крепостную стену и множество эсов, которые вышли встречать гостей. Пока женщины вели Вальебург через двор, она всё озиралась, гадая, кто из этих мужчин – ее будущий хозяин. Но в сумерках Дунн Скарйады каждый из них был похож на другого, а Вальебург стыдилась спрашивать о своем женихе у женщин из дома Морлы.
И вот теперь она сидит с закрытым лицом, низко опустив голову, и из-за красного плата всё видится ей в кровавом свете. Вальебург с тоской думала, что это недобрый знак. А еще, вслушиваясь в гул голосов, Вальебург сказала себе, что недаром никто не справляет свадьбы в зловещую пору Дунн Скарйады.
– Ради долгожданного мира я отказался от мести за любимого сына, наследника моего меча, – услышала Вальебург голос отца. – Неужто твой фольдхер стоит дороже сына карнрогга, о Тьеберн, сын Ульфданга? Ты призывал Виату, уверяя меня в своей дружбе. А теперь человек из твоего дома убивает моего элайра, славного Альскье Кег-Догриха! Если он так поступил с твоего дозволения, то что за мир ты мне продал? Если же он совершил бесчестное убийство по собственному почину, то что ты за карнрогг, раз твоего слова не слушаются даже твои домочадцы?
Хендрекка говорил смело и хорошо, так, как привык говорить перед своими элайрами, открывая им свою волю или вдохновляя перед битвой. Когда он заговорил, другие невольно замолкли – и звучный, красивый голос Хендрекки разнесся по всему бражному залу. Вальебург похолодела. Она угадывала, что дело идет к кровопролитью. Она знала Альскье Кег-Догриха, знала, что тот был смел на пиру, но ленив в сече, и отец не слишком его ценил; но знала она и то, что карнрогг Хендрекка Моргерехт из гордости не простит людям Морлы убийство своего дружинника. Ибо господин защищает своих элайров так же, как они защищают его – так велит эсам древний Закон.
Вальебург не могла видеть того, что происходило у стола. Она услыхала металлический звон и вздрогнула, приняв его за звон оружия. Но то был всего лишь нож, которым Морла разделывал бычью тушу – гуорхайльский карнрогг бросил его на стол и посмотрел на Хендрекку. Из-за старой раны у Морлы не двигалась шея, оттого ему пришлось повернуться всем телом.
– Высокородный мой тесть, – произнес он хрипло – Вальебург впервые расслышала голос своего жениха, – не гневись понапрасну и не омрачай нашего радостного пира. Отныне ты мой родич, мой друг, мой почтенный отец. В любой распре я на твоей стороне, – Морла злился, но не позволял ярости взять нас собой верх. Он говорил ровно и даже с некоторой теплотой, только одно его тонкое, покрытое красноватой сетью сосудов, заостренное ухо слегка подергивалось. Звякали мелкие бронзовые серьги. – Не будем ссориться, – продолжал Морла. – Мир между нашими домами достался нам, родич, дорогой ценой. Назначь виру за твоего элайра – и я выплачу ее, какой бы большой она ни была. А убийца… Убийцу я объявляю вне закона на моей земле, – он поднялся на возвышение, где стояло карнроггское кресло, обвел взглядом притихшую толпу и, выпрямившись – обычно Морла немного сутулился, – возгласил: – Пусть услышит мою волю каждый свободный эс, раб или женщина! С этого дня и до Последнего Рассвета никто не должен помогать Эадану, сыну фольдхера Райнара, давать ему пищу, кров или указывать путь. Тот же, кто посмеет ослушаться, сам будет объявлен вне закона и станет таким же бесславным изгнанником. Вот мое слово.
Люди Хендрекки одобрительно загудели. Они убедились, что карнрогг Тьеберн мудр и справедлив, пусть и был долгое время их заклятым врагом. Видно, не зря их господин поспешил породниться с Морлой и заключить союз с Карна Гургейль. Суровость, с которой Морла судил своего домочадца, восхитила южан. Так и надлежит поступать достойному правителю. Их прежняя неприязнь к гуорхайльцам поутихла; родичи невесты – даже те, кто прежде не одобрял союза с Морлой – уже с большей охотой сели за пир. Не веселился лишь Авендель Кег-Догрих: выкуп за смерть Альскье достался Хендрекке, а не ему.
Тело Альскье вынесли на двор, чтобы оно не начало смердеть в тепле бражного зала. Хендрекка сказал, поднимая турий рог: «Что за свадьба без кровопролития?» – и его люди рассмеялись. Смеялись и гости из Руда-Моддур, Вилтенайра и Фальгрилата, но лица элайров Морлы потемнели. Им не было дела до Эадана, сироты без родни и имущества, но их покоробило, что Морла с такой легкостью уступил Хендрекке своего человека. Что, если завтра южане затеют ссору с одним из них, дружинников Морлы? Что же, и тогда Морла пойдет на поводу у своего новоявленного тестя, позабыв заслуги воинов Гуорхайля? Многие стали вспоминать, что фольдхер Райнар, отец Эадана, был отважным элайром и до саней Орнара верой и правдой служил карнроггу Морле. Разве Эадан не был в своем праве, когда отомстил убийце отца? И разве не следовало Морле принять в этом споре его сторону, а не сторону южан, давних врагов Гуорхайля? Карнрогг должен защищать своих элайров так же, как они защищают его – таков древний Закон! Переменился их господин: пренебрегает ими, своими преданными воинами и земляками, в угоду Пучеглазому. Из страха перед своим карнроггом они промолчали, когда Морла изгонял Эадана из родного карна, и ни один из них не встал на его защиту. Теперь же, когда дело было сделано, всякий желал показать себя достойным сыном Орнара и говорил другому, что карнрогг Тьярнфи поступил дурно. Поправ Закон, он навлекает на себя и своих людей гнев богов!
Старший сын Морлы Ульфданг слушал эти разговоры и печалился. Не в первый раз приходилось ему слышать, как отца называют недостойным сыном Орнара и дурным владыкой, и в глубине души Ульфданг знал, что людская молва не лжет. Его отец, которого Ульфданг, как и подобает почтительному сыну, любил всем сердцем, частенько совершал то, что расходилось с древним Законом и честью свободного эса. Это ранило Ульфданга, недаром прозванного Честным. Могучий воин, не знающий страха, верный сын Орнара, истинный герой Трефуйлнгида, всю свою жизнь Ульфданг стремился поступать так, как велит ему честь. Никогда не прекословил он отцу и не осуждал его вслух, но втайне страдал, что Тьярнфи Морла совсем не похож на благородных карнроггов из песен. Отец говорил, что Ульфданг унаследовал мягкий нрав матери, доброй Ванайре. Давно, когда Ульфданг был еще молод, отец хотел объявить наследником второго сына, Ниффеля, ибо знал, что для честного Ульфданга тяжки будут отцовский меч и отцовская власть. Тогда Ульфданг видел свою жизнь прямой и белой: блистающая дорога подвигов, которой он пройдет плечом к плечу со своим побратимом, и славная гибель в конце пути. Ибо достойная память – лучшая награда для воина… Но после брату Ниффелю пришлось обещать себя Безглазой Женщине, ужасной повелительнице преисподней, и Морла снова назвал наследником Ульфданга. Часто отец с тревогой и жалостью смотрел на старшего сына, прозревая, что нелегко ему будет удержать меч Гуорхайль; а сам Ульфданг мрачнел, представляя свое будущее правление. Неужто и ему придется лгать, нарушать клятвы и совершать подлости во благо рода, подобно другим карнроггам?
Отец сговорился с Хендреккой идти на Карна Вилтенайр, как только минет Дунн Скарйада. Ульфданг убеждал себя, что дело это достойное: в конце концов, Тьярнфи Морла был побратимом сына старого карнрогга Атенгела Хада и потому обладает куда большим правом на меч Вилтенайр, чем нагулыш Вульфсти, рожденный от рабыни. Но ради мира с Хендреккой отец не задумываясь пожертвовал своим человеком, выросшим в его доме, сыном своего элайра… Эадан поступил недостойно, учинив смертоубийство на пиру у своего господина – но Морла совершил еще худшее злодеяние, несправедливо объявив его вне закона. Ульфданг знал не понаслышке, каково быть изгнанником. Он родился в ту пору, когда отец сам жил на чужбине, в Карна Вилтенайр, а в родном Гуорхайле хозяйничали алчные родственники Морлы, оттеснившие молодого карнрогга от власти. И пусть Атенгел Хад, правитель Вилтенайра, отнесся к Тьярнфи Морле благосклонно и даже устроил ему женитьбу на своей воспитаннице Ванайре, Ульфданг помнил, как нелегко им жилось в чужом доме, среди чужих людей. До сих пор отец с горечью вспоминал свое изгнание – правда, добровольное – и обиды, что мальчишкой он претерпел от бесчестных родичей.
Каддгар Гурсобойца, молочный брат Ульфданга, заглянул ему в лицо. Верный побратим словно бы почувствовал печаль Ульфданга и положил руку ему на плечо, ободряя и утешая без слов. Могучий Каддгар, сын хозяйки Карна Баэф Тагрнбоды, был неразговорчив, как и его сестра Атта, жена Ульфданга. В их дружбе обычно говорил Ульфданг, а Каддгар молчал. С младенчества они были неразлучны: после гибели карнрогга Гройне Ондвунна его жена Тагрнбода прислала Каддгара в Карна Вилтенайр заложником, и Тьярнфи и Ванайре взяли его к себе на воспитание. После, когда Морла вернулся в родной Гуорхайль, Каддгар последовал туда за своим побратимом. Да и некуда ему было идти: мать не торопилась отдавать сыну Баэф, его наследство. Каддгар давно уже стал зрелым мужем и героем Трефуйлнгида; он совершил подвиг, отомстив гурсу Громовому Рыку за смерть отца. Но Тагрнбода крепко держала в руках свое владение, а Каддгар и не добивался его, предпочитая карнроггской власти вольную жизнь воина.
Люди говорили, что Ульфданг напрасно женился на сестре своего побратима, слепой Атте, ибо перед богами это кровосмешение; недаром же их брак оказался бесплодным. Сватая дочь Хендрекки, Морла поначалу хотел, чтобы Ульфданг объявил о разводе с Аттой и женился на Вальебург. Ульфданг отказался. Он не испытывал любви к жене, слепой и угрюмой, равнодушной ко всем вокруг, даже к собственным родичам, – Атта была Говорящей с богами; но разводом с нею Ульфданг нанес бы обиду Каддгару. Сейчас он смотрел на Атту, сидевшую у противоположной стены на женской скамье, и раздумывал, правильно ли поступил, ослушавшись отца. Никто не женится на Говорящих с богами. Во всем похожая на брата – такая же сильная, костистая, черноволосая, с грубым скуластым лицом – Атта всё же казалась Ульфдангу незнакомой и устрашающей. Ее глаза были закрыты, голова – приподнята, словно она вслушивалась в шепот богов, на коленях лежали когтистые, как у ведьмы или мужчины, руки. Ульфданг ее побаивался. Ему вновь подумалось, не легче ли ему было бы с обычной, земной женой, которая слушала бы мужа, а не богов?
Вдруг Атта, будто прочитав его мысли – а может, так оно и было – поднялась со скамьи. Медленно, по-прежнему с опущенными веками, она прошла сквозь толпу, двигаясь как во сне. Эсы почтительно расступались перед нею: всем было известно, что в доме Морлы живет Говорящая с богами, унаследовавшая свой дар от деда, карнрогга-ведуна Тельри Хегирика. Очутившись у возвышения, Атта остановилась перед креслом Морлы так же внезапно, как до того встала на ноги – точно чья-то невидимая рука дернула ее назад. В бражном зале смолкли все голоса. Гуорхайльцы смотрели на Атту испуганно, гости – с благоговением и одновременно с любопытством: им хотелось воочию убедиться в ее великой колдовской силе. То-то позавидуют им родичи, когда они вернутся в свои карна и расскажут, что довелось им увидеть в Ангкеиме!
Обратив ничего не выражающее лицо к карнроггу Морле, Атта распахнула мутные слепые глаза. Она заговорила другим, гулким и грозным голосом, какой рождался в ней, когда ее устами вещали всемогущие боги, Рогатые Повелители. В зловещей тишине Атта сказала свое пророчество:
– Мужайся, о Тьярнфи Морла! Рогатые повернулись к Карна Гуорхайль. Духи предков повернулись к Карна Гуорхайль! Они смотрят на твой Дом – на твой Дом и на Эадана Фин-Диада – и будут смотреть и не сводить глаз, покуда не иссякнет Дунн Скарйада и не настанет конец великой ночи. Судьба твоего карна и твоего потомства вершится сейчас – мужайся!
Глава 2
Эадан вышел из Ангкеима и, кутаясь в овчину, побрел прочь. Было так темно, что баня, конюшни, житницы и хлева, крепкая крепостная стена, опоясывающая усадьбу карнрогга, кромка леса и истоптанный почерневший снег сливались друг с другом. Какое-то время Эадан шел почти наугад, полагаясь на свой нюх. В нос ему ударял то теплый запах скота, то аромат жареного мяса, доносящийся из бражного зала, то острый, терпкий дух лошадей. В холодную ночь Дунн Скарйады даже огромных злых волкодавов, обычно рыскавших по двору, впустили в дом, и вокруг Эадана не было ни души.
Постепенно он привык к темноте; его глаза тускло засветились во мраке. Приблизившись к воротам, Эадан остановился, высматривая стражников. Но те куда-то запропастились – видать, тоже зашли в бражный зал, чтобы отогреться, поглазеть на знатных гостей и перехватить что-нибудь от пиршественного стола. Эадану пришлось самому налечь на ворота. Наконец одна створка подалась, и Эадан протиснулся в узкий проем.
Он оперся спиной о ворота, переводя дух и озираясь по сторонам. Ледяной воздух обжигал легкие. Летел мелкий, редкий снег, оседая на заячьей шапке Эадана, облезлой от старости. Эадан размышлял, как ему теперь быть. Всю свою жизнь он провел в доме Морлы, среди его сыновей и элайров, их жен, рабов и приживальщиков. Эадан поднимался, ел, ходил на охоту, пас лошадей, смотрел за скотиной и ложился спать вместе со множеством других эсов – и никогда не был один. Даже если на охоте Эадану изменяла удача, ему не приходилось думать, что поесть и во что одеться – всегда находился тот, кто поделится едой или передарит поношенную одежду. Как и большинство молодых эсов, выросших в этот год, он сдружился с Мадге, весельчаком и смутьяном. Шумной ватагой они разгуливали по окрестным хуторам и затевали разные шутки, подчас небезобидные. Эадану нравилось такое житье. Он давно уже выучился держать себя с теми, кто выше него, почтительно, а с теми, кто ниже – с достоинством, но без высокомерия, и в Карна Гуорхайль его любили. Эадан не сомневался, что однажды станет элайром Тьярнфи Морлы, как его отец Райнар. Тогда-то Эадан заживет лучше прежнего: будет садиться за стол вместе с другими элайрами, ходить в походы и добывать себе славу и богатство в сражениях. Жизнь элайра привольна. Сколько раз, наблюдая, как Морла одаривает своих дружинников мехами, оружием или четвертинами нашейных колец, Эадан завидовал им и мечтал, как скоро и сам будет принимать из рук карнрогга подарки и целовать полу его одежд в знак уважения.
И вот всё исчезло – «унеслось на слепых конях ночи», как поется в печальных песнях об одиноких скитальцах, растерявших свою родню и все свое достояние. Слушая их, воины Дома Морлы растроганно стенают и плачут – но никто из них не стал бы помогать настоящему изгнаннику, одинокому и презираемому всеми. Нет ничего хуже и постыднее этой доли. Эадан смотрел на мрачную стену леса перед собою, смаргивая с ресниц снежинки и непрошеные слезы, и ему не верилось, что то, о чем пелось в песнях и говорилось в былях о героях, произошло с ним самим. Рассказывают, предки Хендрекки Моргерехта и всей знати Карна Рохта тоже были изгнанниками. Правитель Карна Ванарих, давно исчезнувшего карна, прогнал своего мятежного элайра Эрдира Кег-Ньордру и его людей на юг, к самой границе Трефуйлнгида. Они пришли туда, поработили народец, там обитающий, и объявили эту землю своим карна. С тех пор правители Карна Рохта носят имя Моргерехт, что значит «изгнанник». Но то было давно, в незапамятные времена чудес и героев, и далекая слава Эрдира Моргерехта не утешала Эадана. Ибо отправившись в изгнание без коня, припасов и оружия, да еще и в гиблую пору Дунн Скарйады, Эадан вернее найдет не высокое кресло карнрогга, а бесславную смерть.
В Дунн Скарйаду ужасная богиня Тааль, которую называли Безглазой Женщиной, чтобы не произносить вслух ее настоящее имя, носится верхом на белоглазом, клыкастом олене с двенадцатью рогами и змеиным хвостом, и хватает всех, кто попадется ей на пути – а после эсы находят несчастных, что замерзли насмерть в объятиях Тааль. Нечисть выходит из болот и чащоб, подходит к самым жилищам эсов и кричит на разные голоса, а воины Орнара, духи павших воинов, седлают снежные ветры и летают над Трефуйлнгидом, оглашая тишину воинственными кличами… Эадан вздрогнул – не то от страха, не то просто от холода. Дунн Скарйада – лучшее время для колдовства, но худшее – для странствий; а Эадану предстоял долгий путь.
Он решил пробираться в Руда-Моддур, владение Гунвара Эорамайна, куда испокон веку бежали изгнанники из Карна Гуорхайль. Когда сын Морлы Ангррод, одолев в поединках сыновей Ингрима Датзинге, выгнал их, законных властителей Карна Тидд, из их собственной земли, они ушли к карнроггу Эорамайну. Быть может, он приютит и Эадана… Зима удлиняет любую дорогу, а путь к Руда-Моддур и без того не близок. Эадан не слишком надеялся, что сумеет добраться туда живым. Среди юношей Карна Гуорхайль он слыл сильным и ловким, часто одерживал верх в играх и мог в одиночку справиться с необъезженным жеребцом, но куда ему тягаться с великой зимой Трефуйлнгида!
Эадан опять вздрогнул. Поначалу, согревшись в жарко натопленном Ангкеиме, он не мерз, но теперь мороз начал проникать сквозь слои одежды и касался его тела ледяными пальцами. Эадану подумалось, что стоит ему помедлить еще немного – и он замерзнет насмерть прямо здесь, у ворот карнроггской усадьбы. Он плотнее запахнул овчину, надвинул шапку пониже и зашагал вперед по хрусткому снегу – быстро, чтобы согреться. Лес и заснеженные поля были серы, небо – черно. Ничто не шевелилось вокруг – даже зверье, спасаясь от холода, забилось в свои норы. Только сова аръюн, предвестница несчастий, тоскливо ухала в тишине.
Вскоре в темноте показались неясные очертания домов. Хутор Скеги Фин-Турстейна – узнал Эадан. Он едва дышал из-за бьющего в лицо холодного ветра, замерз, а идти по снегу без лыж в такую даль было нелегко – и Эадан приостановился, с сомнением глядя на хутор Скеги. Он мог бы выпросить у тамошних людей какой-нибудь еды в дорогу или, на худой конец, просто согреться у огня… Но эсы, живущие неподалеку от карнроггской усадьбы, жили от милостей Морлы и слишком боялись его, чтобы принимать тех, кого карнрогг объявил вне закона. Они скорей убьют Эадана и пойдут в Ангкеим в надежде на награду, чем станут его кормить – тем более, в голодную зимнюю пору, когда каждый – будь то богатый господин или безземельный работник – страшится не дожить до весны. Эадан не знал, дошла ли весть о его изгнании до хутора Скеги – вряд ли кому-нибудь из пирующих у Морлы пришло бы в голову уйти в разгар празднования и потащиться через снег и мороз к хутору, пусть даже и ближнему. Но люди Скеги и без того могут догадаться, что за нужда заставила Эадана выйти в путь, когда даже беспечные бродяги стараются выпросить себе место у очага. Эадан отвернулся от хутора. Ему подумалось, что безопаснее всего уйти от усадьбы карнрогга как можно дальше и попытать счастья на восточных хуторах, больших и богатых, где люди привыкли жить своим умом и полагаться на себя, а не на милость и защиту Морлы. Там, говорят, каждый фольдхер мнит себя карнроггом на своей земле… Прибавив шагу, Эадан миновал хутор Скеги и сошел с широкой дороги, углубляясь в лес.
Он хорошо знал эту часть леса. Даже зимой он нередко охотился здесь с луком и стрелами или расставлял силки, но никогда прежде не входил сюда в Дунн Скарйаду. Эадану было не по себе. Он пробирался знакомым путем меж высоких, закованных в морозный доспех сосен, стараясь глядеть себе под ноги, а не по сторонам – что, если за стволами, за поваленными деревьями, во тьме мелькнет чья-то ухмыляющаяся морда? Прежде лесным хозяевам не за что было гневаться на Эадана: он всегда оставлял угощение и Старшим, и Младшим; кланялся, входя в лес, и произносил слова благодарности, уходя с добычей; в положенные дни вместе с другими домочадцами Морлы приносил дары на болотах… Но великой ночью Дунн Скарйады эсам не место в лесу, где начинается веселье нечисти – это ее вотчина, владения Ку-Круха и Ддава и младших их родичей, духов деревьев, озер и болот. В другие дни они отступают в непролазные чащобы, таятся в болотных трясинах, сидят на дне гибельных омутов и ждут, ждут Дунн Скарйады, чтобы вновь завладеть отнятой у них землей. И вот когда на Трефуйлнгид опускается долгая ночь, они выходят из своих укрытий, справляют свадьбы и решают давние свои споры; потому-то старые люди говорят о снежной буре, что это Ку-Крух и Ддав ссорятся друг с другом.
В лесу было тихо – даже ветер, свистящий на равнине, здесь словно бы запутывался в ветвях и умирал. Идти стало труднее: приходилось перебираться через бурелом, петлять меж стволов, а иногда с ветвей обрушивались тяжелые снежные комья, будто кто-то злокозненный подшучивал над Эаданом. Снег набивался за шиворот и таял, стекая по спине. Чем больше Эадан углублялся в чащу, тем темнее становилось. Он уже едва различал тропу, а его глаза загорелись так ярко, что Эадан испугался: теперь даже в кромешной тьме его легко заприметят. Конечно, мало кто отважится войти в лес в такую пору, но сейчас, потерянный во мраке, среди угрюмых сосен, скрипов и неясных шепотков за спиной, Эадан боялся не только и не столько врагов из плоти и крови.
Долгое время он шел, ведомый лишь чутьем, свойственным всем эсам. Наконец он завидел свет – даже не свет, а слабое мерцание, подобное призрачному блеску снега. И правда, перебравшись через гнилой остов дерева и проскользнув под ветвями другого, Эадан увидел большую заснеженную поляну, сияющую в сравнении с темнотой, из которой Эадан вынырнул. Он прищурился, давая глазам привыкнуть к изменившемуся свету – вернее, к изменившейся тьме. Эадан вспомнил, что уже не раз бывал тут, на Полянах Лайса Тиана; значит, скоро будет опушка, новая дорога и холмы, за которыми начинаются пастбища Тьёгена Фин-Гебайра. Эадан приободрился. Где-то в глубине души его одолевали сомнения: слишком уж скоро он добрался до Тианских полян; но разве в Дунн Скарйаду, когда нет ни солнца, ни звезд, возможно измерить, как долго ты в пути? Глаза и руки Эадана болели от холода, а всё тело ломило от усталости, и ему и правда казалось, что он идет уже очень, очень долго.
Лес редел, уступая густому колючему кустарнику – Эадан обдирал руки и раздирал и без того уже рваную овчину, пробираясь через него. Заснеженная земля круто спускалась вниз, из-за чего приходилось больше бежать, чем идти. Воздух изменился: прежде пахло снегом, хвоей и немного – гнилью, теперь же гнилостный дух стал гуще, и мороз уже не заглушал его. Эадан помедлил с мгновение, принюхиваясь к насторожившему его запаху. Теперь он начал замечать, что деревья, росшие у края поляны, не похожи на деревья вокруг Лайса Тиана, да и кусты там – Эадан помнил – росли не так густо. Снег под ногами уже не хрустел, а хлюпал, и, оглянувшись, Эадан обнаружил, что его следы наливаются водой. Он давно уже дрожал от холода так, что зуб на зуб не попадал, но тут от внезапной догадки его бросило в жар. Сам того не заметив, Эадан забрел в самое сердце леса – на болото Мундейре. Зеленолицые, черногубые элайры Ддава выходят отсюда с факелами в руках – это их призрачные огни блуждают на болоте – и утаскивают на дно всех, кто посмеет явиться без приглашения во владения их ужасного господина. Перед началом Дунн Скарйады Эадан приходил сюда с дарами – он вмиг вспомнил и деревья эти, и кустарник, и болото, из-за снега кажущееся безобидной поляной. Вот куда завела его коварная нечисть! Эадан содрогнулся. Еще шаг или два – и им завладела бы трясина, из которой еще никому не удавалось спастись. Он повернул назад, спеша выбраться из гиблого этого места, – и вдруг почувствовал, что проваливается.
Эадан шагнул в сторону – почти отскочил – но одна его нога увязла, словно бы кто-то ухватился за нее цепкими лапами. С усилием Эадан выдернул ногу… И тут кочка, на которой он очутился, тоже подалась вниз. Эадан принялся озираться – кустарник, окаймляющий болото, темнел неподалеку, но между ним и Эаданом уже разливалась болотная чернота. Прежде он шел почти наугад и оттого теперь не мог припомнить, как именно спустился сюда; а между тем один неверный шаг – и ему конец… Гуорхайльцы, не в пример эсам из далекого северного Унутринга, не умели ходить по болотам; пуще смерти они боялись их и верили, что каждого, кого судьба занесла на болото, ждет неминуемая гибель. Эадана охватило смятение. В голове всё путалось; он то впадал в оцепенение, то начинал прыгать с кочки на кочку, уже не замечая, что вместо того, чтобы пробираться к берегу, углубляется в болото. Его сапоги набрали воды, переставлять ноги стало еще труднее. Неожиданно справа от Эадана, совсем близко, что-то заклокотало, забурлило и с громким всплеском вырвалось из-под тонкого слоя снега. Эадан невольно отпрянул… Его правая нога не нашла опоры – он потерял равновесие, покачнулся и рухнул в трясину.
На одно страшное мгновение Эадан с головой погрузился в теплую болотную жижу. Сразу же вынырнул, задыхаясь, отчаянно молотя руками и ногами, чувствуя, как намокшая одежда тянет обратно. Из-за темноты и воды, резавшей глаза, Эадан почти ничего не видел; на ощупь он пытался отыскать хоть что-то, за что можно ухватиться. Один раз его пальцы скользнули по чему-то твердому, вроде камня, но Эадан потерял его прежде, чем успел осознать. Он закричал, захлебываясь болотной водой, и с еще большим остервенением принялся рваться из хваткой трясины. Вновь под ладонью оказался тот камень – теперь уж Эадан вцепился в него изо всех сил. Он протянул руку дальше и ощутил пальцами влажный, мягкий мох; сорвался, вновь подтянулся, скребя когтями по мху… и, тяжело дыша, повалился грудью на каменный выступ.
Эадан все еще был по пояс в болоте: у него недоставало сил вылезти полностью. Камень под ним тоже оказался теплым. Эадан погладил его, будто живое существо. Впереди, насколько Эадан мог различить в темноте, простирался все тот же мшистый камень. Собравшись с силами, Эадан рванулся вперед и выполз на камень. Он полежал немного, успокаивая дыхание, потом поднялся – ноги дрожали – и побрел, надеясь, что камень выведет его из болота. Эадан не знал, что станет делать в лесу – он никогда не бывал по ту сторону Мундейре; не знал, как найдет дорогу к восточным хуторам. Его одежды промокли насквозь, он потерял шапку и овчину в болоте, в сапогах хлюпала вода – и мрачно Эадан думал о том, что, избегнув смерти в теплой трясине, он примет смерть от гибельного холода в лесу.
Впереди показалось нечто темное, лишь слегка посеребренное снегом – верно, снег здесь таял. Приблизившись, Эадан увидел земляную насыпь с отверстием, таким узким, что в него едва мог протиснуться взрослый мужчина. Опустившись на четвереньки, Эадан заглянул внутрь и ничего не увидел, зато учуял едкий запах дыма. Совсем недавно здесь разжигали огонь. Эадан вздрогнул при мысли о том, кто мог подниматься сюда из зловещего болота Мундейре и готовить неведомо какую пищу в землянке, подозрительно похожей на могильный холм. Но из отверстия дышало теплом, а Эадан обессилел после сражения с трясиной и совсем замерз… Призвав на помощь всю свою смелость, он просунул руку в отверстие и, пошарив в пустоте, нащупал веревочную лестницу.
Когда Эадан спустился, на всякий случай держа в зубах нож, его встретила мертвая тишина. Он замер у лестницы, прислушиваясь. Ни шороха, ни звука дыхания. Если тут и был кто-то живой («Или неживой», – со страхом подумал Эадан), то он покинул это место. Переложив нож в правую руку и вытянув руки перед собой, Эадан осторожно пошел вперед. После каждого удара сердца он ожидал, что пол под ним разверзнется и он вновь окажется в болоте, а землянка эта и запах костра – лишь наваждение, насланное сынами Ддава. Но землянка никуда не исчезала, а через несколько шагов Эадан разглядел в темноте чуть тлеющие угли. Эадан бросился к ним.
Он надеялся раздуть огонь; тогда можно будет обсушить одежду, согреться и, если повезет, хотя бы немного поспать в тепле, пока не вернулся таинственный хозяин землянки. Присев на корточки, Эадан склонился над углями и принялся раздувать их. Угли заалели ярче. К лицу Эадана поднялись струйки дыма; появился первый, пока еще крохотный лепесток пламени. Эадан заулыбался, гордясь своей победой. За холодом, за пережитым на Мундейре страхом смерти, за этим слабым огоньком, столь драгоценным сейчас, поблекли и затерялись в памяти и унижение в Ангкеиме, и изгнание. Так же, как благодатным летом Эадан забывал о тяготах зимы, а в урожайные годы – о годах голодных, теперь он забыл о постигшем его несчастье и радовался огню и теплу. Устроившись на голом каменном полу и положив нож рядом с собой, Эадан стянул с ног сапоги, снял промокшую, липнущую к телу одежду и улегся у огня.
Отблески пламени метались вокруг, как живые. Они порождали тени, но Эадан слишком устал, чтобы бояться. В конце концов, Ддав не выпустил бы его из Мундейре, если бы желал ему смерти. Разморенный теплом, Эадан начал засыпать… И вдруг проснулся. Вокруг ничего не изменилось – ничего из того, что можно было увидеть или услышать – но всем своим существом Эадан ощутил, что тишина стала иной, а темнота всколыхнулась, приняв в себя кого-то еще. Эадан схватил нож. Он обернулся, занося руку – и в тот же миг на него обрушился удар.
Эадан опрокинулся на спину. С изумлением он смотрел, как на глаза наползает багровая пелена. Он попытался встать и не смог. Что-то потекло по лицу, из разбитого лба; Эадан заморгал, все так же удивляясь: что это, кровь? Боли он не чувствовал. Еще никому не удавалось подкрасться к нему незамеченным… Пальцы, холодные, как у самой Тааль, ухватили Эадана за ноги и потянули куда-то. Он понял: его тащат обратно в болото. Элайры Ддава вышли из Мундейре со своими призрачными факелами и утаскивают его обратно в болото. «От них не вырваться», – подумал Эадан – и черная трясина сомкнулась над ним.
Глава 3
Чье-то дыхание касалось его лица – первое, что Эадан ощутил после черноты и тишины беспамятства. Он лежал на теплом каменном полу; было душно, пахло болотом и дымом. В голове нарастал гул – пульсируя, он приближался, становился громче, громче, громче… Эадан застонал. Он вспомнил трясину Мундейре, как он тонул в омерзительно-теплой густой жиже, а дальше – ничего. Во рту все еще стоял отвратительный привкус болотной воды, смешиваясь со вкусом крови. Нечто влажное, липкое – руки, а быть может, губы – касалось его лица и голого тела. Эадану пришло на ум, что он, верно, лежит на дне Мундейре и рабыни Ддава, утопленницы с растрепанными волосами и мутными мертвыми глазами, целуют его. Они прижимались к нему и обвивали руками его шею. «Ну уж нет, проклятые мертвячки, я еще жив!» – крикнул им Эадан, но не услышал своего голоса. Он взбрыкнул, вырываясь из гибельных объятий, – утопленница глухо охнула и исчезла в пучине – и Эадан бросился бежать.
Тело не слушалось, Эадан двигался медленно, неуклюже – наверное, так и бывает, когда ты во владениях Ддава. Уже отбежав, как ему думалось, на порядочное расстояние, он обнаружил, что на самом деле ползет на четвереньках. Теперь Эадан видел, что, спасаясь от утопленниц, забрался в чье-то жилище: пол был каменным, а стены и свод – земляными, и на стенах плясали красные отблески пламени. Он уже был здесь, вспомнил Эадан, – был, когда выбрался из болота; да, он не утонул тогда в Мундейре, а выбрался на теплый мшистый камень и нашел землянку, а потом… Эадан наклонил голову, дожидаясь, когда голова перестанет кружиться и стены, плавающие перед глазами из стороны в сторону, остановятся.
Позади он слышал тяжелое дыхание и стоны – дрожащие, жалобные, оттого еще более жуткие. Существо, которое он ударил ногой, скорчилось в темноте. Эадан испугался. Его рука метнулась к поясу, где в кожаных ножнах висел нож, но ни ножен, ни пояса, ни даже одежды на нем не оказалось; да и поможет ли обыкновенное оружие против кого-то из Младших? Эадан впился взглядом в фигуру за кругом света от костра. Тварь казалась хилой, и ростом была куда ниже Эадана, но кто знает, каковы ее темные колдовские силы… Что она там делает? Затаилась во мраке и выжидает… Хочет, чтобы Эадан подошел к ней. Тогда болотная тварь бросится на него и задушит. «Не дождешься, Ддавово отродье», – мрачно подумал Эадан, отползая еще дальше. Вдруг пол закончился – и Эадан, перекувыркнувшись, грохнулся спиной о камень.
Со страху ему почудилось, что он рухнул в бездну, но когда он приподнял звенящую от боли голову и взглянул вверх, то понял, что свалился с невысокого приступка. Под руками что-то скользило и перекатывалось. Свет костра здесь тускнел, но даже в сумраке Эадан разглядел немыслимые сокровища: бронзовые умывальные чаши, железные тазы, кубки, кувшины и блюда, большие котлы и крючья для них, стальные пластины, упавшие с истлевших от времени кожаных рубах, золотые и серебряные нашейные кольца… А на возвышении, среди обломков сгнившего дерева – когда-то они были высоким карнроггским креслом – белела груда костей.
Сердце Эадана забилось чаще. Он вмиг сообразил, что землянка, напомнившая ему могильный холм, и впрямь оказалась могильником, а тварь, что напала на него – не нежить из болота, а могильный житель, охраняющий сокровища. Все знают, что если сумеешь убить могильного жителя, все сокровища достанутся тебе… Эадан не смог сдержать довольного смеха. Видел бы его сейчас Мадге! Вот бы он восхитился и позавидовал! Не каждому доведется найти могилу, полную сокровищ… Эадан повертел головой, прикидывая, чем бы убить могильного жителя. Он так радовался неожиданной удаче, что не сомневался в победе; даже страх перед нечистью на время его отпустил.
Прислушиваясь к всхлипам, доносившимся из темноты, Эадан взвесил в руке тяжелый позолоченный кубок. Жаль бить его о череп могильного жителя – вдруг на кубке останется вмятина? Эадан уже поставил ногу на приступок, когда ему на глаза попался удивительный меч. Клинок его был светел и чист, и украшен магическими знаками, дарующими удачу в сражении; а на рукояти, пусть и простой, поблескивал крупный змеиный камень. Несомненно, то было волшебное, заговоренное оружие, раз его не тронула ржавчина, – наверняка лишь этим оружием можно сразить могильного жителя. Отложив кубок, Эадан поднял меч обеими руками. У него по-прежнему кружилась голова, но меч словно бы вливал в него свою древнюю силу. С благоговением Эадан подумал, что благородный этот клинок принадлежал, верно, тому самому карнроггу, которого погребли здесь с такой расточительной пышностью.
«Отец Орнар, – скороговоркой пробормотал Эадан начало заклинания, – и вы, мои славные предки, Райнар, Эйфгир, Лайфе и Диад Старый, прошу вас, даруйте…» Могильный житель затих – Эадан слышал только его прерывистое, со свистом, дыхание. Эадан напрягал зрение, всматриваясь в сумрак; глаза слезились от дыма. Опять накатил страх. Эадан заново начал свое заклинание – уже не вслух, а мысленно – и пошел во тьму. Чтобы покончить с могильным жителем, нужно отрубить ему голову и приложить голову к его ногам, иначе нежить восстанет вновь. Занеся меч, Эадан приблизился к нему, стараясь ступать как можно тише, однако тот насторожился, отпрянул и, взвившись на ноги, метнулся прочь. Эадан кинулся за ним.
Могильный житель бежал прихрамывая, какими-то нелепыми скачками, на бегу подтягивая приспущенные штаны – Эадан без труда догнал бы его, если бы сам не пошатывался от слабости. Преодолевая боль и гул в ушах, Эадан успел ухватить его за ногу, когда тот уже карабкался по веревочной лестнице, – оба повисли, соскальзывая вниз вместе с лестницей, и, наконец, свалились. Могильный житель оказался сверху; он было вырвался, но Эадан поймал его за шиворот и бросил на пол, поражаясь, какой он легкий – точно ребенок. Сжав рукоять меча обеими руками, Эадан размахнулся – и могильный житель вдруг взвизгнул:
– Нет! Нет! Не убей!
Эадан замер, не опустив меч: его поразило, что могильный житель заговорил. Правда, говорил тот странно, коверкая слова и произнося их так, словно не был приспособлен к речи смертных, и Эадана вновь охватил безотчетный страх перед неведомой силой, враждебной всему живому.
– Не убей… – повторил могильный житель еле слышно, будто сорвал голос в крике. Он смотрел на Эадана снизу вверх сквозь спутанные грязно-белые волосы, страшный и жалкий, как затравленный зверь. Эадан приблизил меч к его лицу.
– Если я не убью тебя, – проговорил он, стараясь не подать виду, что едва держится на ногах, – что дашь в обмен на твою жизнь?
Долгими зимними вечерами старики в доме Морлы рассказывали страшные истории. Эадан с детства знал: если нечисть заговорила с тобою, должно потребовать у нее подарок или попросить совета; а растеряешься – горькая судьба постигнет тебя: вернувшись к родичам, начнешь ты тосковать по лесной глуши и сам побежишь от людей, как волк…
Могильный житель помолчал, раздумывая – может, решал, которое из сокровищ уступить дерзкому смертному, а может, попросту плохо понимал его язык. Наконец он ответил, указав глазами за спину Эадана:
– Много… – он пошевелил губами, припоминая нужное слово, – …богатств. Бери что хочешь. Потом уйти должен… Я веду от болота… Я показываю дорогу к людям… Ты поклянешься – не говоришь людям, что видел.
Эадан отвел меч от его лица.
– Я возьму нашейные кольца, – решил он, – и чаши, сколько смогу унести. И этот меч.
Могильный житель вдруг вскинулся. Эадан приготовился поразить его мечом, но тот вновь опустился на пол, обмяк, и заговорил просительным тоном:
– Нет, нет, не меч!.. Бери всё, не меч… Нельзя брать! Меч узнают, узнают, и тогда меня… – он осекся, как будто сказал больше, чем следовало, и уставился куда-то в сторону.
Эадан с сожалением посмотрел на меч: ему не хотелось оставлять тут такую добрую вещь, тем более что Орнамёрни, меч отца, Эадану не достался: его забрал себе Йортанраг Морла.
– Что не так с этим клинком? На нем лежит проклятье?
Могильный житель часто закивал.
– Ты… – Эадан хотел сказать: «Ты лжешь», но покачнулся и упал на колени. Его стошнило, и он еще долго сидел, согнувшись, опираясь на меч, а в голове будто молот гулко бил о наковальню. Эадан посмотрел на могильного жителя – тот следил за ним с боязливой настороженностью и не нападал, хотя мог бы. Эадан подумал, что это заколдованный меч хранит его, вот почему могильный житель не желает его отдавать.
– Эй, – просипел Эадан, ткнув мечом в воздух рядом с могильным жителем, – есть ли у тебя вода? Принеси-ка мне напиться.
– Есть вода, – эхом отозвался тот. Поднявшись, он поковылял куда-то в темноту, опасливо оглядываясь на Эадана, – и правда вскоре вернулся с чашей полной воды. – Горячая, – сказал он.
«Должно быть, меч имеет над ним силу», – подумал Эадан. Грозя могильному жителю мечом, чтобы тому не вздумалось вновь напасть, Эадан отыскал у костра в ворохе своей одежды пояс – хороший пояс, крепкий и почти новый, подарок доброго Сиандела – и связал могильному жителю руки за спиной. Потом оделся, на всякий случай положив между собой и нежитью меч, сел у огня и принялся пить, обжигая горячей водой язык и нёбо. Вода отдавала болотом, и Эадана опять замутило.
Могильный житель все глядел на него не отрываясь. Эадана беспокоил его взгляд.
– Ты, – бросил ему Эадан, – не смотри на меня, не то глаза выколю.
Тот ничего не ответил, только еще сильнее побледнел и съежился, опустив голову. Белые пряди упали ему на лицо. Он и сам был весь белый, прозрачный, только под глазами залегли синеватые тени. Эадан дивился: прежде он думал, что могильные жители похожи на мертвецов, а этот, пусть и тощий, со впалыми щеками и темными провалами глаз, все же выглядел живым. Он был в истрепанном женском платье без рукавов, надетом поверх тесной для него детской рубахи. Из-под ворота выскользнула золотая цепочка тонкой работы – такую редко увидишь в Трефуйлнгиде. На цепочке поблескивал глаз бога, какой носят хризы: две дуги, всегда напоминавшие Эадану не глаз, а рыбу.
Эадан фыркнул от досады.
– Никогда не слышал, чтобы нечистый дух был истинноверцем, – сказал он.
Тот, кого Эадан принял за могильного жителя, вскинул глаза.
– Что? Я не… Я понимаю плохо. Я истинноверец, ты сказал? – он заметно беспокоился: похоже, опасался, что Эадана разозлит его вера.
– Ты хриз, – определил Эадан. – Теперь ясно, почему ты такой дохлый. А я-то, дурень, принял тебя за… Еще и подарок у тебя просил, тьфу! – Эадану стало стыдно за свой страх. Проклятое болото сыграло с ним шутку… Он откинулся на спину. У него все еще кружилась голова, в ушах гудело и где-то внутри размеренно билась тупая боль. Эадану хотелось поскорее уйти отсюда, но он чувствовал, что не сможет. Он закрыл глаза.
– Значит, легенды не лгут, – задумчиво произнес он через некоторое время. – Роггайна и правда погребли у нас, в Гуорхайле. Подумать только… Я нашел могилу Райнара Красноволосого. Наверно, это добрый знак.
Он обращался больше к самому себе, но «могильный житель» решил, что должен отозваться.
– Ты знал его… который здесь похоронен?
Его слова показались Эадану смешными.
– Чудной ты. Не найдется такого эса в Трефуйлнгиде, кто не слыхал бы о Райнаре Красноволосом, повелителе четырех карна. В стародавние времена он правил нашей землей и еще Вилтенайром, Тиддом и Руда-Моддур. Правители этих карна ведут от него свой род. Оттого они все рыжие… Его убил собственный сын, Аостейн. Верные элайры отнесли тело роггайна в лес, положили рядом его любимого коня, его рабов и все его сокровища и насыпали могильный холм. А после пришли болота и окружили могилу, чтобы никто не потревожил великого роггайна. Так рассказывается в песнях, что распевают на пирах в здешних краях, дабы потешить карнроггов. Неужели не слышал? Э, да вы, хризы, вообще ничего не знаете, – заключил Эадан, не дав хризу ответить. – Вот разговоров-то будет, когда я заявлюсь в Ангкеим с сокровищами Райнара Красноволосого! – протянул Эадан – и помрачнел: вспомнил, что в Ангкеим ему уже не вернуться. Никто не узнает, какой удачей одарил его своенравный Этли… Но, может, того и желают боги? Может, слава ждет его вдали от родной земли, в Карна Руда-Моддур, где волосы у эсов красны как ржавчина?
– Пусть так, – подумал Эадан, не замечая, что говорит вслух. – Я заберу сокровища и подарю их карнроггам Руда-Моддур. Я возложу на колени Гунвару Эорамайну меч его славного предка, Райнара Красноволосого, – кто сочтет недостаточным столь великий дар? Эорамайн будет мне благодарен. Он окажет мне всяческие почести и усадит рядом с собою, он подарит мне меч и коня, и крепкий щит, и доспех, украшенный светлой бронзой, и…
– Но этот не Райнара меч! – перебил Эадана хриз. В его голосе звучала тревога. – Не видишь? Не старый. Нет ржавчины… Не бери меч. Этот плохой меч. Этот… Ниффеля Морлы меч.
Эадан нахмурился, недовольный, что его отвлекли от мечтаний о награде.
– Что ты мелешь, сумасшедший хриз? Ниффель – балайр. Балайры не носят мечей, – он покосился на меч, словно ждал, что из темноты возникнет ужасный сын Морлы.
Хриз тоже смотрел на меч.
– Я забирал у Ниффеля, когда этот был не балайр, – сказал он. Немного подумав, поправился: – …когда Ниффель не был балайром еще. Возьмешь меч – увидит кто-то. Расскажет Морле… Морла узнает. Узнает… о мне.
– И что с того? – хмыкнул Эадан – но меч все-таки от себя отодвинул. – Что Морле за дело до тебя? Ты что, раб Ниффеля, украл у него меч и сбежал? Вот уж не думал, что у Тьярнфингов когда-нибудь были рабы-хризы. Кто ты вообще такой?
– Никто, – резко сказал хриз и отвернулся. Это слово он произнес неправильно – Эадан разобрал нечто вроде «керхе».
– Я родился в Карна Гуорхайль, – сказал Эадан, недоверчиво взглянув на хриза. – Всю свою жизнь я прожил в доме Морлы. Но никогда я не слыхал о рабе по имени Керхе, укравшем меч у Ниффеля-балайра. Ты или лжешь, или сошел с ума от житья в могиле, среди костей и болотных духов. Видно, нечисть тебя любит, раз ты узнал дорогу через Мундейре. Я сохраню тебе жизнь, чтобы ты провел меня через болота, но меч я заберу и золото с серебром – тоже. И если ты страшишься наказания за воровство, то разумней было бы тебе уйти отсюда, а не сидеть у Морлы под самым носом.
Глава 4
Тот, кого Эадан принял за беглого раба, исподлобья глянул на своего пленителя. О чем говорит этот эс? За годы одиночества он отвык от языка обитателей Трефуйлнгида, такого же грубого и примитивного, как они сами; да и прежде он не слишком хорошо его знал. Он родился в сердце Трефуйлнгида, в Карна Гуорхайль, в доме карнрогга Тьярнфи Морлы, но с самого появления на свет эсы и всё эсское были ему чужды. Мать, знатная эреанка, дочь тирванионского наместника, окружала себя истинноверскими служителями, богомолками, прислужницами, привезенными из отцовского дома в Тирванионе, священными книгами и иконами. Она словно пыталась оградить себя от враждебного чужого мира, в котором очутилась по воле отца и невидимых властителей, разыгрывающих из далекого императорского дворца очередную партию какой-то сложной, хитроумной и дальновидной игры. А она, Исилькратис Камламетен, была для них всего лишь незначительной фигурой. Империя, утвердившись в южном Карна Рохта, протягивала руки дальше на север в надежде подчинить себе весь Трефуйлнгид – Негидию, как называли его эреи, обширную землю, пока еще подвластную диким и неразумным хадарским племенам.
Посланцы императора обещали Тьярнфи Морле подарки, титул авринта, поддержку в его нескончаемых войнах с соседями – и Исилькратис, залог дружбы между всесильной империей и негидийским царьком. Неравным показался надменной эреанке этот брак, скудной и унизительной – жизнь среди дикарей, в зловонии нечистот и немытых тел, в насквозь прокопченном сарае, который они почитали за дворец, где зимою люди, рабы и собаки спали вповалку и справляли нужду прямо в доме. Исилькратис не могла есть то, что готовили в доме Морлы, не могла без презрения смотреть на негидийцев, не понимала и не желала понимать их речь. Что-то изменилось в столице, в императорском дворце – посланцы, прежде наперебой сулившие Морле бесчисленные блага, начали покидать Карна Гуорхайль. Непобедимая эрейская армия, которая вот-вот должна была прийти на помощь Морле в его войне с Хендреккой Моргерехтом, оказалась такой же призрачной, как и обещанные дары – и от дружбы с «хризским роггайном» у Тьярнфи Морлы остался лишь бесполезный титул – никто в Гуорхайле не мог его толком выговорить – и столь же бесполезная жена. В ту пору, когда Морла, не привыкший к тонкостям эрейской дипломатии, негодовал на вероломных хризских росомах, Исилькратис родила ему сына.
Она назвала дитя Валезириан, в честь своего отца, тирванионского наместника Валезия Камламетена. Морле не понравилось странное для его уха хризское имя, но женщина вправе наречь своего первенца так, как ей вздумается, – и Морла махнул рукой. Ему не было дела до маленького хриза, росшего у юбки матери среди страшноватых изображений хризских богов и душистого дыма, от которого кружится голова, среди строгих, похожих на ворон истинноверок, беспрерывно шепчущих что-то на своем языке (Морла принимал их за ведьм, а их молитвы – за заклятия).
Валезириан помнил, как пугалась мать, когда к ней входил этот некрасивый рыжий человек с глазами точно у хищной птицы, – как волновались монахини, еще плотнее окружая свою благодетельницу, как кормилица заслоняла его тучным телом и как духовник матери бегал глазами, скороговоркой переводя слова негидийца. Сонный, наполненный воскурениями и скукой воздух сгущался, окрашивался тревогой и неясным страхом – и что-то сжималось у маленького Валезириана в животе, хоть он и не понимал, что случилось со взрослыми. Выглядывая из-за широких бедер кормилицы, он со страхом и в то же время с любопытством смотрел на чужака, пытаясь угадать, что в его лице или фигуре внушает остальным такой ужас и такую глубокую неприязнь. Наверное, это всё из-за длинных, желтоватых когтей у него на руках. Или из-за зубов, тоже желтоватых и заостренных, как у демонов на страшных картинках из книг, которые читали вслух для матери. Но волосы у этого человека, светло-рыжие, были заплетены в две косы, а в ушах висели серьги – это казалось Валезириану смешным и нелепым, и он дивился, отчего взрослые не смеются.
Однажды чужак заметил его взгляд и сказал что-то, щелкнув пальцами. Духовник оглянулся на Валезириана – мальчик заметил тревогу в его взгляде. «Подойди к отцу, дитя», – велели ему. Валезириан вышел из-за кормилицы, сделал шаг и нерешительно оглянулся на мать – та не произнесла ни слова, не пошевелилась, только побледнела так, словно с ее лица сошли все краски. Это испугало Валезириана – он подумал, что сделал что-то дурное и мать на него сердится, как частенько бывало. Но тут духовник легонько подтолкнул его, и Валезириан оказался прямо перед чужим человеком.
Валезириан оробел. Он боялся задрать голову и взглянуть чужаку в лицо, поэтому смотрел на его сапоги с красно-зеленой вышивкой и блестящими украшениями на концах завязок. Тот снова заговорил, называя его Вальзиром, – Валезириан посмотрел через плечо на мать и духовника, не зная, чего хочет от него этот человек, противно пахнущий дымом и жирной негидийской едой. Валезириан хотел было отойти, снова юркнуть за кормилицу, как вдруг чужак подхватил его на руки, подбросил и сразу же поймал. У Валезириана перехватило дыхание. Никто не проделывал с ним такое прежде – и ему показалось, что этот человек, которого все так боялись, хочет сотворить с ним нечто ужасное. Валезириан замер, расширившимися глазами глядя на отца. Тот рассмеялся – Валезириана испугал его смех, слишком громкий для места, где говорили приглушенными голосами. Валезириан скривился и тихонько захныкал, силясь вырваться, протянул руки к кормилице. Это словно вывело Исилькратис из оцепенения – она бросилась к сыну, забрала его у Морлы и, прижав к себе, принялась исступленно целовать, нисколько не успокаивая, а наоборот, пугая его еще больше.
Сейчас, вспомнив тот случай из детства, Валезириан почувствовал, как в животе вновь скручивается и тянет то мучительное, дрожащее чувство, от которого во рту становится горько. Он тщетно убеждал себя, что это от голода. Валезириан привык мириться со своими воспоминаниями. Они наплывали будто бы сами по себе, окружали, расцвечивали темноту его жилища тусклыми образами прошлого; иногда они переходили в тяжелые сны, а иногда растворялись без следа. Отчего ему вспомнилось именно это? Валезириан осторожно поменял позу. Руки, стянутые поясом, начинали затекать. Он уже пробовал высвободиться, но этот треклятый негидиец связал его крепко. Что он с ним сделает? Кажется, он не намерен его убивать. Хотя кто знает, что творится в темной душе дикаря… Валезириан снова взглянул на хадара – тот лежал прикрыв веки, и Валезириан не мог определить, спит он или бодрствует. На лбу темнел след от удара. Валезириан усмехнулся: неплохо он его приложил! Надо было добить его сразу. Даже если негидиец не убьет его – на что не стоит слишком надеяться – то заберет меч; он вернется к своим соплеменникам и расскажет о том, где раздобыл оружие… Валезириан похолодел. Может, ему удастся завести хадара в трясину и утопить – конечно, тот куда сильнее Валезириана, но не знает болота… Хотя ему хватит ума идти за Валезирианом след в след…
– Что, прикидываешь, как бы меня прикончить? – сказал Эадан, неожиданно открыв глаза.
Валезириан вздрогнул.
– Н-нет… Просто… больно. Руки…
Эадан перевернулся на живот и прямо посмотрел на хриза – тот опять опустил голову.
– Что с того? Терпи, – сказал Эадан. – Если б я вовремя не очухался, ты бы меня до смерти забил. Сам понимаешь, братец рыбопоклонник, мне не хочется, чтобы ты довел дело до конца.
Валезириан не ответил. Негидиец уже не казался ему ни красивым, ни соблазнительным, каким виделся прежде, когда лежал без сознания, оглушенный ударом. Напротив, сейчас он неуловимо напоминал Валезериану ненавистного карнрогга Морлу, пусть и не был схож с ним обликом: Морла невысок и узкоплеч, с тонкими хищными чертами, а этот – рослый и широкоплечий; да и волосы у него не рыжие. Но Валезириан угадывал в нем ту же угрозу, что угадывал в Морле – во всех них, этих вспыльчивых, воинственных хадарах, которых так боялась его мать. Валезириану живо вспомнились шумные пиршества – а вернее сказать, попойки —когда приближенные Морлы, такие же, как этот юноша, стучали чашами и горланили однообразные песни грубыми хриплыми голосами. В такие ночи маленький Валезириан не мог уснуть, чувствуя, что в темноте, окруженная своими верными праведными женщинами, мать тоже не спит и с колотящимся сердцем прислушивается к то нарастающему, то затихающему шуму бражного зала.
– Ты… не низкого рождения, верно это? – спросил Валезириан. С непривычки голос его не слушался.
Эадан удивленно вскинул на него глаза.
– Да, – ответил он. – Мой отец Райнар Фин-Диад был элайром карнрогга. Если ты и вправду когда-то служил Тьярнфингам, то должен был слышать о нем.
В голосе молодого хадара слышалась гордость за свой род. Они всегда кичились своими предками, такими же разбойниками и убийцами, которые пробавлялись тем, что грабили соседей и друг друга. Когда кому-нибудь из этих безбожников удавалось собрать вокруг себя достаточно людей, они отправлялись к воротам Тирваниона и требовали выкуп, угрожая ворваться в город и перебить всех жителей. Мать рассказывала Валезириану об одном таком набеге, который видела еще девочкой. Глядя куда-то поверх головы сына, она рассказывала о панике, поднявшейся в городе, о том, как совещались ее отец и другие важные чиновники, как городская гвардия в блистающих на солнце доспехах шагала по улице мимо их дома. Тогда негидийцы ушли ни с чем, встреченные ливнем стрел со стен Золотого Города, богатств которого они так алкали. Слушая рассказы матери, Валезириан представлял себе ужасных дикарей-хадаров и сам исполнялся ужаса.
– Я слышал о нем, – проговорил Валезириан, повторяя слова негидийца. Он не помнил этого воина, Райнара, – возможно, Валезириан и видел его среди людей Морлы, но все они казались ему похожими друг на друга. Он не трудился различать их или запоминать их имена. Для Валезириана они сливались в одну враждебную, угрожающую ему и его матери силу, к которой он не испытывал ничего, кроме отторжения.
– Мой отец был славным воином, – тем временем рассказывал Эадан. – Он был верным элайром карнроггу Морле. Карнрогг наградил его землей и позволил жить своим домом… В сражениях с южанами отец добыл много богатств. У него был знаменитый меч именем Орнамёрни, крушащий врагов подобно великану-гурсу. Этим мечом он сразил множество людей из Карна Рохта, – Эадан говорил неторопливо, чуть нараспев, будто сказитель – так рассказывают о подвигах прежних дней. Ему нравилось говорить об отце, нравилось, что Райнар Фин-Диад был не раб и не простой работник без земли и дома, а прославленный воин и фольдхер, дружинник могущественного гуорхайльского карнрогга. И пусть сейчас его слушал один лишь жалкий хриз, Эадану все равно хотелось похвастать своим высоким рождением. – Отца убил человек Хендрекки Моргерехта по имени Альскье Кег-Догрих, – продолжал он. – Я отомстил ему, выплатил долг крови. Всякий скажет, что это достойный поступок. Поступок, дающий юноше право заплетать волосы и зваться воином…
Рассказывая о своей мести, Эадан и вправду видел все так, как говорил: узнав отцовское кольцо на пальце убийцы, он исполнился гнева. Его кровь воззвала о мести. Выхватив нож, Эадан приблизился к бесчестному злодею и пронзил его поганое змеиное сердце, доказав, что достоин зваться сыном отважного Райнара Фин-Диада и свободным эсом… Эадан и не думал о том, что испытал тогда на самом деле. Он не вспоминал свою растерянность, свой страх и нежелание сердить карнрогга, свою досаду на Мадге, который из какого-то злого озорства подстрекал его к убийству. Что он мог сказать Тьярнфи Морле, судившему его столь сурово? Что должен был так поступить, иначе злые языки ославили бы его на весь Гуорхайль, и ему не стало бы житья в этом карна? Что, не убей он Альскье, он превратился бы в труса, презираемого всеми, отщепенца, подобного рабу, и уже никогда не поправил бы свою честь? Эадан – сирота без родни и имущества, бесправный юнец, ни разу не вкушавший хмель сражения; у него нет жены и тестя, и некому заступиться за него… Карнрогг Морла забрал фольд его отца и отдал другому элайру. Мечом его отца сражается сын Морлы Йортанраг… Теперь же Морла изгнал его из родной земли. Где же правда? Ужели Отец Орнар ослеп? Ужели Трефуйлнгидом правят Ку-Крух, Тааль и Ддав? Эадан сам не заметил, как начал стенать и сетовать на злую судьбу, неосознанно повторяя слова из песен об изгнанниках. Ему стало жаль себя. Он раскачивался, воздевал руки и рвал на себе волосы, как то принято у эсов, хотя единственный его зритель не мог оценить красоты и благородства его страданий.
Валезириана испугала такая резкая перемена в его пленителе. Он почти не понимал, что тот говорит: речь стала совсем темной, сложной, и иногда Валезириану казалось, что хадар декламирует поэму. Валезириан предположил, что удар оказался сильнее, чем он думал, и у хадара помутился рассудок. Быть может, он вновь лишится сознания? Валезириан затаил дыхание, наблюдая за ним. Он знал, что убить негидийца не так-то просто – даже с мальчишками, что приходили на Мундейре за болотной ягодой, приходилось повозиться; а старуха, с которой он снял это платье, отбивалась со свирепостью льва, как говорилось в книгах матери. На миг обманувшись надеждой, Валезириан вновь приуныл. Этот хадар молод и силен. Едва ли его сразят наповал головокружение или тошнота, которые он, верно, сейчас испытывает. Негидийцам свойственна дикарская порывистость – так говорил духовник матери. В прошлом Валезириану доводилось видеть, как пирующие в бражном зале вдруг вскакивали из-за столов, выхватывали ножи, и буйная их веселость сменялась беспричинной яростью; а бывало, что недавние враги начинали обниматься и клялись друг другу в вечной дружбе, братаясь кровью, а другие, взирая на это, шумно их хвалили и плакали от умиления. Должно быть, нечто подобное и творилось сейчас с молодым хадаром – обхватив голову, он качался из стороны в сторону, произнося в пустоту длинные, запутанные фразы. Валезириан разбирал лишь отдельные слова: судьба, изгнанник, злосчастие, зима и ночь, имена языческих богов, но от горестного отчаяния, пронизывающего речь негидийца, неприятное чувство в животе Валезириана скручивалось еще туже. Им опять овладела тоска, тягучая и неизбывная, какая часто накатывала на него в одинокие ночи и дни. Ему подумалось, что он никогда не выйдет отсюда – никогда не увидит Тирванион, которым с детства грезил, а так и сгинет здесь, на болоте, в могильном холме, что когда-нибудь станет и его, Валезириана, могилой. Сколько он еще протянет? Всякий раз, когда снег укрывал лес, Валезириан боялся, что не переживет зиму. Он посмотрел на стену позади негидийца – пламя костра то ярко ее освещало, то опадало, и тогда сотни и сотни зарубок на стене тонули во мраке. Валезириан старательно отмечал каждый день, проведенный на Мундейре, и сейчас, охватив их взглядом, он ужаснулся, как долго пробыл здесь. Пробыл совсем один, в вечном страхе перед убийцами-хадарами и самым безжалостным и неумолимым убийцей – голодом…
– Юноша, – позвал он своего пленителя, – ты изгнанник, верно это? Куда идешь после веду я… после того, как проведу я через болото?
Эадан непонимающе уставился на него.
– Что? Как чудно́ вы, хризы, лопочете… Будто пьяные… Спрашиваешь, куда я пойду после Мундейре? Уж точно тут не останусь. А тебе что за дело? – он нахмурился.
Валезириан помолчал, подбирая слова.
– Если уходишь из Гуорхайль… с тобой я ухожу, – сказал он, по-прежнему не глядя на Эадана. – Твоим рабом буду. Если желаешь.
Эадан хохотнул.
– На что мне раб? Я и себя-то прокормлю ли – не знаю, – он поворошил веточки в костре, чтобы огонь вспыхнул ярче. – А ты еще и вор… и убийца. Этот твой нож – что за мясо ты им разделываешь? Я узнал его, это нож старого Орнарина, раба с хутора Скеги. Орнарин тем летом пропал в лесу… Скажешь, он успел подарить нож тебе, прежде чем утонул в болоте?
– Еще раз тогда подумай, – возразил Валезириан с неожиданной силой в голосе – Эадан даже перестал возиться с костром и взглянул на пленника с куда большим интересом. – Умею я многое, – сказал Валезириан твердо. – Найти еду. Воровать. Подкрадываться – никто не услышит. И убить я умею.
– Убийца из тебя неважный, – хмыкнул Эадан, показав на свою разбитую голову.
Валезириан отвернулся.
– Тебя не хотел убить, – глухо сказал он. – Не хотел убить… сразу.
– Что ж, – вздохнул Эадан, опять откидываясь на спину, – пройдет время – увидим, на благо ты сохранил мне жизнь или себе на погибель. Лишь глупец верит улыбке Этли… Идем со мной, если хочешь. В прежние времена у моего отца были рабы из пленных южан – теперь же от его достатка не осталось ничего. Может, мое богатство начнется с тебя, по воле Орнара… – Эадан сложил руки в знак, призывающий помощь богов. – Но если вздумаешь обворовать меня, как своего прежнего хозяина, – добавил он, – жизни за жизнь не жди. Свободный эс не должник рабу.
Глава 5
Вальебург разбудил доносящийся из Ангкеима гул. Под него она вчера и уснула, обессилев после путешествия и долгого, будто бесконечного, первого дня свадьбы. Она провалилась в тяжелый сон под песню о роггайне Райнаре Красноволосом – а сейчас не успела открыть глаза, как услышала нестройный хор голосов, распевающий припев из всё той же песни о Райнаре. Вальебург села, дрожа от холода. Неподалеку от спальной ниши стояла жаровня, но угли в ней едва тлели. Закутавшись в меховое одеяло, Вальебург подползла к краю постели и выглянула. В тусклом свете жаровни она увидела узкий проход между пустыми постелями, прибитую поверху полосу ткани, расшитую разноцветными нитями, и отсветы огней бражного зала, куда вел узкий крытый переход. Похоже, домочадцы Морлы давно уже встали – одна только Вальебург заспалась.
– Майетур, – позвала она свою рабыню. – Майетур, проснись, сонная ты корова! – Вальебург попыталась пнуть ее – ночью та спала на сундуке с приданым – но нащупала ногой только холодную металлическую оковку сундука. «Проклятая девка, – пробормотала Вальебург, забираясь обратно в постель. – Вечно ее Старший где-то носит». Делая вид, что сердится на рабыню, Вальебург сердилась на саму себя. Сколько раз в мечтах она воображала, как поутру завязывает мужу рукава рубахи, расчесывает ему волосы, помогает надеть сапоги… И проспала в первый же день! От стыда и досады кровь прилила к лицу Вальебург. Что ее хозяин подумает о ней? Сочтет ее плохой женой, не иначе… Верно, Морла нарочно не разбудил ее, чтобы после попрекать этим. Еще и Майетур куда-то запропастилась – из-за ленивой рабыни Вальебург приходится сидеть тут под одеялом, вместо того чтобы нарядиться как подобает и выйти к гостям.
Из прохода, ведущего в Ангкеим, послышались неторопливые шаги. Вальебург натянула одеяло до шеи, думая, что это кто-то из сыновей или элайров Морлы; но вскоре услыхала капризный детский голосок и голос женщины. Не слушая, что лопочет ребенок, женщина повторяла наигранно-усталым, равнодушным тоном:
– Нет, не получишь… Я сказала, не получишь! Нечего тебе… Нечего, я сказала…
Когда они поравнялись с хозяйским ложем, Вальебург увидела молодую женщину, смуглую и черноволосую, одетую как жена знатного эса. За нею, уцепившись за ее юбку, плелась девочка. Заметив Вальебург, женщина остановилась.
– А вот и госпожа матушка проснулась, – сказала она с приветливой улыбкой. – Счастливо ль минула прошлая ночь?
– Хорошо спится в доме нашего хозяина, под его защитой, – вежливо ответила Вальебург. – Послушай, не видала ли ты мою рабыню Майетур? Такая бойкая девка, черная, как Дунн Скарйада. Вот я ее выпорю, попадись только…
– Я, я видела! Я видела – вон там, я покажу! – закричала девочка. Мать ущипнула ее, чтобы та замолчала.
– Желаешь одеваться, госпожа матушка? – спросила женщина. – Примешь мою помощь? Рада буду услужить достойной госпоже. Этльхера послала меня за рубашкой для мужа, – вышивать, вишь ты, ей приспичило, – начала она рассказывать, не дожидаясь ответа Вальебург. – Этльхера – жена Урфа. Я говорю ей: «Кто работает в праздник?» Она мне: «Для ленивой жены всякий день праздник, а для доброй жены что ни день то работа». А я ей: «И что проку тогда быть доброй женой?» – женщина залилась смехом. Вальебург тоже рассмешил такой ловкий ответ, но ей подумалось, что жене карнрогга не пристало смеяться подобным шуткам. Вальебург отвернулась к своему сундуку, чтобы скрыть улыбку. С усилием провернув ключ в замке, она отперла сундук и откинула крышку – из открытого сундука запахло хризскими благовониями.
– Какое богатство! – ахнула женщина, залюбовавшись тонкими, переливчатыми в свете жаровни тканями. Не спрашивая у Вальебург дозволения, она вынула из сундука красно-желтый весериссийский шелк и посмотрела его на просвет. – Завидую тебе, госпожа матушка, – протянула она. – И рабыня есть у тебя, и столько дорогих вещей, и муж – великий карнрогг… Эх! А мне в приданое дали умывальную чашу, корову и двух телок.
– Отец тоже дал за мной скот, но мы бы не смогли пригнать его зимою, – заметила Вальебург. Она догадывалась, что женщина вызвалась ей помочь лишь для того, чтобы сунуть нос в ее приданое. Вальебург и сама была не прочь им похвастать. Пусть жены дома Морлы знают, что она не приживалка, а высокородная госпожа, дочь карнрогга!
– Ты жена одного из сыновей господина, верно? – спросила Вальебург, забирая шелковый отрез. Женщина мгновенно схватилась за другой, атласный.
– Да, Йортанрага, – кивнула она. – Мой отец – Риханг Эйдаккар из Карна Фальгрилат, брат карнрогга Хеди, – она оставила атлас, вытащила из сундука пурпурную накидку и обернула вокруг головы. – Мне к лицу, госпожа матушка? – спросила она – и сразу же продолжила: – Тяжко быть женой младшего сына, скажу я тебе. Только и делаешь, что прислуживаешь другим женам. Каждый день я молю Матушку Сиг, чтобы наш хозяин поскорей женил Мадге и Лиаса. Вот уж когда я разгуляюсь! Тоже буду гонять и шпынять их жен в свое удовольствие. А те мне ничего и сказать не посмеют, кроме как «слушаюсь, старшая сестра Фиахайну»! – она хохотнула.
Вальебург взглянула на нее с неодобрением. Ей не нравилось, что эта женщина так откровенно набивается к ней в наперсницы; не нравилось, что она бесцеремонно хватает и прикладывает к себе ее одежды, а ее дочь, смуглая вертлявая девочка, напомнившая Вальебург дочерей мачехи Хрискерты, тянет замызганные руки к ее драгоценному приданому…
– Так, значит, Фиахайну твое имя? Положи это, – Вальебург сняла с ее головы накидку и сложила обратно в сундук.
Женщина недовольно поджала губы.
– Так и есть, Фиахайну. Госпожа матушка может звать меня Бигню.
– Тогда причеши меня, Бигню, – Вальебург повернулась к Фиахайну спиной. Возможно, ей следовало проявить большее расположение к одной из тех, с кем ей предстояло провести всю жизнь; но Вальебург сказала себе, что так и подобает держаться жене карнрогга. Она больше не девушка, чтобы всем угождать и кланяться. Слишком долго она просидела в девичьей, выказывая лишь скромность и послушание, – довольно! В Карна Гуорхайль нет мачехи Хрискерты. Вальебург теперь сама жена карнрогга, единовластная хозяйка в доме своего мужа, и ни одна женщина во владениях Морлы не выше нее. Как непривычно и приятно думать об этом…
Между тем Фиахайну разбирала ее волосы, немного спутавшиеся за ночь.
– Прекрасные у тебя волосы, госпожа матушка, – похвалила Фиахайну, осторожно проводя по ним гребнем. – Густые… Недаром наш господин не пожелал отдать тебя Мадге, а сам взял тебя в жены. Ты не разгневаешься, если я причешу тебя, как причесываются у нас в Гуорхайле? Я не знаю, как ты привыкла у себя на Юге.
Вальебург поморщилась. Фиахайну старалась польстить ей, и Вальебург с достоинством это принимала, ибо жена карнрогга выше жен сыновей карнрогга; но слова о том, что Морла сватал ее за другого, насторожили Вальебург.
– Мой дом отныне – Карна Гуорхайль. Я буду убирать волосы как женщина из Гуорхайля, – ответила она чересчур резко. Потом, поколебавшись, спросила: – Мадге зовут сына Морлы, восьмого… нет, кажется, девятого? Я знаю, поначалу меня сватали за Ульфданга, наследника меча, но о Мадге я…
– Всё было в точности так, госпожа матушка, – с готовностью подхватила Фиахайну, укладывая на волосах Вальебург синее головное покрывало, расшитое золотой нитью и речным жемчугом. – Но Ульфданг не захотел обижать Атту, потому что слишком любит ее брата Каддгара Гурсобойцу. Наверняка и у вас, на Юге, слышали об их великой дружбе… Впору уже не Атте, а Каддгару кроить ему рубашки, – Фиахайну хихикнула. – Впрочем, наша Говорящая с богами и не кроит рубашки, – добавила она. – Перекладывает всю работу на Онне, жену Сильфре Морлы, или на Этльхеру и Этльверд, а те – на меня. Чтоб их гурсы полюбили! Так вот, – Фиахайну закончила с покрывалом, а поверх него обернула косы Вальебург, – когда Ульфданг сказал, что не желает объявлять о разводе с Аттой, господин задумал женить на тебе Мадге, но что-то не сговорился с твоим отцом. Я слыхала от жены Эйнирда Фин-Солльфина – он ездил к вам в Рохта сватом – будто Хендрекка Моргерехт шибко разгневался и даже хотел, оскорбленный, разорвать союз с Гуорхайлем, когда узнал, что наш отец просит тебя за девятого сына.
Вальебург из благоразумия промолчала. Негоже говорить дурно о сыне своего мужа, пусть даже и о девятом. Прежде, засидевшись в девках, она печалилась, что отец из высокомерия не желает отдавать ее ни за кого ниже карнрогга или наследника карнрогга. Теперь же Вальебург исполнилась благодарности к спесивому Хендрекке. Подумать только – девятый сын! Она, дочь правителя Карна Рохта, авринта и защитника истинной веры, как величали Хендрекку льстивые хризы, стала бы женой девятого сына – и даже эта болтушка Фиахайну помыкала бы ею! Как тут не разгневаться! И пусть сестрица Эвойн из зависти нашептывала Вальебург, что нет большой радости быть женой старика, пусть сама Вальебург опасалась козней невесток Морлы, долгие годы живших без хозяйки над ними, – все равно она славила Господа, Матушку Сиг и своего надменного отца за то, что стала женой Тьярнфи Морлы. Самого Тьярнфи Морлы, богатейшего и могущественнейшего карнрогга Трефуйлнгида! Вальебург опустила голову, чтобы Фиахайну не заметила ее самодовольной улыбки.
А пока Вальебург ликовала, Фиахайну не переставала болтать:
– …но Мадге-то уже навострился пить из свадебного рога с Хендреккой Моргерехтом, – она опустилась на колени и стала обувать Вальебург. – Как же он разобиделся, когда понял, что ты окропишь не его постель, а хозяйское ложе! Кричал, что отец нарочно увел у него невесту, чтобы унизить его, Мадге. А еще – что уйдет из Карна Гуорхайль и будет жить у брата Ангррода в Карна Тидд, раз он терпит такой позор в родном доме. Много чего кричал… Нрав у девятого Тьярнфинга хуже некуда. Вот то ли дело самый младший, Лиас! И учтив, и ласков; а как пригож – загляденье… Я точно знаю, что Этльверд, жена Урфтана, до того заскучала в разлуке с мужем, что… – приблизив губы к уху Вальебург, Фиахайну зашептала что-то, прыская со смеху и воровато оглядываясь, хотя вокруг не было никого кроме ее чумазой дочки.
Улучив момент, та потянула к себе пояс, усаженный золотыми звездочками. Фиахайну шлепнула ее по руке. Девочка принялась реветь, растирая кулаками несуществующие слезы. Фиахайну весело посматривала то на Вальебург, то на дочку, словно ждала, что Вальебург начнет умиляться ее отродью. Поняв наконец, что притворный плач девочки отчего-то не забавляет молодую хозяйку, Фиахайну, желая угодить новой свекрови, с громкой бранью погнала дочку из спального покоя.
– Довольно! Лучше помоги мне одеться, – оборвала ее Вальебург, скрывая за суровым тоном свое смущение. Ей нередко доводилось слышать, как рабыни и работницы в девичьей шепчутся о мужчинах, и то, что Фиахайну рассказала о Лиасе и Этльверд, мало чем отличалось от их обычных сплетен. И все же высокородным женщинам, как полагала Вальебург, не годится вести такие разговоры, уподобляясь низкорожденным.
Почувствовав ее неодобрение, Фиахайну насупилась и замолкла – правда, ненадолго. Помогая свекрови надеть рубашку, платье, а поверх него – еще одно платье, без рукавов, и накидку, она всплескивала руками, восхищаясь роскошными одеждами и красотой Вальебург, а сама думала, обиженная холодным обращением: «Тоже мне, нашлась праведница! Прямо вторая Онне! Южанка, а держит себя так, будто ни о чем и не слыхивала. Знаем мы, каковы нравы на Юге! Небось не просто так сидела столько лет в отцовом доме, жениха дожидаясь…»
Обернув поясом бедра, как носили в Карна Рохта, Вальебург выпрямилась и медленно понесла на себе одежды свои и золото в Ангкеим, откуда волнами накатывали веселые хмельные голоса. Вальебург не привыкла к гуорхайльской прическе – ей постоянно казалось, что косы, венцом лежащие надо лбом, вот-вот соскользнут вниз. Да и пристойно ли замужней женщине выставлять свои волосы вот так напоказ? Впервые она выйдет к гостям без плата, закрывающего лицо. Прислужницы уже не будут вести ее и поддерживать под руки. Вдруг она запутается в длинном подоле или запнется обо что-нибудь в незнакомом доме? Как говорится, в своем доме и пороги пологи, а в чужом доме и щепка – бревно… Вальебург и сама понимала, насколько глупы ее терзания. Она дочь карнрогга и жена карнрогга, с головы до пят она сверкает, как дом хризского бога, а за нею семенит Фиахайну, расхваливая ее без умолку. Какая дочь Трефуйлнгида не позавидовала бы ее счастливой судьбе? Однако Вальебург хмурилась. Она догадывалась, что гости встретят ее непристойными шутками вроде тех, которыми они разразились вчера, когда Морла повел невесту на ложе. Таков обычай повсюду, и Вальебург это знала. Но, должно быть, вместе с отцовской красотой она унаследовала жгучую отцовскую гордыню – и безобидные напутствия пьяных гостей поднимали в ней волны гнева. Напрасно Вальебург уговаривала себя не сердиться на то, что еще не сказано. Она услышала, как кровь зашумела в ушах. В такие мгновения ее отец вымещал злость на рабах или на мудром, спокойном Нэахте, готовом стерпеть всё от своего гневливого побратима. Вот если бы и ей, Вальебург, попалась сейчас эта гурсова дочь Майетур!.. Заранее сжимая кулаки – кольца больно вдавились в пальцы – Вальебург вошла в бражный зал.
К ее облегчению (а возможно, и разочарованию), гости ее не заметили. Их увлекло другое зрелище: двое сыновей Ангррода Морлы, мальчишки-подростки, рослые, белокурые, круглолицые, затеяли драку из-за угощения. Младший кинулся на старшего; они свалились со скамьи и под хохот гостей покатились по полу, колотя друг друга кулаками и кусаясь. Гости стали их подзадоривать – улюлюкали, стучали чашами, хлопали ладонями по коленям. Ангррод смеялся, довольный, что теперь и в других карна узнают, какими славными бойцами растут его сыновья. Он ходил вокруг мальчишек и науськивал их друг на друга. Потом, наконец, разнял их, любовно подергал за уши и усадил рядом с собой.
– Как вам мои лисята, а? – с нескрываемой гордостью спрашивал он гостей. – Злые! Зубастые! Вот я вас выпорю, Ддавовы отродья! – он потрепал сыновей по волосам. Те на время притихли, потирая расцарапанные лица и слизывая кровь из разбитых носов, – и вновь принялись пихать друг друга.
– Хороши, – нехотя согласился Хендрекка. Он был не в духе: его уязвляло богатство дома Морлы. Он смотрел на яства, на рабов, то и дело подносивших отменную брагу, на доброе оружие Тьярнфингов и на крашеные одежды их жен, на витые кольца на шеях элайров, на самого Морлу, восседающего в тирванионском кресле в собольих мехах, – и презрительно кривил красивые губы, скрывая свою зависть даже от самого себя. Его двор в Карна Рохта и роскошней, и изысканней; его дом, Мелиндель, возвышается на целых два этажа и подобен дворцу роггайна хризов, как говорят хризские посланники; его жена одевается в шелк и парчу, умащается благовониями и подводит глаза сурьмой; и всё, чем бы ни вздумал похвастать Морла, не идет ни в какое сравнение с тем, чем владеет он, Хендрекка Моргерехт. Хендрекка обводил взглядом Ангкеим и раздражался все больше. Ему мнилось, что Морла кичится перед ним своим многочисленным потомством. Вот еще Ангррод никак не уймется, нахваливает своих сыновей, внуков Морлы; а неподалеку еще один его внук играет с щенками волкодава, уже немного подросшими. Косматая серая сука, большая, как волк, принесла восьмерых… Даже псы у Морлы плодятся так же споро, как и весь его род! Хендрекка раздул ноздри, точно злой боевой жеребец. У него самого остался всего один сын, Мэйталли; он вошел в возраст лишь этой зимой и еще не прославил себя в забаве мечей. Другой сын, Тубаф, пал от руки Сильфре Морлы. И пусть Хендрекка не любил старшего сына, сейчас он распалялся, вспоминая, что сын Морлы отнял старшего сына у него, Хендрекки. Его опору, наследника меча! Теперь Хендрекке казалось, что Тубаф, заносчивый, непочтительный, вечно с ним споривший, и вправду был его опорой. Хендрекка смотрел на сыновей Морлы и мрачно думал, что и у него когда-то был славный воин, герой Трефуйлнгида, ни в чем не уступавший Тьярнфингам.
Морла вгляделся в потемневшее лицо Хендрекки, красивое, с крупными правильными чертами и надменно выпяченной нижней губой. Чем опять недоволен этот прихвостень хризов? Морла устроил богатый пир, созвал карнроггов со всего Трефуйлнгида, велел забить своего лучшего быка и множество другого скота – опасное расточительство перед голодной порой Дунн Скарйады! – устлал пол свежей соломой и выкупил честь его дочери пластиной червонного золота шириной в ее лицо. А прошлым вечером еще и выплатил непомерно большую виру за убийство этого никчемного элайра, Альскье Кег-Догриха, как будто мало ему было виры за Тубафа Моргерехта! Что еще он должен сделать, чтобы угодить своему новоявленному тестю? Правду говорят, что даже с гурсами замириться легче, чем с южанами… Ухватившись за подлокотники кресла, Морла тяжело поднялся, подошел к щенкам и, выбрав самого крупного и бойкого, приблизился с ним к Хендрекке.
– Прими в дар этого щенка, – сказал он скрепя сердце. – Отец его – мой любимый боевой пес Кромахал; еще никто не спасся от его когтей и зубов. Сын Кромахала будет тебе верным слугой и непобедимым защитником.
Морле не хотелось отдавать Хендрекке лучшего щенка – видит Орнар, этот падкий на подарки южанин и без того уже получил от Морлы слишком много. Но Морла желал покончить с бесплодной войной на юге, не приносившей ему никакой выгоды, и с поддержкой Хендрекки пойти войной на восток – на Карна Вилтенайр, принадлежащее ему по праву. У тамошнего карнрогга, дурачка Вульфсти, не так уж много людей – Морла мог бы побороться с ним и без помощи южного соседа, если б другой карнрогг, Гунвар Эорамайн, правящий самым большим карна Трефуйлнгида, не встал на сторону Вульфсти. Все знали, что Эорамайны, потомки второго сына Райнара Красноволосого, тщатся восстановить былое владение своего легендарного предка, вновь объединив под своей властью Руда-Моддур, Вилтенайр, Тидд и Гуорхайль. Гунвар Эорамайн не уставал напоминать о превосходстве Руда-Моддур над остальными тремя карна. Тьярнфи Морлу, ведущего свой род от старшего сына роггайна, отцеубийцы Аостейна, это очень сердило. И еще больше сердило его то, что в карнроггском кресле Вилтенайра, к которому он, Морла, был так близок, теперь сидит этот придурковатый юнец Вульфсти, а Гунвар Эорамайн держит его за руку. Протягивая Хендрекке щенка, Морла взглянул тестю за спину и ненароком встретился с понимающим взглядом карнрогга Гунвара.
Лицо Хендрекки просветлело. Щенок и в самом деле был хорош: злобный, лобастый, с густой шерстью, крепкими зубами и прямыми толстыми лапами. Когда Хендрекка взял его из рук Морлы, щенок извернулся и тяпнул Морлу за палец. Это порадовало Хендрекку еще больше.
– Ты щедр, мой высокородный зять! – похвалил он, разглядывая щенка. За такого, пожалуй, можно выручить с полдюжины молочных коров, а то и больше. Но Хендрекка оставит его себе. Кто знает, возможно, когда-нибудь этот пес перегрызет горло Тьярнфи Морле… Усмехнувшись своим мыслям, Хендрекка на вытянутой руке поднял щенка за шиворот и звучно произнес – так, чтобы его услышал не только Морла, но и другие карнрогги: – Я назову его Габхал, Верная Пасть, – в память о нерушимой дружбе между нашими Домами!
После он снова сел за стол, опустив щенка на скамью рядом с собою. Тот, неугомонный, полез на стол и стал бродить между чаш, жадно нюхая жирные следы от мяса. Хендрекка наблюдал за ним, уже не думая об убитом сыне. С удовольствием он замечал, что гости из других карна с завистью смотрят на его подарок. Некоторые тянули к щенку руки, чтобы потормошить, и тогда щенок скалил зубы и огрызался. «Настоящий Морлинг!» – пошутил кто-то.
Глава 6
Жены Тьярнфингов затеяли перебранку: Этльхера сердилась, что Фиахайну так и не принесла ей шитье. «Лентяйка, – шипела она. – Только и глядишь, как бы увильнуть от работы! Даже такую малость не желаешь для меня сделать. А ведь мой муж – старший брат твоего мужа! Скоро же ты позабыла, что жене младшего брата должно быть послушной служанкой своих старших сестер…»
Вальебург посмотрела на них через плечо. Ей не хотелось ввязываться в пустую женскую ссору, но все же она проговорила, вновь отворачиваясь:
– Фиахайну не выполнила твой наказ, потому что я велела ей помочь мне одеться.
Женщины притихли. Наконец Онне, жена Сильфре Морлы, с неохотой признала:
– Госпожа матушка в своем праве. Желание хозяйки выше желания жены хозяйского сына.
– А-а-а, сестрица Бигню нашла себе заступницу, – ядовито протянула Этльхера. – Вот же подлизуха! – подхватила Этльверд. Они говорили тихо, но не особенно таились, и Вальебург это покоробило. Жены Тьярнфингов судачили о ней, своей новой госпоже, без должного почтения. Похоже, они нисколько не боялись, что она их услышит. Придется Вальебург научить их послушанию… От этой мысли у Вальебург стало тяжело на сердце. С самого начала, в тот момент, когда она услышала, что ее сватает карнрогг Тьярнфи Морла, Вальебург подумала не о своем женихе, а о женах его сыновей. Первая жена карнрогга, Ванайре из Карна Вилтенайр, умерла уже давно; после нее Морла женился дважды, но ни одна из этих жен так и не стала полновластной хозяйкой в его доме. Многие годы жены его сыновей жили без госпожи. Их много, почти все они старше Вальебург – и все привыкли к вольному житью. Через положенные десять дней родичи Вальебург покинут Ангкеим. Она останется одна в чужом доме посреди чужой земли. Конечно, за нею всегда будет незримо стоять сила Карна Рохта, но сила эта – защита от мужчин, а не от женщин. И пока ее отец и Тьярнфи Морла праздновали свой мир, Вальебург сама того не желая готовилась к войне.
Она сомневалась, что жена наследника, Атта Говорящая с богами, пользуется властью старшей жены. Второй сын Ниффель – балайр и потому не женат, а жена Ангррода живет вместе с мужем-карнроггом в Карна Тидд. Вальебург рассудила, что среди женщин дома Морлы выше всех стоит жена четвертого сына – Онне. Эта высокая, худая женщина со светлыми волосами и височными украшениями из множества мелких разноцветных бусин, как носят в Тидде, держалась с непоколебимым достоинством. Когда она, пусть и нехотя, признала правоту новой свекрови, другие жены не посмели ей возразить. Наверное, это против нее придется выстоять Вальебург…
Ее невеселые раздумья прервал голос Фиахайну.
– Госпожа матушка, – говорила она, заглядывая Вальебург в лицо. – Госпожа матушка, что же ты? Возьми рог…
Вальебург подняла глаза. Молодой раб протягивал ей окованный в бронзу турий рог – тот самый, из которого вчера пили ее отец и Тьярнфи Морла. Задумавшись, Вальебург не заметила, что в бражном зале воцарилась тишина и все взгляды обратились к ней. Даже Хендрекка отвлекся от своего щенка и повернулся к дочери. На полных губах Хендрекки блуждала самодовольная улыбка. Он гордился красотой Вальебург, а еще больше – богатством ее убора. В отсветах очага Вальебург сверкала и переливалась, как драгоценный оклад хризской иконы. Хендрекка вскинул голову и свысока оглядел гостей из других карна. Пусть видят карнрогги Трефуйлнгида, что сокровища Хендрекки Моргерехта настолько велики, что он не поскупился нарядить свою дочь в шелка и золото! Пусть, вернувшись со свадебного пира, эсы рассказывают о необычайной щедрости властителя Карна Рохта! И пусть Морла, узрев такое великолепие, не смеет впредь намекать Хендрекке, что заплатил слишком высокую цену за товар с изъяном – засидевшуюся в девках невесту.
Рог был наполнен до краев. Когда Вальебург взяла его, он показался ей необыкновенно тяжелым – ее руки дрогнули, брага выплеснулась на пальцы и на солому у ног. Вальебург мысленно обругала себя. Сперва проспала, теперь еще и это! Вместо того, чтобы пробудить в сердцах гостей зависть и восхищение, она показала себя соней и неумехой… Вдруг Гунвар Эорамайн, игриво взглянув на Вальебург, сказал с улыбкой:
– Ох и силен же наш жених, могучий тур, яростный вепрь! Так измучил молодую жену, что бедняжка едва с постели встала, уж и на ногах не держится – куда там ей рог поднимать!
Гости расхохотались. Желая польстить Морле, они принялись на все лады расхваливать и преувеличивать его мужскую силу; а Вальебург не знала, радоваться ли неожиданному спасению или сердиться на шутника. Ей следовало бы изобразить девичий стыд, но из-за рога в руках она не могла прикрыть лицо рукавом и чувствовала, что стремительно краснеет – не от стыда, а от злости. «Чтоб гурсы вырвали твой язык, старый ты паскудник», – думала она, уперев взгляд в пол. Зачем Эорамайну понадобилось выручать ее? Или, быть может, он хотел угодить не ей, а Морле. Но разве хитрый моддурский карнрогг не понимает, чем грозит эта свадьба и этот союз его прихвостню Вульфсти Хаду? Вальебург не знала, что делать. Рог по-прежнему был тяжел, и держать его становилось все труднее. Пора бы поднести его мужу, как подобает в первое утро, но гости никак не успокаивались – веселились и сыпали шутками еще солонее прежней. Поколебавшись, Вальебург все-таки решилась двинуться к столам. Уходя, она услышала, как за ее спиной Этльхера сказала Этльверд:
– А я-то думаю, чего это она заспалась. Неужто и впрямь так умаялась – с нашим-то господином? А оно вон что! Эта росомаха сообразила, как выставить себя перед гостями невинной девицей, даром что перестарок…
– Что тут скажешь – южанка! – отозвалась Этльверд.
Осторожно ступая с рогом в руках, Вальебург думала только о том, как бы не упустить его во второй раз и не облить своего мужа. Хотя Эорамайн, пожалуй, и это смог бы объявить доказательством невинности невесты и мужской силы Тьярнфи Морлы. Стараясь смотреть только себе под ноги, Вальебург подошла к карнроггскому креслу – на ее счастье собаки, объевшись, разлеглись у очага и больше не рыскали по залу. Вальебург подала рог Морле. Как послушная жена, не смеющая поднять глаз на своего господина, она не смотрела ему в лицо и увидела лишь его узкие сухие руки, покрытые бледными веснушками. Пригубив, Морла вновь отдал рог Вальебург и повел ее вдоль стола. Перед важными гостями они останавливались, кланялись и давали им выпить из рога.
– Испей, любимый гость, эту брагу, что веселит сердце и не туманит голову, – обращался Морла к каждому с одними и теми же словами. – Именем Виату приветствует тебя высокородная хозяйка моего дома.
Следом за Морлой шли два молодых раба в чистых рубахах и принимали от гостей подарки, которыми по обычаю следовало платить за приветственную брагу. К тому времени, когда Вальебург вместе с Морлой добралась до карнрогга Хеди Эйдаккара, у нее разболелась спина – не то от частых поклонов, не то от тяжелых одежд, давящих на плечи. Ей было любопытно посмотреть на знатных эсов из чужих земель, но молодой жене приличествует стыдливо опускать глаза. Вальебург оставалось лишь рассматривать их пояса – расшитые цветными нитями или отороченные мехом, усаженные бронзовыми или серебряными украшениями, плетеные, узорчатые или простые, с цветными каменьями или со звериными когтями и зубами… Под конец у Вальебург уже рябило в глазах. Приняв дары от властителя Карна Фальгрилат, Морла повернул обратно, и Вальебург вздохнула с облегчением. Правда, тщеславной дочери Хендрекки льстило, что гости, стоило ей приблизиться, начинали разглядывать ее точно какую-то диковину, а те, кто сидел дальше, вытягивали шеи, чтобы полюбоваться ее нарядом. Но подолгу стоять на ногах во всем этом золоте и шитье оказалось далеко не так приятно, как ей думалось вначале.
Чуть отставая от мужа, как предписывал обычай, Вальебург вернулась к карнроггскому креслу. Для нее принесли седалище хризской работы, позолоченное, низкое, без спинки – должно быть, как и кресло карнрогга, плод давнего набега на Ан Орроде. Кое-где позолота сошла и обнажилось дерево. Дождавшись, когда сядет Морла, Вальебург тоже села и привычно оперлась на узкий подлокотник – три зимы назад два кресла вроде этого подарили ей и ее сестре послы императора. Вновь начали вносить кушанья. Гости, успевшие отдохнуть после первой сытной трапезы, радостно заволновались. Вскочили ненасытные собаки, закрутились под ногами у рабов. У Вальебург засосало под ложечкой. Вчера из-за приличий она почти ничего не ела, да и сегодня ей не суждено утолить голод: молодой жене следует лишь слегка притрагиваться к пище. С сожалением провожая взглядом яства, она надеялась, что шустрая Майетур прихватит что-нибудь из стряпной и ей, Вальебург, удастся поесть, когда гости удалятся на покой.
Со скуки она стала украдкой рассматривать сидящих за столом, гадая, кто из них кто. Те двое с темно-рыжими волосами и бесцветными, будто бы обсыпанными мукой, лицами – один старше, другой моложе – карнрогги Эорамайны, Гунвар и его племянник Данда. В Руда-Моддур у богатых людей было в обычае оборачивать голову несколькими слоями крашеной ткани, и Вальебург казалось, что моддурские властители заявились на пир в женских уборах. А вон тот молодой, на вид совсем парнишка, с сильно выдающимся вперед носом и скошенным подбородком, наверняка вилтенайрский карнрогг Вульфсти Хад – недаром его кличут «Гунваров Крысёныш». Вальебург знала – он враг ее мужа. Все в этом востроглазом юнце виделось Вальебург отталкивающим. Беседуя со своим покровителем Гунваром, Вульфсти беспрерывно дергался и кривлялся, а его нос чуть шевелился, когда он говорил. С отвращением Вальебург отвела взгляд. Карнрогга Хеди из Карна Фальгрилат она уже видела прежде – тот приезжал к ее отцу и долго гостил у них, пытаясь высватать Вальебург за своего младшего брата Орфина, которого после, зимой, задрал медведь. Владетель маленького слабого карна, зажатого со всех сторон более сильными соседями, Хеди Эйдаккар явно чувствовал себя лишним среди могущественных карнроггов Трефуйлнгида. Высокомерный Хендрекка с презрением говорил об Эйдаккаре, что тому лучше бы родиться женщиной, ибо всю свою жизнь карнрогг Фальгрилата метался от одного хозяина к другому, тщась найти себе защитника. Вспомнив об отце, Вальебург посмотрела на него. Хендрекка Моргерехт сидел по правую руку Морлы, лениво поигрывая полупустым кубком; всем своим видом он показывал, что пренебрегает пусть и обильным, но простым угощением своего зятя. Самоцветы переливались на больших красивых руках Хендрекки. Почувствовав на себе взгляд Вальебург, он повернулся к ней и взблеснул глазами. Наверное, по привычке – Вальебург не помнила, чтобы отец когда-нибудь с ней заигрывал. Странно было думать, что скоро он уедет и Вальебург, быть может, уже никогда с ним не увидится. Она не была привязана к отцу так, как сестрица Эвойн; но сейчас Вальебург отчего-то стало грустно. Провожая ее на брачное ложе, прислужницы причитали и пели надрывные горестные песни, словно Вальебург шла к смертному одру…
– Высокородные эсы, любезные мои гости, – произнес Морла, поднимаясь с кресла. – Я позвал вас сюда не только для того, чтобы разделить с вами мою радость… – по Ангкеиму прокатилась волна одобрительных криков. Голос у Морлы был хрипловатый, негромкий, и большинство пирующих не разобрали его слов, но все равно застучали чашами и захлопали ладонями по коленям. Морла поднял руку, призывая к тишине. – Я позвал вас сюда, дабы предложить вам разделить со мною дело славное и достойное – песню стрел, пляску копий. Я замирился с высокородным Хендреккой Моргерехтом, – Морла поклонился Хендрекке, – взял в жены его прекрасную дочь Вальебург, пряху согласия. Теперь нам, гуорхайльцам, и людям моего почтенного тестя из Карна Рохта больше незачем проливать кровь друг друга, кровь наших новых родичей. Едва минет Дунн Скарйада, мы вместе пойдем войной на мрачный Север, край великанов-гурсов и ведьм…
Вальебург опять заскучала. Морла говорил о войне с Карна Баэф – гости слушали его затаив дыхание, предвкушая новое кровопролитие и новую добычу. Вальебург не хотелось вникать в дела мужчин. Она бы встревожилась, будь ее муж сыном карнрогга или элайром – тогда война означала бы долгую, а то и вечную, разлуку. Но ее хозяин был карнроггом, великим карнроггом Карна Гуорхайль, и даже если Морле вздумается объявить войну всем карна Трефуйлнгида, проливать за него кровь пойдут другие. Осторожно, чтобы никто не заметил, Вальебург скосила глаза на Морлу. Ей давно уже хотелось рассмотреть своего мужа получше, но в спальном покое, в свете жаровни, из-под полуприкрытых век, она видела над собою лишь смутный образ в ореоле светло-рыжих волос – молодой жене не годится разглядывать мужа в первую же ночь. Дома, в Карна Рохта, она слышала от старых работниц, будто в молодости Тьярнфи Морла был хорош собой. Привыкшая к яркой южной красоте, Вальебург ожидала увидеть кого-то вроде своего отца – и вместо этого заметила резкий профиль, тонкий крючковатый нос, глаз с красноватыми, как будто слишком короткими, веками и красноватое же, в прожилках, заостренное ухо. Из-за веснушек лицо Морлы казалось рябым. Вальебург была разочарована. Она отвела глаза; впрочем, даже если бы Тьярнфи Морла оказался необычайно красив, смотреть дольше было бы уже неприлично. Подперев голову рукой, Вальебург стала бездумно разглядывать узор на кубке, из которого пила вместе с мужем. Вполуха она слушала, что говорят карнрогги.
– Это хорошее дело, – веско сказал ее отец. – Дело, достойное верного сына Орнара. Доколе мы будем бездействовать? Доколе будем терпеть, что Баэфская Медведица, эта ведьма, эта нагулянная дочь Тельри Хегирика, дурная жена, держит в своих руках меч Баэф и тем самым наносит оскорбление нам, властителям Трефуйлнгида? Бесстыдно она является на роггарим и возвышает свой голос в мужском собрании, словно она нам ровня, да еще и смеет грозить нам мощью Карна Баэф! Где это видано, чтобы куропатка охотилась на ястребов? Где видано, чтобы Сиг воевала с Орнаром? Веретено не может тягаться с мечом, женщина не может повелевать мужчинами!
Вальебург оперлась на другой подлокотник. Красноречия ее отцу было не занимать – сидеть придется долго. Хендрекка любил покрасоваться перед другими, любил, когда все внимание обращено к нему. Он говорил много, хоть и повторял, по сути, одно и то же: своим непокорством Тагрнбода прогневила богов, а ее элайры, раз они безропотно терпят над собою власть женщины, – плохие сыновья Орнару, а потому убить их и разграбить их земли – не злодейство, а подвиг, достойный всякого восхваления. Другие карнрогги кивали и время от времени бормотали слова одобрения. Они плохо понимали речь южанина, щедро пересыпанную поэтическими метафорами, но Хендрекка говорил то, что всем и так давно известно, и гостям из других карна не приходилось задумываться над его словами.
– Каждый звук из твоих уст, о высокородный Хендрекка, – что драгоценность в сокровищнице, – похвалил его Гунвар Эорамайн. – Ты с твоим высокородным зятем, сыном моей старшей сестры, – Эорамайн поклонился Морле, – рассудил справедливо. Мне тоже не по нутру, что такой большой и богатой землей, граничащей с моим владением, правит эта недостойная женщина, злонравная, точно гурсиха…
– И столь же безобразная! – вставил Вульфсти. Он выкрикнул это неожиданно громко, с дурацкой ужимкой, – зал взорвался хохотом.
– Верно, верно, – Гунвар Эорамайн улыбнулся глазами. – Подумать только, а ведь когда-то, по молодости, я чуть не взял ее в жены! Засылал в Баэф сватов после того, как ее муж, высокородный Гройне Ондвунн, скончался от ран, нанесенных этим проклятым жителем потемок, гурсом Громовым Рыком.
Морла откинулся на спинку кресла. Он тоже улыбался – разговор становился легкомысленным, но Морле, похоже, это было на руку.
– Мы наслышаны о твоем неудачном сватовстве, дядюшка Гунвар, – сказал он. – Тагрнбода велела своим элайрам поколотить твоих послов, посадила их на лошадей задом наперед, а тебе в ответный дар отправила свиные уши, сказав, что ты бледен и никчемен под стать этим отрезанным ушам.
Гости вновь расхохотались. Они слышали эту историю много раз, но она неизменно их забавляла.
Племянник Гунвара Данда, осушив чашу до дна и протянув ее рабу, чтобы тот снова наполнил ее, крикнул, перекрывая хохот:
– Я открою тебе тайну, высокородный Тьярнфи: Тагрнбода оттого так невзлюбила моего почтенного дядюшку, что в Битве Побратимов от его руки пало множество гурсов, родичей Тагрнбоды!
– Вот как? – заинтересовался Хендрекка. – У нас в Карна Рохта слыхали, что карнрогг-ведун Тельри Хегирик водит дружбу с медведями и гурсами. Но о том, что отец Тагрнбоды еще и породнился с ними, мы не слышали.
– Знающие люди говорят, мой высокородный свекор, что мать Тагрнбоды – гурсиха, которую пленили воины Унутринга, – объяснил Морла, наклонившись к Хендрекке через угол стола. – Другие же толкуют, будто Тельри Хегирик сам зачал Тагрнбоду от роггайна гурсов. Вот отчего она непокорна и воинственна, как мужчина: всё потому, что Тагрнбода родилась от двух мужчин.
Вальебург уловила последнюю фразу и фыркнула от смеха. «Ну и бредни!» – подумала она, стараясь скрыть от сидящих за столом, что тоже смеется. Беседа карнроггов стала для нее куда занятней, чем вначале. Ее забавляли сплетни о Тагрнбоде, грозной правительнице Карна Баэф. Для южанки Вальебург северные земли были такими же далекими и загадочными, как владение гурсов Туандахейнен, о котором работницы в девичьей рассказывали страшные сказки.
– И что мы сделаем с Тагрнбодой, когда одолеем Карна Баэф? – нерешительно спросил карнрогг Хеди. В прежние времена, еще под началом Гройне Ондвунна, воинственные баэфцы двинулись на Карна Фальгрилат и захватили большую часть его земель. Тогда молодому Хеди вместе со всеми своими домочадцами пришлось бежать в Руда-Моддур и просить защиты у Гунвара Эорамайна и его старшего брата Райнарига. Эорамайны созвали роггарим, совет властителей Трефуйлнгида, и после, объединившись с Карна Тидд, Карна Вилтенайр и Карна Гуорхайль, пошли войной на Карна Баэф. Эту войну назвали Последней Войной Роггайна: в ту пору четыре карна, прежде входившие во владение роггайна Райнара Красноволосого, в последний раз выступили вместе. Под натиском объединенного войска баэфцы терпели поражение за поражением. Они покинули Карна Фальгрилат и ушли в свои леса, но союзники преследовали их и там, алкая власти над самим Баэфом. Наконец они сошлись в решающем сражении – после его назовут Битвой Побратимов. В разгар боя опустился густой туман, а из тумана появились великаны-гурсы – поговаривали, то карнрогг-ведун Тельри Хегирик наслал туман и призвал гурсов, чтобы ценой жизни своего зятя Гройне Ондвунна и дочери своей Тагрнбоды, которая сражалась, как все северянки, наравне с мужчинами, не пустить захватчиков в Карна Баэф. Недавним врагам пришлось объединиться перед лицом новой опасности – перед свирепыми гигантами-гурсами, раскраивающими черепа и крошащими кости своим огромным каменным оружием. В той битве гурс по имени Громовой Рык нанес карнроггу Ондвунну смертельные раны, и пали многие славные мужи Баэфа, Фальгрилата, Руда-Моддур, Тидда, Вилтенайра и Гуорхайля. В конце концов гурсы отступили, и бывшие враги замирились друг с другом. Они назвали имена Рогатых Повелителей, призвали Виату, принесли друг другу клятвы до саней Орнара и смешали свою кровь, отчего битву эту и стали называть Битвой Побратимов. Карнрогг Хеди Эйдаккар вновь сел в своем Фальгрилате, но с тех пор в сердце его поселился страх перед неумолимым Баэфом. И сейчас, когда карнрогги потешались над Тагрнбодой, Хеди не мог смеяться вместе с ними.
– Что мы сделаем с Тагрнбодой? – переспросил Гунвар Эорамайн. – Это, о высокородный Хеди, решать не нам, а тому, для кого мы отвоюем меч Баэф, – с этими словами Гунвар обернулся к Каддгару Ондвунну – тот сидел среди сыновей Морлы. – Что скажешь, сын доблестного Гройне? – обратился к нему Гунвар. – Какое наказание изберешь ты для своей злодейки-матери?
Все повернулись к Каддгару, ожидая услышать от него исполненную благородного негодования речь вроде той, что произнес Хендрекка Моргерехт. Каддгар посмотрел на своего побратима. Во взгляде Гурсобойцы, героя, не знающего страха, сквозила беспомощность. Всегда угрюмый и молчаливый, Каддгар был не мастак говорить. Он знал, что делать в жестоком сражении – на поле битвы, где звенят клинки и сшибаются щиты, а над головами ревущих в ярости воинов с грозной боевой песнью проносится на своих санях Отец Орнар, и кровавогубый Крада ухмыляется из лиц противников. Там, в крови и ужасе, Каддгар ощущал за спиной стальные орлиные крылья, которыми Орнар одаряет своих любимцев. Но в мирную пору, среди коварных карнроггов, каждый из которых норовит сплести в полотне Трефуйлнгида свой собственный узор и запутать нити соперников, непобедимый Каддгар терялся. Всякий раз, когда Морла заводил речь о Баэфе и об отнятой у него, Каддгара, законной власти, Каддгар начинал тосковать и тяготиться разговором. Он не доверял отцу своего побратима, карнроггу Тьярнфи, в котором угадывал червоточину вероломства, – и стыдился этого, ибо элайру должно слепо идти за своим господином. Его терзали оскорбительные слова о матери Тагрнбоде, на которые не скупились в Гуорхайле и в соседних карна, – они уязвляли и его, Каддгара, честь. И в то же время он гневался на мать за то, что она не желает отдавать ему отцовское наследство Карна Баэф. В душе Каддгар не стремился к карнроггской власти, но Тагрнбода делала ему бесчестье, не подпуская к отцовскому мечу, словно Каддгар все еще неразумный юнец, несмышленыш с нечесаными волосами. Морла без устали твердил ему об этом, и побратим Ульфданг соглашался с отцом. Каддгар привык во всем полагаться на его слово – сам он знал, что не слишком умен. Вот и сейчас Ульфданг пришел ему на помощь:
– Беззаконные дела Тагрнбоды заслуживают самой суровой кары, – проговорил он, успокаивающе сжав руку Каддгара в своей руке. – И все же она – мать моего побратима, давшая ему жизнь. Мстить женщине недостойно свободного эса.
Пирующим понравился такой ответ. «Слова истинного героя Трефуйлнгида!» – говорили они друг другу. Эсы любили простодушного Каддгара. Он был настоящим сыном Орнара – таким, каким тщетно старался выставить себя каждый знатный эс: честным и отважным, без злобы в сердце, яростным вепрем для врагов и преданным псом для своего господина, могучим воином, совершающим подвиги и однако же не помышляющим о власти – лишь о боевой славе и награде от своего карнрогга. Каддгар словно вышел из песен о героях былых времен – отголосок прежней доблести, которой эсы давно лишились, а может, никогда ею и не обладали. Они смотрели на его грубое некрасивое лицо с низкими надбровными дугами, сросшимися бровями и тяжелым подбородком, рассматривали плохо зажившие шрамы – следы гурсовых когтей – и видели в нем не врага, не угрозу, а одного из тех легендарных воинов, о ком поют на богатых застольях.
Мгновенно почувствовав настроение гостей, Морла сказал:
– Моего возлюбленного побратима, высокородного Лайсира, сына карнрогга Атенгела Хада, унесли сани Орнара много зим назад. Я вспоминаю о нашей дружбе, глядя на моего сына Ульфданга и на его славного побратима Каддгара. И пусть злосчастная немощь плоти отняла у меня моего брата, мою отраду, – сердце мое утешается, когда я вижу согласие, царящее между Ульфдангом и Каддгаром. Ради этой великой дружбы я не пожалею ни богатств моих, ни людей, и двинусь на Тагрнбоду, дабы отдать меч Баэф тому, кто должен владеть им по праву рождения.
Карнрогги закивали, соглашаясь с тем, что дело это достойное. Они превозносили бескорыстие Морлы, не подавая виду, что не поверили ни единому его слову, а Морла отвечал на их похвалу скромными словами благодарности, тоже делая вид, будто верит им. Вдруг Вульфсти Хад согнулся пополам и захихикал. «Ох, не могу! Ох, не могу!» – приговаривал он, хлопая ладонью по колену. Гунвар взглянул на Вульфсти, усмехнулся уголками бледных губ, словно что-то понял, и перевел проницательный взгляд на Морлу.
– Что это тебя так развеселило, неугомонный ты парень? – спросил он у Вульфсти громко, чтобы его услышали остальные гости.
– Ох, умру, не могу! Ох, страшно мне, страшно! – так же громко отозвался Вульфсти, утирая слезы. – Боюсь, как бы дядюшка Тьярнфи, почтенный мой воспитатель, вскормивший меня и вспоивший, не заплутал в темноте Дунн Скарйады. А ну как пойдет он с войском на север к Тагрнбоде, а придет на восток ко мне?
Глава 7
В день, когда карнрогги в доме Морлы сговорились идти войной на Баэфскую Медведицу, Эадан и его новый раб вышли из леса. В восточных землях Гуорхайля не было ни лесов, ни холмов; впереди, насколько хватало глаз, простиралась заснеженная равнина. Холодный ветер обжигал лицо. Эадан шел быстро, наклонив голову от ветра. Он потерял в болоте свою овчину и заячью шапку, а у Керхе не оказалось ничего на замену – только короткий, с прорехами, полушубок и женский шерстяной платок. Полушубок не налез на широкие Эадановы плечи, но платок Эадан отобрал и обвязал им голову – все-таки какое-никакое тепло. Душу Эадана согревало другое: за спиной он нес узел с четырьмя бронзовыми умывальными чашами, две из которых были отделаны золотом. В верхнюю чашу он вложил все нашейные кольца, какие смог найти в могильном холме. Одно, самое толстое, Эадан сразу надел на шею, а пальцы унизал перстнями – сейчас они соскальзывали с замерзших рук. Эадан чувствовал себя богатым точно роггайн гурсов. Он думал об остальных сокровищах, что дожидались его в могильном холме посреди Мундейре, – и его переполняло самодовольство. Он сокрушался лишь о том, что не смог забрать из могилы Райнара Красноволосого все его богатства. Эх, были бы у Эадана сани и лошадь!..
Шагая сквозь остервенелые порывы ветра, Эадан стал прикидывать, на что выменяет свое достояние. Жаль, конечно, с ним расставаться, но ему нужен конь и теплая одежда… Хорошо, что оружие у него уже есть – меч с клинком из доброй стали, со змеиным камнем на рукояти. Не послушав раба, умолявшего не выносить из могильного холма меч Ниффеля-балайра, Эадан взял меч с собой. Эадан боялся Ниффеля – а кто в Трефуйлнгиде не боится ужасного жениха Тааль, способного голыми руками разорвать пополам взрослого мужчину? – но Ниффель сейчас при своем отце, на свадебном пиру, и еще по меньшей мере десять дней не покинет Ангкеим. Да и что ему делать на востоке? Так Эадан успокаивал себя, поудобней перехватывая зловещее оружие. Меч словно тянул его вниз – не принимал нового хозяина. Эадану чудилось, что из тьмы Дунн Скарйады за ним следят безумные глаза Ниффеля Морлы. Он оглядывался, но видел лишь кромку леса, серый снежный простор, такой же, как и впереди, и раба, что плелся за Эаданом, прижимая к тщедушной груди какой-то сверток.
Эадан еще раз с сомнением взглянул на Керхе. У Ниффеля-балайра даже раб и тот странный. Украл у хозяина меч, спрятался на болоте; прожил столько зим в могиле – один, в соседстве с духом роггайна Райнара и болотной нечистью… От мысли об этом Эадана бросило в дрожь. Эсы не живут в одиночестве. Отторгнутые своим господином и родичами, они бесславно гибнут – если только им не посчастливится отыскать себе нового хозяина и обзавестись новой родней. И если человек сумел выжить совсем один в дремучем лесу, с ним точно что-то не так. Не иначе как он сдружился с лесной нечистью – а может, он и сам нечисть, принявшая облик хриза. Сколько раз Эадан слышал рассказы стариков о таинственных встречах на затерянных лесных тропках, когда лишь возвратившись домой человек понимал, что повстречался не с приятелем-охотником, не со стариком с соседнего хутора, а с самим Ку-Крухом.
Эадан сбавил шаг и, поравнявшись с Керхе, пригляделся к нему внимательней. Хризский раб, как же! Щуплого, малорослого, издали его можно было принять за подростка, если бы не лицо, прежде времени исстарившееся. Вот и в тех страшных былях порождения Ку-Круха и Ддава представали перед людьми то малыми детьми, то древними старцами. И говорил Керхе чудно́ – вроде и на языке эсов, а на слух будто иноземная речь; все слова в его устах казались чужими и незнакомыми. Нет, не зря Эадан принял его за могильного жителя! Может, убить его, пока не поздно? Керхе уже вывел его из болота, как обещал, а Эадан запомнил путь. Даже если Керхе не один из Младших, все равно неплохо бы от него избавиться. Опасно оставлять в живых того, кто знает о кладе. Вдруг Керхе кому-нибудь проболтается? Рабы любят вести друг с другом пустые разговоры.
Керхе заметил на себе его взгляд.
– Смотришь почему? – спросил он беспокойно.
– Гадаю, что за вещь ты несешь.
Керхе еще крепче прижал к груди сверток, будто боялся, что Эадан его отнимет. Он ответил хризским словом. Потом пояснил:
– Эта… вещь… подобна вашим песням… про дела старых лет. А еще там… нашего бога… наставления. Покажу, после нашли… Покажу после того, как кровать найдем.
Эадан рассмеялся.
– Не кровать, а ночлег, – поправил он. – После того, как отыщем ночлег.
– Ночлег, – повторил Валезириан одними губами.
Книга мешала ему идти. Много лет минуло с тех пор, как ребенком он бежал из дома Морлы через тьму и метель со священной книгой в руках, а она по-прежнему была для него тяжелой. Прежде книга лежала на высокой резной подставке – чтобы читать из нее, Валезириан вставал на цыпочки. Окованная в серебро, написанная киноварью, с прихотливыми узорами на полях и вокруг буквиц из сусального золота, она всегда притягивала жадные взгляды падких на богатство негидийцев. Верно, они воображали, как сдирают со священной книги серебро и переплавляют его в свои грубые, массивные украшения. Для Валезириана же книга была символом эрейского мира, осколком той красоты, о которой с таким воодушевлением рассказывала ему мать, поражая детский разум Валезириана картинами блаженной земли – прекрасного города Тирваниона, где на улицах бьют фонтаны и все дома сложены из белого камня. Однажды они вернутся туда – вернутся, навсегда оставив в прошлом закопченные стены Ангкеима, а вместе с ними – и свою прежнюю несчастливую жизнь среди ненавистных хадаров.
Страстное обещание матери глубоко запало в душу Валезириана. Он помнил о нем даже в ужасе своего последнего дня в доме Морлы, того страшного дня, когда рухнул его маленький мир. Сжимая в слабой руке меч, Валезириан перешагнул через изрубленное тело духовника и снял с подставки священную книгу. Поскальзываясь в крови, не оглядываясь на мертвые тела, лежащие друг на друге, он бросился с мечом и книгой к черному ходу, а оттуда, с трудом взобравшись на лошадь, – в темноту, в снег. Лошадь пугалась незнакомого всадника и завывания метели. Не видя дороги в завихрениях снега, она бросалась то в одну, то в другую сторону, и в конце концов влетела в лес. Ветви деревьев преградили ей путь. Лошадь всхрапнула, встала на дыбы – Валезириан полетел в снег. Когда он опомнился после падения, лошадь унеслась прочь – он слышал ее жалобное ржание, тонувшее в вое ветра. Даже после стольких лет Валезириан не мог забыть эти звуки.
– Эй, хриз, – окликнул его Эадан. – Гляди, вон чей-то дом. Слава Виату, хранящему в пути! А то я уж подумал, эта проклятая пустошь никогда не закончится.
Валезириан вгляделся в темноту и ничего не увидел. Эти негидийцы видят в темноте, как совы… Сделав усилие над собой, он прибавил шагу. Ноги болели – Валезириану не верилось, что он сможет дойти. Он промерз до костей, его била дрожь, от ветра на глаза наворачивались слезы и замерзали на ресницах. С каждым шагом книга становилась все тяжелее. А хадар рядом с ним, казалось, не чувствовал ни холода, ни усталости – шел и шел через заснеженную равнину, и его глаза, прикованные к невидимой для Валезириана точке, горели в темноте тусклым зеленоватым светом.
Спустя недолгое время Валезириан завидел дом, о котором говорил его спутник, а за ним еще два. Впрочем, возможно, это были не дома, а какие-нибудь хлева или амбары. Вокруг темнела ограда; приблизившись, Эадан и Валезириан увидели, что она вся покосилась. «Ну и ленивы же здешние хозяева», – пробормотал Эадан с осуждением. Левая створка низких ворот висела на одной петле, а правой и вовсе не было. Валезириан узнал это место. Однажды, поздней осенью, ему здесь несказанно повезло: собака оказалась всего одна, и та старая; Валезириан так ловко запустил в нее камнем, что она издохла, не успев залаять. В тот благословенный день он унес полголовы сыра, масло и немного вяленого мяса – самая богатая его добыча за все время. Вспомнив о ней, Валезириан согнулся от рези в животе. Он давно ничего не ел. Подворовывать стало опасно: в последние дни всю округу заполонили знатные негидийцы и их слуги, и Валезириан боялся выходить из своего лесного укрытия. Когда в его убежище появился незваный гость, Валезириан возликовал: наконец-то будут ему и теплые одежды, и сапоги, и пища, пусть и ненадолго. В тепле Мундейре все быстро протухало – лишь несколько дней после убийства Валезириан мог без опаски вкушать мертвую плоть; а то, что оставалось, приходилось выбрасывать в болото. Валезириан вдруг явственно ощутил трупное зловоние. Его замутило – больше от голода, чем от чувства отвращения. Если бы он добил этого хадара сразу, а не соблазнился его беспомощностью!..
Не успел Эадан войти в ворота, как из дома донесся остервенелый собачий лай – пес бросался на дверь и прямо-таки задыхался от злобы. Валезириан забеспокоился. Лай означал для него лишь одно – опасность и близкую смерть; наверное, до конца своих дней он будет вздрагивать и покрываться холодным потом при этих звуках… Эадан прошел по грязному снегу через двор и заколотил в дверь кулаком.
– Эгей, хозяева! – закричал он изо всех сил. – Чего притаились? Отворяйте!
Наконец дверь приоткрылась. Старческий голос спросил:
– Кто там бродит во тьме Дунн Скарйады?
Эадан оглянулся на Валезириана.
– Мое имя Грим, – сказал он. – А это мой раб Керхе.
– Один – Гость, другой – Никто. Славные же люди к нам пожаловали, – проворчали из темноты, но дверь все же отворили. Эадан вошел первым, держа наготове меч – на случай, если у здешних хозяев есть дурной обычай убивать незваных гостей. Старик, впустивший его, скользнул мрачным взглядом по мечу и толстому золотому кольцу на шее Эадана; потом перевел взгляд на его узел.
– Встречай гостя, дочка, – крикнул он в полумрак все так же угрюмо и указал Эадану на почетное место у очага. Эадан огляделся. Вдоль почерневших от копоти стен стояли скамьи, за отдернутой занавесью виднелись ряды спальных ниш – должно быть, прежде это был богатый дом со множеством домочадцев. По четырем углам темнели деревянные идолы Рогатых Повелителей, потрескавшиеся от старости. Отец Орнар сердито смотрел на Эадана слепыми глазами. У очага на коленях стояла женщина. Повернувшись к старику, она сказала сварливо:
– Кого это ты привел? Только разбойники да нищие скитаются в гиблую пору Дунн Скарйады.
– Этот человек назвался Гримом, – ответил старик, с кряхтением опускаясь на скамью. – Его золото и доброе оружие свидетельствуют, что наш гость благородный эс.
Не поверив словам старика, женщина придирчиво оглядела Эадана с ног до головы. Потом поднялась с колен, принесла ложку для Эадана и опять вернулась к огню, так и не назвав своего имени и не расспросив гостей о новостях. Старик тоже молчал, протягивая руки к огню. Время от времени он начинал разминать узловатые пальцы – слышался хруст. Эадан тревожно дергал ухом. Ему внушал подозрение этот дом, построенный для многих, но пустой; неприветливые хозяева, исполняющие долг гостеприимства словно бы нехотя; пес, что за дверью захлебывался лаем, а теперь внезапно успокоился – только не отрываясь глядел на чужаков голодными глазами. Эадан опустил узел себе под ноги, а меч положил на колени. По обычаю ему следовало оставить оружие у двери, но Эадан не желал остаться безоружным в незнакомом доме. Хозяева не укоряли его, будто и не замечали клинка.
У ног Эадана зашевелился Керхе. Эадан указал ему глазами на меч, давая понять, что способен защитить их обоих. Назвав его перед людьми своим рабом, Эадан и сам впервые почувствовал себя хозяином. Он не задумывался, зачем ему спасать этого странного хриза, от которого еще недавно хотел избавиться. Керхе его раб, а Эадан – его господин, и если кто-то посягнет на жизнь Керхе, Эадану должно оборонять его так же, как он оборонял бы свое золото или умывальные чаши.
Подошла женщина, молча поставила на стол дымящуюся просяную похлебку. Хозяева не вознесли молитвы Виату и хранителям дома, не сказали Эадану положенных слов приглашения. Не дожидаясь, пока похлебка остынет, они принялись есть, обжигая рты. Старик зачерпывал не в очередь, чавкал, проливал похлебку на подбородок и на ворот некогда дорогой, а ныне потрепанной, свалявшейся от грязи шубы. Валезириан старался на него не смотреть. Борясь с приступами тошноты, он ждал, когда ему позволят доесть. Похоже, этот молодой хадар и в самом деле поверил, что Валезириан его раб. Усадил его на пол у своих ног, как любимого пса… Все существо Валезириана восставало против такого унижения. Он, потомок знатного эрейского рода, родственник – пусть и дальний – самого императора, должен служить этому грязному хадару, рожденному от одного из прихвостней Морлы – элайров, как они себя называют, живущих от подачек и грабежа. Валезириану вдруг пришло на ум, что так, возможно, теперь будет всегда – все в Негидии станут считать его рабом, а у него, Валезириана, не хватит смелости открыть им правду. Его вновь охватила паника. С того дня, как он бежал, испуганный и слабый, из дома Морлы, на него нередко накатывали приступы тревоги и отчаяния – внезапные, непреодолимые. Бывало, Валезириану думалось, что для него нет иного выхода, кроме того, что обрекает бесприютную душу на тяжкие муки. Свернувшись на теплом полу своего жилища – своей темницы – Валезириан смотрел широко раскрытыми глазами во мрак и понимал, что спасение не придет. Далекий белый город, прекрасный Тирванион, так и останется недостижимым волшебным краем из рассказов матери. Один из таких приступов заставил Валезириана попроситься в путь с хадаром. Теперь же Валезириан с ранящей ясностью увидел: ничего не изменилось. Неважно, идет он через заснеженные равнины или сидит в могильном холме посреди болота – все равно ничего не меняется. Ему, однажды попавшему в круговерть голода и лишений, не вырваться на свободу.
– На, ешь, – Эадан протянул ему миску. Сам он не наелся пустой похлебкой без мяса и соли, но все же оставил немного для Керхе. Раз уж Эадан назвался хозяином, то должен кормить своего раба. Он смотрел, как Керхе подскребает остатки, и размышлял, не напрасно ли взял его с собой. Хриз не солгал – вывел его из болота и без труда отыскал тропу, ведущую к восточным землям. Но кем он будет для Эадана в пути – подмогой или, наоборот, помехой? Он слабый, чахлый, как все хризы, – еле доплелся сюда – и на вид будто хворый. Дышит с присвистом… Эадан и жалел, и презирал его одновременно. Какой толк от немощного раба? Но еще вчера Эадан вышел из Ангкеима несчастным изгнанником, у которого нет ничего, кроме собственной жизни; а сегодня у него и меч из хорошей стали, и золотое кольцо на шее, и немалое богатство в узле – и еще большее богатство дожидается его на Мундейре. Может, этот раб приносит удачу? Недаром же с Ниффелем приключилась беда, стоило Керхе сбежать от него.
– Время позднее, – сказала хозяйка, поднимаясь. – Оставайся на ночлег, благородный гость, – добавила она безо всякой охоты.
Она повела Эадана и Валезириана к спальным нишам; старик остался сидеть у огня. Эадан чувствовал спиной его сверлящий взгляд. Поглядывая на старика и на пса, следившего за каждым движением чужаков, Эадан ждал, когда хозяйка устроит ему постель. Вокруг было много пустующих ниш, но она, похоже, поскупилась на отдельную постель для раба. Это обидело Эадана. Здешним хозяевам следовало бы проявить больше уважения к человеку, владеющему мечом из хорошей стали и целым, не разломанным на части, золотым нашейным кольцом. Возгордившись, Эадан не вспоминал о том, что он изгнанник. Мысль об изгнании отошла куда-то далеко, на самый край сознания. Еще в могильном холме, проснувшись, он заплел волосы и теперь ощущал себя зрелым мужем, достойным почета. Свысока смотрел он на приютивших его бедняков. Когда-то, верно, их род был богатым и уважаемым – что ж, то время прошло. Эсы рождаются и умирают, добывают себе славу и теряют ее, богатство их множится, а потом умаляется – всё делается по воле богов. Лукавый Этли осыпал Эадана милостями – значит, Эадан заслужил благоволение Рогатых своей храбростью и верностью долгу. Хозяева же этого дома обнищали – значит, их род прогневил богов, и все они заслуживают лишь презрения.
– Пусть твой раб ляжет на скамье у очага, – предложила женщина.
Эадана насторожил ее голос: она будто хотела сделать так, чтобы они с Керхе спали в разных местах, далеко друг от друга.
– Хороший хозяин держит свое добро при себе, – ответил он осторожно.
Женщина поколебалась.
– Как пожелаешь, – наконец согласилась она. Бросив на Эадана неприязненный взгляд, хозяйка резко повернулась и вышла, задернув за собой занавесь.
* * *
Валезириан лежал без сна. Тело ныло от усталости: он еще никогда не проходил такие расстояния зимой. На лоб и грудь наваливалась тяжесть, было трудно дышать. Из-за тесноты спальной ниши Валезириан волей-неволей прижимался к Эадану. Непривычная близость казалась Валезириану неприятной. Он отвык от людей. Ему случалось их видеть, когда он выходил на промысел, но в те дни Валезириан всеми силами старался избежать встречи – люди были для него такой же опасностью, как и их собаки или волки в лесу. Теперь же он словно стал частью внешнего мира, которого прежде сторонился, и это нисколько его не радовало. Его жизнь на болоте была полна лишений, и не было причины скучать по ней. Но все же ему хотелось вернуться, сделать так, чтобы все обратилось вспять, чтобы не было ни молодого хадара, ни предстоящей им долгой дороги, ни этого унылого пустого дома с угрюмыми хозяевами. Так, чтобы открыть глаза – и вновь увидеть над собой земляной потолок могильного холма, а всё, что случилось с ним за прошедшие дни, оказалось бы просто странным сном. Валезириан не любил перемен. Они не меняли его жизнь к лучшему, а напротив, приносили новые страдания. Одинокими ночами в могиле Валезириан повторял себе – и в ушах его звучал голос матери – что однажды он непременно увидит белые стены Тирваниона; он преодолеет все трудности, пройдет через земли хадаров, отделяющие его от прекрасного города, и, наконец, возвратится на милую свою родину, отнятую у него Морлой. Настоящую родину, ибо Карна Гуорхайль, где он родился, Валезириан вслед за матерью считал всего лишь временным пристанищем. На деле же он не предпринимал ничего, чтобы достичь желанного Тирваниона, – не мог и в глубине души не хотел. Возвращение в Тирванион было мечтой, навязанной ему матерью, а сам он желал… нет, не желал, но нуждался в том, чтобы ничего не менялось, чтобы все оставалось как есть. Пораженный в самое сердце тем ужасом, что довелось ему пережить много лет назад, Валезириан теперь жаждал только покоя.
Снова и снова перед его мысленным взором всплывали картины того страшного дня. Незадолго до этого один из сыновей Морлы – Валезириан не помнил его имени – завладел какой-то новой землей. Близился негидийский праздник. Хадары задабривали своих языческих богов жертвами и молитвами, дабы те помогли им пережить зиму. Морла впервые не стал устраивать пиршество – последнее пиршество перед голодной зимней порой, – а отправился на праздник к сыну в это его новое владение. Вместе с Морлой поехал весь его двор: сыновья и военачальники, их жены, прихлебатели всех мастей… Дом опустел, и странно было маленькому Валезириану слушать тишину, пришедшую на смену несмолкающему шуму. Несколько воинов и работников, что остались приглядывать за домом, ходили сонные и растерянные. Целыми днями они валялись у огня в пустом гулком зале, болтали и пили. Они не опасались нападения: у негидийцев не принято воевать зимой. Зимой воинственные хадары думают не о богатствах соседа и не о ратной славе, а лишь о том, чтобы дожить до весны.
В один из таких тягучих, дремотных вечеров снаружи раздался топот коней. Защитники Ангкеима похватали мечи и топоры и выбежали из дома, спросонок спотыкаясь о высокий порог. Их тревога оказалась напрасной: то вернулся второй сын Морлы Ниффель вместе со своими дружинниками. Те, кто остался в Гуорхайле, обступили их с расспросами – всем хотелось узнать, каково там на пиршестве, много ли гостей приехало и обильно ли угощение. Работники сетовали, что им приходится куковать здесь вместо того, чтобы как все веселиться на пиру. Однако Ниффель и его люди не стали задерживаться ради пустых разговоров: они спешили исполнить волю Морлы. Мрачно они прошли через бражный зал к клетушке, пристроенной для хризской жены их господина – гордая чужестранка не пожелала жить с остальными женщинами дома Морлы – и, отдернув полог, обнажили мечи.
Валезириан увидел их сквозь узкую щель под крышкой сундука. Мать, терзаемая непонятными для Валезириана страхами, частенько заставляла его сидеть в этом ненадежном укрытии. По одной только ей ведомой причине она вдруг настораживалась, поднимала голову от книги или замолкала на полуслове молитвы, и с мучительным вниманием вслушивалась в шум, доносящийся из бражного зала. Валезириан ясно помнил – словно видел свою мать еще вчера – каким тревожным и пугающе-застывшим становилось ее узкое бледное лицо, как вся она замирала, точно неживая, – лишь на длинной шее билась голубая венка… Это всегда пугало Валезириана. Ему мгновенно передавалась ее тревога. Он залезал в сундук, как она приказывала, и подолгу сидел там, скорчившись, пока мать не решала, что опасность миновала. Бывало, ему приходилось сидеть в сундуке всю ночь или весь день, прислушиваясь к биению сердца и покалыванию в затекших ногах. Мать гневалась, если он просился наружу. Страшась за его жизнь, защищая от всего мира, Исилькратис измучила сына своей тревожной любовью. Порой, вспоминая прошлую жизнь, Валезириан думал, что если бы не мать и не вечные ее страхи, с самого рождения наполнявшие его бытие, то сейчас не было бы этих наплывов беспричинного ужаса, этой паники, вдруг хватающей за горло, этой острой боли, вдруг пронзающей сердце.
Но в конце концов мать оказалась права: из-под крышки сундука Валезириан увидел, как в их покое появились хадары – в кожаных доспехах, с обнаженными мечами в руках. Один из них сделал неуловимое движение – и прислужница матери упала ему под ноги. Вначале Валезириан не понял, что произошло. Не поняли и другие. Несколько долгих как вечность мгновений стояла тишина – а потом все пошатнулось, замелькало, понеслось куда-то. Поднялся крик – Валезириан никогда такого не слышал. Мечущиеся тела заслонили от него хадаров. Хадары перекликались друг с другом, но их голоса было почти не различить за грохотом, топотом, визгом женщин и воплями умирающих. Валезириан отпрянул от щели. Вжавшись спиной в заднюю стенку сундука, он смотрел в темноту и ждал, когда хадарские клинки доберутся и до него.
Всё закончилось так же неожиданно, как началось. Больше никто не кричал. Раздавались только грубые голоса хадаров – те были чем-то недовольны. Валезириан, и без того не слишком хорошо знающий язык негидийцев, от страха никак не мог разобрать, о чем они говорят. Кажется, они роптали, что Морла запретил им забирать себе богатства хризов. Если не присвоить их сейчас, все эти бесценные сокровища исчезнут в карнроггских сундуках… Им ответил резкий голос – Валезириан узнал властные интонации Ниффеля. Не так давно Морла позволил ему собрать вокруг себя собственных элайров – небывалая честь даже для старшего сына карнрогга, не говоря уже о втором сыне. Ниффель догадался, что совсем скоро отец объявит его наследником в обход старшего брата Ульфданга. Рыжий, желтоглазый, походивший на своего отца и лицом, и нравом, Ниффель ездил повсюду со своими буйными элайрами и никому не оказывал почтения. В Гуорхайле его уже начали величать молодым карнроггом. Ниффелю казалось, будто он взлетает в головокружительные высоты и с этой вышины взирает на жалких людишек, копошащихся внизу. И поручение отца, которое он только что исполнил, не оставив в живых ни единого хриза, лишь еще одна ступень к его будущему герроду – влиянию и почету, к которым стремится каждый знатный эс.
Всего этого Валезириан не знал. Он услышал голос самого злобного (как всегда казалось Валезириану) сына Морлы и понял, что сейчас примет мученическую смерть – подобно благочестивым отрокам, о которых читала ему мать. Валезириана охватило смятение. Он боялся предстать перед Господом. Вдруг суровый Судия, безжалостно карающий грешников, сочтет его недостаточно благочестивым? В памяти Валезириана вмиг пронеслись все его детские прегрешения. Когда Создатель вопросит его, почему Валезириан не прочел главу из священной книги, как велела мать, а лишь шевелил губами, притворяясь, что читает, – что Валезириан ответит? Как оправдается? Валезириан беззвучно заплакал. Мать не уставала напоминать ему о посмертном воздаянии. Она показывала Валезириану картинки в своих книгах, изображающие разнообразные муки грешников, и с набожным удовлетворением замечала, как от страха бледнеет лицо ее впечатлительного сына.
Заливаясь слезами и жалея себя, Валезириан не сразу заметил, что хадары ушли. Их голоса доносились теперь из зала – свершив злодеяние, убийцы сели поесть и передохнуть у очага. Они болтали, стучали ложками и перешучивались с рабынями – Валезириан слышал заливистый женский смех. Собравшись с духом, он приподнял – не без труда – крышку сундука и выглянул.
Драгоценные весериссийские ковры, устилавшие пол, – густо-зеленые, малиновые, желтые – намокли от крови. Кровь была повсюду – широкими веерами алела на стенах, блестела на опрокинутом столике и табуретах, расплывалась по бархату постели, засыхала на мертвых лицах. Все было перевернуто, запачкано, осквернено чужими руками. В покое было тесно, мертвые тела лежали друг на друге. Валезириан узнал свою толстую кормилицу – она так и умерла на четвереньках, пытаясь залезть под высокое хозяйское ложе. Нелепость ее позы покоробила Валезириана. Все вокруг было нелепым, неправильным, все находилось не на своих местах – это ранило Валезириана больше, чем гибель людей. Молодая прислужница лежала ничком; ее подол задрался, обнажив смуглые бедра. Валезириан поспешно отвел глаза. В книгах матери смерть была совсем другой…
Стараясь не зашуметь и не привлечь внимание негидийцев в зале, Валезириан выбрался из сундука. Затекшее тело не слушалось, ноги будто налились свинцом – Валезириан едва переставлял их. Прихрамывая, он медленно двинулся через покой, сам не зная, куда идет. Тут он и увидел его – Ниффель Морла лежал без движения среди убитых им хризов. Здесь было слишком много мертвых, чтобы вглядываться в каждое лицо. Если бы Ниффель не начал вдруг подергиваться, Валезириан его бы и не заметил. Валезириан отшатнулся: ему показалось, то ожил мертвец. Глаза Ниффеля закатились – Валезириан увидел красноватые белки, – руки и ноги дергались будто бы сами по себе. Исказившееся лицо потемнело и стало страшным, точно из Ниффеля выглянул сам владыка преисподней. Ужас парализовал Валезириана. Ему подумалось, что Ниффель одержим и совсем скоро из него исторгнутся полчища демонов…
Много позже, вспоминая тот день, он понял, что Ниффель был болен. Как-то Валезириан слышал от духовника матери об этом неизлечимом недуге: человек неожиданно падает на землю, лишается чувств, все тело его сотрясают судороги, а челюсти сжимаются так, что несчастный, бывает, прокусывает себе язык. Верно, Ниффель знал о своем изъяне и скрывал его от других. Могучие негидийцы презирают хворых. Узнай они о тайне Ниффеля, ни один из них не потерпел бы его власти над собою. Предвидя приближение болезни, Ниффель выпроводил дружинников из покоя. Вот почему они не нашли Валезириана – просто не успели. Иначе как объяснить, отчего алчные хадары не заглянули первым делом в сундук? И на что надеялась мать, пряча его там? Валезириану не верилось, что она была настолько наивна. Возможно, она просто обманывала себя, создавая иллюзию защищенности. Ей страшно было думать, что ее сын обречен, а сама она бессильна его защитить. Когда Валезириан вспоминал мать, на сердце у него становилось еще тяжелее.
Рядом заворочался Эадан. Устраиваясь поудобнее, он уперся локтем Валезириану в бок. Валезириан покосился на хадара. Из-за ветхой занавеси проникал свет очага, и Валезириан смутно различал в полутьме широкое лицо Эадана. Тот спал не выпуская из рук меч. Ногу он положил на узел со своим богатством, чтобы хозяевам не удалось обворовать его, пока он спит. Валезириан прислушался к дыханию спящего. Как может он спать в такое тревожное время? Ведь не только Валезириану грозит смерть от рук Морлы и его приспешников – Эадан сам изгнанник, объявленный вне закона, и каждый человек в землях Морлы вправе убить его и не платить виры. Еще недавно этот молодой хадар горько рыдал, жалуясь на превратности судьбы и несправедливый суд своего господина – а теперь преспокойно спит как ни в чем не бывало! «Дикари», – подумал Валезириан с презрением. Он не желал признавать, что спокойствие спутника передается и ему, Валезириану, – и лечит его измученную душу. С тех пор, как погибла мать, Валезириан уже позабыл, каково это – чувствовать себя защищенным. Осторожно, чтобы не разбудить Эадана, он повернулся набок и опустил голову ему на плечо. За занавесью трепетал мягкий свет. Грудь Эадана размеренно вздымалась. Прикрыв веки, Валезириан начал засыпать.
В полусне он слышал приглушенные голоса – похоже, хозяева не собирались укладываться. О чем можно спорить так долго, да еще и ночью? Вязкая усталость разливалась по телу Валезириана, но он заставил себя вынырнуть из сна. Хозяева вели себя странно – даже Валезириан, плохо знающий обычаи эсов, почувствовал это. Они что-то замышляли. Валезириан приподнялся, выбрался из спальной ниши и, ступая бесшумно, как он умел, подошел к занавеси. Он вдруг обнаружил, что держит в руках священную книгу, которую прежде, во сне, прижимал к груди. Как бы не уронить ее… Перехватив книгу покрепче, Валезириан прислушался.
– Чего тут сомневаться? Заколем их – и дело с концом, – говорила женщина вполголоса. – Ты же их видел – один хриз, другой оборванец… С золотым кольцом на шее, в перстнях, а одежда на нем совсем худая. Голову обвязал женским платком… Говорю тебе, он или изгнанник, или вор. Не иначе как этот бродяга убил знатного эса и присвоил себе его драгоценности. Никто не станет мстить за такого! А может, карнрогг еще и наградит нас…
Ее собеседник долго молчал. Наконец он возразил с сомнением в голосе:
– Они наши гости. Боги разгневаются на наш род, если я нарушу закон гостеприимства…
– Мы выполнили долг хозяев: они уже вкусили пищу в нашем доме, – перебила его женщина раздраженным полушепотом. – Боги… Боги и так оставили нас. С тех пор, как умер мой Крадстейн и этот змей, этот ненасытный ворон, Турре Фин-Эрда, присвоил наши поля, мы знаем лишь тяготы и унижения. Неужели ты не понимаешь, отец, что нам не пережить эту зиму? Еды у нас осталось лишь на завтрашний день… Турре больше не даст нам в долг. Он только того и ждет, чтобы мы сдохли от голода – тогда он сможет забрать себе нашу усадьбу и последний клочок земли. Убьем этих бродяг, выменяем их золото на зерно – дотянем до весны, а там, глядишь, и посеяться сможем…
– Не лежит у меня сердце к этому злодейству, – вздохнул старик, – а всё же ты права. Погоди, возьму нож… Сам пойду. Не хочу, чтобы древний обычай нарушила твоя рука… Уж лучше пусть Рогатые покарают меня. Я старик, от меня всё одно нет проку…
Валезириан кинулся к спальной нише. Он расслышал не всё и не всё сумел себе перевести, но понял, что хозяева замыслили что-то против него и Эадана.
– Не надо спать! Не надо спать! – зашептал он Эадану – от волнения Валезириан не мог вспомнить, как на языке негидийцев будет «проснись». – Эти люди думают плохое! Они хотят делать плохое над тобой!
Эадан вскочил с постели, будто и не спал вовсе.
– Сейчас я сделаю плохое над ними, – повторил он слова Валезириана, хватая свой узел. – Держись позади меня, хриз.
Он отдернул занавесь, ненароком сорвал ее, и решительно двинулся к очагу. Отблески пламени играли на его мече, окрашивая клинок красным, словно меч уже напился крови.
– Что за гурсовы времена настали, если хозяева замышляют зло против гостя? – бросил Эадан старику.
Тот попятился. В его подслеповатых глазах отразился страх.
– О чем ты говоришь, гость? Ты напрасно меня обвиняешь… Я всего лишь немощный старец. Для меня давно уж миновали дни кровавой потехи, – он выставил перед собой дрожащие руки, словно пытаясь защититься. – Прошу, не убивай меня, благородный воин. Пожалей мои седины. Я не таил против тебя никакого зла…
Вдруг краем глаза Валезириан заметил какое-то движение. Схватив прислоненное к стене копье – верно, оставшееся от этого ее умершего мужа, Кродстина или как его там, – хозяйка с криком бросилась на Эадана. Долю мгновения Валезириан видел рядом ее побагровевшее лицо, искаженное решимостью и мукой. Сам не заметив как, он ударил ее книгой – женщина издала полухрип-полустон и рухнула на пол. Вокруг ее головы начала разливаться маслянистая лужа.
– Файха! – простонал старик. Он упал на колени и почему-то пополз к ней на четвереньках. – Файха, дочка, – звал он ее, будто не понимал, что она уже не ответит. Валезириан с тоской подумал, что теперь к терзающим его картинам прошлого прибавится еще и эта: жалкий старик, ползущий к убитой женщине.
Эадан развязал свой узел, выбрал серебряное нашейное кольцо потоньше и, отломив от него кусок, бросил обломок старику.
– Бери, – сказал он, – и благодари меня за щедрость. Никто не дал бы тебе такого большого выкупа.
Старик подобрал обломок, посмотрел на него и заплакал.
– О злосчастная моя судьба, – причитал он, раскачиваясь. – В былые дни я бы не продал жену моего единственного сына за серебро убийцы. Не серебром, а кровью взял бы я с него плату! Где же богатство мое и сила? Где мой сын, гордость моего рода? Где невестка моя, хозяйка ключей моего дома? Все исчезло, унеслось на слепых конях ночи. Угасла слава моего рода. Пали стада, погиб урожай, угли остыли в моем очаге. Я нищий, одинокий старик. Горести и унижение – вот моя доля отныне.
Глава 8
Эадан и Валезириан брели по дороге мимо пустых полей, лежащих под слоем снега. Усадьба, где они едва избегли смерти, скрылась из виду. На смену непроглядной тьме явились серые дневные сумерки. Пошел мелкий колючий снег. Порывистый ветер пригоршнями бросал его в лица путников, закидывал снег им за шиворот. Эадан бормотал себе под нос проклятия. Он был не в духе. Он не выспался, не наелся как следует – в животе бурчало от недоваренного проса – и, ко всему прочему, он жалел обломок нашейного кольца, опрометчиво отданный старику. Тогда Эадану хотелось совершить нечто впечатляющее, великодушное – так и подобает поступать благородному эсу, – но теперь его обуяла жадность. Видит Орнар, этот старик заслуживал стали, а не серебра!
Словно догадавшись о его раздумьях, Керхе крикнул, перекрывая свист ветра:
– Может… старого убить надо еще? Этот способен рассказывал… Нет, не так. Он способен рассказать… о нас.
Эадан мотнул головой.
– Я сам расскажу об убийстве, как только нам встретится какой-нибудь хутор.
– Расскажу?! Для что?! – изумился Керхе.
Эадан посмеялся над его глупостью.
– Вам, хризам, не понять, – сказал он с сознанием собственного превосходства. Потом все-таки снисходительно объяснил: – Нужно объявить людям об убийстве сегодня же, иначе это будет считаться бесчестным умерщвлением, – помолчав, он признался: – Да и что его скрывать? Если бы у той женщины и старика была сильная родня, разве бы они сидели, голодные и нищие, в пустом доме? Их родичи или все перемерли, или отвернулись от них. Никто не потребует у меня выкупа за убийство – серебром ли, кровью ли. Я дал старику столько, сколько не дают и за мужчин – не то, что за женщин, – добавил Эадан с сожалением. – На землях Морлы я и так уже изгнанник. Что мне терять?
Некоторое время шли молча. Керхе опять отстал – оглянувшись, Эадан увидел, что тот ковыляет, прихрамывая, далеко позади. Эадан рассердился. Ему надоело останавливаться через каждые десять шагов, дожидаясь медлительного раба. Что за дурень этот Ниффель! Взял себе в услужение слабого, нерасторопного хиляка. И полдня пройти не может, чуть что задыхается. Бросить бы его тут, на дороге, – меньше было бы хлопот… Эадан замедлил шаг и вновь посмотрел на Керхе. Несчастный, похоже, тащился из последних сил. И как этот задохлик становится таким быстрым и ловким, когда нужно кого-то убить? Наверно, Ку-Крух и Ддав и правда помогают ему. А может, хризов хранит их бог, не зря же Керхе несет с собой эту их священную вещь. Эадан слышал, что хризский бог очень силен и дает свою силу тем, кто ему по нраву. Выходит, южане не прогадали, когда стали дарить ему золото и самоцветы. Возможно, этот бог поможет и Эадану? Вон ведь, в том доме Керхе дважды спас ему жизнь: сначала предупредил Эадана об опасности – и старик не успел зарезать его в постели, а после Керхе защитил Эадана от предательского удара копьем. Конечно, Эадан обошелся бы и без него, но все же… Чем больше богов на твоей стороне, тем больше твоя удача – так говорят люди.
Беззлобно выругавшись, Эадан вернулся, забрал у Керхе тяжелую книгу, сунул ее в свой заплечный узел к остальным сокровищам, а после закинул руку Керхе себе на шею и почти понес его на себе. Тот только и успевал перебирать тощими ногами. «Ну и ну, – думал Эадан. – Этот Ддавов сын хотел меня убить и сожрать, пристукнул так, что до сих пор голова гудит, – а я еще и помогаю ему идти, словно раненому в бою побратиму!..» Эадан оправдывался перед собой тем, что хочет угодить хризскому богу. Этот бог явно благоволит к Керхе, и если Эадан ему поможет, то и сам получит часть его удачи. На деле же ему попросту жаль было терять своего раба. У Эадана еще никогда не было рабов; он и не чаял, что они у него когда-нибудь появятся – а тут такое везение. Ему понравилось быть хозяином. Тот, кто кем-то повелевает – пусть даже и немощным хризом, – тот даже в изгнании сохраняет свой геррод, уважение к себе. Обидно лишиться раба так скоро, еще толком не повластвовав.
Керхе показался ему легким, как ребенок. Эадан волок его на себе без особого труда. Куда больше хлопот доставлял ему меч Ниффеля, который так и норовил выскользнуть из замерзших пальцев. Когда уже он признает Эадана своим хозяином? Нрав у меча не лучше, чем у самого Ниффеля. Говорят, даже в юности, еще до того, как стать балайром, Ниффель был настоящим побратимом Крады, бичом Гуорхайля. Никому не было защиты от его бесчинств. Со своими разбойниками-элайрами он налетал то на один, то на другой богатый дом, ел там и пил, разоряя хозяев и нанося обиды их женам и дочерям. Ничьих увещеваний не слушал Ниффель – ни тех, кто старше него, ни тех, кто знатнее. Ходили слухи, что даже карнрогг Морла, отец Ниффеля, уже не мог управиться со своим необузданным сыном. Сам Эадан не помнил Ниффеля до жениховства – он вообще плохо помнил свое бестолковое детство. Но уже после, околачиваясь в стряпной, Эадан наслушался сплетен о Морле и его сыновьях. Рабы и работники любили Эадана и болтали при нем не таясь. Они судачили о своих хозяевах, гадали, что заставило Ниффеля выбрать страшную участь – обещать себя Безглазой Женщине, и шепотом рассказывали небылицы о том таинственном дне, когда Ниффель расправился с хризской женой Морлы и стал безумным балайром. Теперь оружие, когда-то принадлежавшее Ниффелю, пугало Эадана. Ему мнилось, будто оно обладает собственной волей. Что, если в опасный момент оно предаст нового хозяина? Избавиться бы от него, а жалко. Меч из хорошей стали – большая ценность, раздобыть другой будет не так-то просто. Может, меч вовсе и не желает возвращаться к Ниффелю. Ему, верно, надоело служить этому злодею, не чтущему богов и древний Закон, – оттого меч и позволил рабу украсть себя.
Удовлетворенный этим объяснением, Эадан немного успокоился. Меч уже не казался таким неудобным. Скоро Эадан перестал думать о нем и принялся глазеть по сторонам. На равнине не за что было зацепиться взгляду. Эадан заскучал. Он шел и шел, поддерживая Керхе, а пустые поля всё не кончались. Снег прекратился. Ветер задул в спину, идти стало легче. Эадан начал напевать песенку про роггайна гурсов – под нее хорошо идти. Валезириану песня показалась заунывной. В отличие от эсов, его не увлекало перечисление всевозможных сокровищ, сокрытых в пещерах Туандахейнена. Он устал от долгого пути, от однообразных видов вокруг, от холода, из-за которого каждый вдох становился мучительным; устал от того, что случилось с ними в том проклятом доме. Валезириан задыхался. У него болело в груди, кололо в боку, в плече; каждый шаг давался огромным напряжением сил – и телесных, и душевных. Если бы Эадан не помогал ему идти, Валезириан давно бы уже лег в снег, свернулся, подтянув колени к груди, и под завывания ветра уснул навсегда.
Он не мог понять, отчего этот негидиец ему помогает. Неужели и правда испытывает благодарность за спасение? Валезириану не слишком верилось в это. Скорее всего, он просто не хочет терять часть своего достояния. Валезириана оскорбляло, что его считают вещью, такой же, как меч, кольца или чаши – только куда менее ценной. Когда Эадан объяснял ему обычаи своего народа, в его тоне сквозило пренебрежение. «Вам, хризам, не понять» – сказал он. «Да, ты прав! – хотелось выпалить Валезириану. – Мне никогда не понять ваших диких хадарских обычаев! Ибо образованному, высоконравственному человеку никогда не постичь, почему убийство, о котором безо всякого раскаяния объявляет убийца, уже не считают бесчестным! И как вообще можно делить убийства на честные и бесчестные, этого мне тоже не понять! И как смеешь ты, невежественный дикарь, не знающий ничего, кроме грязного хлева, в котором ты родился и вырос, судить о том, что я могу или не могу понять…» Разумеется, Валезириан промолчал. Неблагоразумно сердить того, кто сильнее тебя. Впрочем, даже если бы Валезириан не страшился разозлить своего спутника, то все равно не сумел бы выразить все это на чужом, полузабытом языке – и невысказанная обида точила его сердце.
Дневные сумерки вновь превратились в вечерний мрак, когда Эадан и Валезириан увидели хутор, стоящий невдалеке от дороги. Дома и хозяйственные постройки окружала высокая ограда, перед нею ощетинился частокол, отчего хутор можно было принять за эсскую крепость-скагу. У зажиточных фольдхеров было в обычае укреплять свои подворья, иной раз более богатые, чем подворья карнроггов. Под защитой крепких стен фольдхеры не боялись своих алчных господ или их голодных дружинников, вечно рыскающих в поисках поживы. Напротив, нередко случалось так, что какой-нибудь особенно богатый фольдхер навязывал карнроггу свою волю. Владетели мятежного Бедар-ки-Ллата, самого обширного фольда Трефуйлнгида, издавна держались с карнроггами как с равными; лишь на словах они называли себя людьми Моргерехтов – и даже, бывало, воевали с ними. Колотя ногой в ворота, Эадан надеялся, что хозяин этого хутора так же, как и бедарские фольдхеры, не чтит своего карнрогга – иначе им с Керхе придется туго. Известное дело – тот, кто дает приют объявленному вне закона, идет против воли карнрогга и сам рискует стать изгнанником. Здешнему фольдхеру ничего не стоит убить Эадана и послать кого-нибудь в Ангкеим за наградой. У такого богатого человека, верно, много крепких людей; и псы злые – вон как расходились, впору оглохнуть…
Из-за ворот послышалась брань и визг: кто-то шел через двор, пинками отгоняя собак. Спустя короткое время над воротами показалась голова в капюшоне.
– Кого там принесли Старшие? – невежливо крикнули Эадану.
Эадан поморщился. Недаром говорят: у богатого хозяина и слуги мнят себя сыновьями карнрогга.
– Мы усталые путники, – ответил он, задрав голову. – Имя мне Грим, а это Керхе, мой раб. Хотим погреться у очага твоего достопочтенного хозяина.
Работник окинул оборванцев подозрительным взглядом.
– Ладно, входите, – буркнул он. – Сами знаете, хутор Турре Большого Сапога стоит у дороги – значит, долг нашего хозяина принимать всякого, кто постучится в его ворота. Однако же неучтиво входить в чужой дом, не назвав настоящего имени.
– Мое настоящее имя и имена моих предков я назову лишь твоему хозяину, достопочтенному Турре, – заявил Эадан. Работник его не услышал: он спускался со стены, чтобы открыть ворота.
Следуя за работником, они прошли через двор, мощеный плахами из расколотых бревен. В нос Валезириана ударил теплый запах скота. Валезириан заволновался: для него этот запах был связан с людьми, а значит, с опасностью. Прежде он никогда не отваживался заходить на такие большие хутора. Он жался к Эадану, озираясь, как осторожный зверек, и с опаской косился на собак – крупных, откормленных, с густой лохматой шерстью. Они бежали за чужаками, но не трогали их: понимали, что это гости, а не враги. До хозяйского дома пришлось идти недолго. К большому крепкому строению с четырехскатной крышей лепились бесчисленные пристройки, жилые и скотские, отчего дом расползался по двору как уродливый нарост. Перед домом, под навесом, стояли сани, множество лыж и снегоступов. Хутора, которые Эадан видел прежде, не шли ни в какое сравнение с этим богатым подворьем. Но после карнроггской усадьбы, где он вырос, после великолепного бражного зала Ангкеима, двор фольдхера Турре показался Эадану грубым и грязным.
Согнувшись под низкой притолокой и перешагнув высокий порог, он очутился в духоте и запахе людских тел. Наступило время вечерней трапезы; все, кто жил под рукой Турре – домочадцы, работники и рабы – собрались вокруг своего хозяина, отчего в доме было не продохнуть. Люди сидели на лавках или чурбаках. Хозяйские дочери и жены хозяйских сыновей, медлительные, как все женщины фольдхеров, разносили хлеб, кувшины с ячменным пивом и большие миски с густой, наваристой кашей. Пахло горохом и репой. Хозяйка – дородная, дебелая, в некрашеных, но добротных одеждах – сидела рядом с мужем. Зорко подмечая все, что делается в ее доме, она покрикивала то на зазевавшихся невесток, то на дочерей, а то и на мужчин-работников, которые слишком уж расшумелись. Сам Турре Большой Сапог, такой же широкий и крепко сбитый, как и его жена, неспешно ел, макая в горшок ломоть черствого хлеба. Он проделывал это с таким достоинством, словно совершал нечто необычайно важное. Заметив, как открылась и вновь затворилась дверь, Турре сказал, вглядываясь в сумрак:
– Кто там еще? Если это опять жена Крадстейна, гоните ее в шею. Попрошаек мы не жалуем, – и вновь занялся своей кашей.
– Эта женщина больше не будет докучать тебе, достопочтенный Турре, – произнес Эадан, выступив в круг света. – Мой раб Керхе убил ее, когда она пыталась убить меня. Я уже уплатил виру ее свекру – щедрую виру серебром.
Турре жевал хлеб, разглядывая чужака. Он не удостаивал Эадана ответом. Другие люди тоже повернулись и все как один вперили в Эадана и Керхе враждебные и в то же время любопытные взгляды. Работники Турре ждали, что скажет хозяин. Наконец тот хохотнул, подтолкнув жену локтем:
– Ты погляди, хозяйка, какие важные гости забрели в наш бедный дом. Что, сынок, золотое кольцо у мертвеца забрал, а одёжу с него снять позабыл? Или другие вороны-элайры подоспели, тебя, вороненка, от падали отогнали? – фольдхер утробно рассмеялся – горшок с кашей, который он поставил себе на живот, закачался.
Людям понравилась шутка хозяина. Посмеиваясь, они говорили друг другу:
– Эк расчихвостил его наш кормилец! У Турре Большого Сапога на всё шутка найдется!
Эадан стоял под их насмешливыми взглядами не зная, как быть. Другие фольдхеры, живущие по соседству с карнроггской усадьбой, получившие свои наделы из рук Морлы, всегда пресмыкались перед элайрами, оказывали им всяческий почет. Эадан вырос уверенный в том, что геррод элайра больше геррода фольдхера. Фольдхеры живут ради того, чтобы кормить своего господина и его дружинников, а земля, подаренная воину его карнроггом, – всего лишь подспорье в те дни, когда знатный муж не добывает богатство и славу в потехе Орнара. Теперь же не успел он войти, как этот толстый самодовольный фольдхер вздумал насмехаться над ним, сыном элайра! Эадан – изгнанник, это верно; но Турре не только над Эаданом, он и над всеми элайрами посмеялся, назвав их падальщиками и оболгав тем самым благородное ремесло знати – кровавые набеги. Эадан не мог этого стерпеть. Он знал, что положение его шатко; меч он по обычаю оставил у двери, а людей у Турре было много, и все – здоровяки, способные одним ударом кулака раскроить череп. Сдержав дерзкие слова, рвущиеся из сердца, Эадан всё же ответил:
– Я слышал, будто Турре Фин-Эрда, фольдхер с хутора Большой Сапог, человек всеми уважаемый и гостеприимный. Я слышал также, что в его доме, стоящем у дороги, всякий странник найдет приют. Видно, я сбился с пути и пришел вовсе не на тот хутор, о котором мне рассказывали, раз уж в этом доме мне приходится терпеть поношение от хозяина, которому ни я, ни мой род от века не делали никакого зла.
За годы сиротства Эадан привык сносить обиды и избегать ссор. Он произнес свой укор почтительным тоном, скорее жалобно, чем сердито, разводя руками будто бы в растерянности. Его учтивость понравилась фольдхеру. Он приосанился и снисходительно махнул Эадану, повелевая ему приблизиться.
– Эй вы, сынки, потеснитесь-ка! – бросил он сидевшим у огня мужчинам, таким же кряжистым, как и сам Турре. Те нехотя подвинулись, освобождая место для гостя.
Эадан поблагодарил и сел, усадив Керхе у своих ног. Турре хмыкнул.
– Гляньте, детки, как знатные эсы обходятся с рабами. У ног сажают, точно псов, – весело сказал фольдхер своим людям. – А и сами они золотые ошейники на себя напяливают, да еще и гордятся ими, – Турре показал пальцем на золотое нашейное кольцо Эадана. – А мы-то и собак ошейниками не мучаем, верно, родные? К чему ошейники да цепи – корми псов получше, они сами от тебя никуда не денутся! Вот и с людьми так же, – фольдхер снова принялся за свою кашу. – Я с моими детушками, с моими рабами и работниками, по-людски обхожусь – вот они за меня и держатся, никакими посулами не оторвать. Хорошо поработал – можно и поесть от пуза, верно я говорю?
– Правду, правду говоришь, отец! – шумно поддержали его люди. – Мы за тебя горой!
Турре удовлетворенно крякнул. Он с прищуром взглянул на Эадана, точно проверял, какое впечатление произвела на гостя преданность его людей. Не приглашая Эадана разделить с ним пищу, фольдхер сам потянулся к общему котлу, плюхнул себе еще разваренного гороха с репой и, степенно зачерпывая его горбушкой, продолжил:
– А вы, элайрово племя, рабов своих держите впроголодь – вот они только и глядят, как бы хозяина обворовать и к другому сбежать. Вон какой у тебя раб – одно название, что раб – хилый да тощий; какой от него прок? Глаза от голода вылезли, а ты ему жрать не даешь. Слышьте, дети, – сказал он людям, – у них, у элайров да у карнроггов этих, зазорно вовремя раба накормить. Надобно, значит, только потом, как сам поешь, объедки ему кинуть. А ваш хозяин, скажите-ка, разве так с вами обходится?
– Не так, не так, отец! – раздались голоса со всех сторон.
Турре благодушно оглядел своих «детушек»: похоже, ему доставляло несказанное удовольствие чувствовать себя их благодетелем.
– Ну-ну, расхорохо-о-орился, старый петух, – осадила его хозяйка. Эадан опешил: разве пристало женщине, послушной рабе своего мужа, вот так влезать в разговор, да еще и поносить своего хозяина? Но фольдхер, к изумлению Эадана, нисколько не разгневался.
– В том-то и дело, что не так! – разглагольствовал он. – Мы, фольдхеры, даже рабов не рабами зовем, а нашими чадами. Погляди-ка, гость, – разберешь ли, кто тут сын мой, кто свободный работник, а кто раб? – он обвел трапезничающих широким жестом.
– Ой, скажешь тоже! Совсем из ума выжил! – опять встряла хозяйка. Она попыталась отодвинуть от мужа кувшин с пивом, но Турре вовремя спохватился и крепко взялся за кувшин свободной рукой. С опаской поглядывая на жену, он принялся пить большими глотками.
Эадан безо всякого желания оглядел хуторян. И правда, все они – упитанные, коренастые, невысокого роста, но широкие в плечах – походили друг на друга как братья; однако Эадан не находил в этом ничего хорошего. Сыновей хозяина не отличить от рабов – чем тут гордиться?
– Вот то-то, – сказал Турре. Любуясь своими людьми, как хороший хозяин любуется тучным скотом, он не заметил презрения, мелькнувшего в глазах Эадана. – Ты, дорогой гость, не серчай, это я не в обиду тебе. Не твоя вина, что ты родился от элайра и правильной жизни не знавал. Я человек простой, от земли, ваших высокородных нравов не ведаю, а прямо так, что есть, то и говорю. Люблю я побалакать, чего уж там – это тебе каждый хуторянин скажет…
– Да уж, тебе только дай поболтать! Как нахлещешься пива, так и не уймешь тебя, – проворчала хозяйка. Турре игриво замахнулся на нее кулаком.
Эадана покоробили слова хозяина. «Не твоя вина, что ты родился от элайра»… Не твоя вина?! Фольдхер говорил так, будто Эадан – какой-то жалкий нагулыш, а не знатный юноша, способный перечислить своих предков и назвать боевой клич своего рода. Что думает о себе этот гурсов Большой Сапог?! Милуется со своими толстомордыми рабами и уже мнит себя полновластным господином?! Впрочем, он и есть полновластный господин на своей земле, а Эадан – его гость, изгнанник, которому каждый миг грозит смерть. Он голоден, его одежда совсем прохудилась, у него нет коня и запасов пищи, чтобы добраться до Руда-Моддур… Эадан проглотил оскорбление.
– Я не сержусь на тебя, мой добрый хозяин, – сказал он. – К тому же, мой отец тоже был фольдхером…
– Э-э-э, – протянул Турре. – Те фольдхеры, что владеют землей окрест усадьбы карнрогга, ненастоящие фольдхеры. Они элайры, им привычнее меч, а не соха. Сегодня карнрогг пожаловал им надел, завтра карнрогг отберет его – где уж тут похозяйствуешь! Да и хозяйствовать они не умеют, им сподручней на тонконогих лошадках скакать да в лесу дичь стрелять. Вот то ли дело мы, исконные фольдхеры, – сказал он с важностью. – И отцы наши, и деды, и прадеды землю боронили. Что нам лес? – нам земля всё дает. И питье, и пищу; и для живота, и для веселья, – и будто в доказательство своих слов он снова отхлебнул хороший глоток ячменного пива.
Тут хозяйка, навалившись на Турре необъятной грудью, начала отбирать у него кувшин. Пиво расплескивалось; люди хохотали, наблюдая за их шутливой дракой, кричали: «Давай, матушка! Так ему, так! Не уступай!» – и хлопали себя ладонями по ляжкам. Эадан взирал на хозяев с ужасом. Никогда прежде ему не доводилось видеть, чтобы не рабыня, не какая-нибудь глупая низкорожденная баба, а достойная хозяйка с ключами на поясе прилюдно дралась со своим господином. Разве так подобает держать себя благородной замужней женщине? Фольдхеры на востоке и вправду одичалые, как говорят. И работники им под стать – забавляются безобразным зрелищем, словно боем коней, да еще и подзадоривают дерущихся, как бойцов на Кан Туидат.
В конце концов хозяйка, растрепанная, раскрасневшаяся, завладела кувшином и отставила его подальше.
– Хватит с тебя! – сказала она тяжело дыша. – А то пошел разливаться: «и для живота, и для веселья»… Вот я тебе твое веселье! – она погрозила мужу. – Чем речами мудреными нашего гостя пичкать, лучше б накормил его. Держишь его голодным – уж мне, хозяйке, стыдно! Видишь ведь, наш гость парень учтивый, сам на угощение не напрашивается, ждет, когда хозяин его пригласит, а ты завел свое: земля, земля… Тьфу! – и хозяйка грозно зыркнула на одну из женщин, без слов приказывая ей принести еды для гостей.
Та с недовольным видом поднялась, медленно, точно сонная, подошла к котлу и наполнила миску для Эадана и Валезириана. Турре проследил за ней взглядом.
– Ты, верно, угощением нашим побрезгуешь, не к такому ты привык в доме карнрогга, – сказал он Эадану. После схватки за пиво лицо фольдхера стало багровым; он отдувался, потел и всё еще посмеивался – казалось, драка с женой лишь потешила его. Он посматривал на Эадана и наслаждался его ошеломлением. – А я так скажу: карнрогги в начале зимы быков режут, на стол разносолы ставят, в середине зимы последнее просо доедают, а к концу зимы ко мне ползут, плачутся: изголодались, мол, до весны не дотянем. Хе-хе!
Эадан опустил голову к миске. Этот фольдхер со смешным прозвищем, видит Орнар, самый невыносимый человек из всех, чьи выходки Эадану приходилось терпеть. В сравнении с ним даже Мадге покладист и безобиден как ягненок. Турре Фин-Эрда будто бы нарочно старался задеть Эадана побольнее. Сначала он не приветствовал гостя как полагается, тянул, не приглашая поесть, насмехался над элайрами и над его, Эадана, славным отцом… А теперь еще и о своем карнрогге говорит так, словно это не он, фольдхер, платит ему дань, а сам карнрогг выпрашивает у него подаяние! «Что бы ни сказал этот старый дурень, надо молчать», – мрачно сказал себе Эадан.
Валезириан поднял голову и вгляделся в потемневшее лицо своего спутника. Ему было трудно понимать речь фольдхера – продираться через все эти нагромождения прибауток – но он видел по лицу Эадана, что жирный фольдхер его оскорбляет. Валезириан вознегодовал. Ему стало обидно за Эадана. Конечно, он презирал этого темного, недалекого хадара, презирал его наивное самодовольство, его гордость своим жалким родом – родом обыкновенных мародеров и прихлебателей, – но сейчас Валезириан испытал нечто вроде единения со своим негидийцем. Он противопоставлял себя и Эадана здешним людям, еще более отвратительным и грубым, чем те, что жили в доме Морлы. Окруженный незнакомыми людьми, Валезириан невольно воспринимал Эадана «своим», а их – «чужими». С отвращением он смотрел на них, грязных, провонявших капустой и репой, – смотрел на весь их дом, темный, задымленный, тесный из-за набившихся в него людей, на свинью с поросятами, что разлеглась в углу, и на хозяев, таких же толстых, тупых и довольных жизнью…
– Слыхали? – вновь обратился Турре к своим людям. – Наш-то карнрогг уж который день пирует, свадьбу справляет. Виданное ли дело – зимой свадьбу играть? Зимой одни только гурсы да Младшие женятся. Вот как урожай сняли, тогда и за свадебный пир садиться можно, – Турре назидательно поднял палец. – Кто-то говорит, что и весной оно ничего, но не по сердцу мне весенние свадьбы. Что ж мы, звери неразумные, что ли, чтобы весной резвиться? Но нашему карнроггу и старинный обычай не указ. А ты, гость, – он повернулся к Эадану. – Чего это ты не рядом со своим хозяином? Не веселишься его весельем, не радуешься его радости?
Эадан надеялся, что многоречивый фольдхер, как обычно, не станет дожидаться его ответа и поведет речь о другом, но Турре молчал, не сводя с Эадана маленьких хитрых глаз. Эадан вздохнул.
– Что ж, невиновен тот, кто предостерег – так говорят люди, – издалека начал он. – Я сын элайра Райнара, сына Эйфгира, сына Лайфе; наш род мы ведем от Диада Старого, что одним из первых в Гуорхайле поцеловал меч роггайну Райнару Красноволосому. Моего славного отца убил элайр Хендрекки Моргерехта. Его имя было Альскье Кег-Догрих, а братом его был Авендель Кег-Догрих. Вместе с другими людьми спесивого карнрогга Хендрекки они явились в Ангкеим на свадебный пир. Я же был там среди людей карнрогга Морлы. Боги пожелали, чтобы я узнал кольцо моего отца на пальце Альскье, этого бесчестного злодея, дурного сына Рогатых… – в очередной раз рассказывая свою историю, Эадан постепенно успокаивался. Его заворожило неспешное течение речи, привычные обороты, нанизывание слов одного за другим. Он уже не думал о насмешках Турре. Люди притихли, слушая странника. Его рассказ мало чем отличался от других слышанных ими прежде; они согласно кивали, с удовольствием узнавая давно знакомые фигуры речи, и бормотали положенные слова сочувствия. Для них не имело значения, случилось ли это на самом деле, и не имело значения, о ком говорилось в повествовании: об Эадане, которого они прямо сейчас видели перед собою, или о герое, что жил и мужественно сносил удары судьбы когда-то давным-давно. С первых слов Эадана об убийстве отца они поняли, что речь пойдет о мести – и в их головах мгновенно выстроились образы, связанные с такими рассказами. Они приготовились слушать печальную повесть о благородном изгнаннике.
На этот раз история Эадана получилось еще более вдохновенной. Стенать и сетовать на судьбу перед столь отзывчивыми слушателями было куда приятней, чем перед хризом, ничего не смыслившим в возвышенных страданиях. Эадан рыдал, произнося между рыданиями длинные, мелодичные жалобы, проклинал несправедливого Морлу, припоминая всевозможные поэтические проклятия из песен об изгнанниках, рвал на себе волосы и воздевал руки. И так хорошо и свободно у него выходило, что Эадану казалось: если бы боги взглянули сейчас на него, то и они не сдержали бы слез. Эадан наслаждался. Повторяя на все лады свои сетования, Эадан и не думал о постигшей его беде – он просто отрывал подходящие лоскуты от уже слышанных им историй и сшивал их друг с другом в узорчатое полотно, не добавляя, по сути, ничего нового. А как еще рассказывать об изгнании? Одно дело – жизнь, в которой всякий лжет, предает, нарушает клятвы и ищет своей выгоды, и совсем другое – повесть о злоключениях. Слушая ее, люди – те же люди, что не раздумывая отнимают чужое добро и оттесняют своих родичей от наследства, – качают головами, порицая бесчестные поступки какого-нибудь стародавнего карнрогга, и пускают слезу, сочувствуя герою, несправедливо осужденному на изгнание.
Кончив рассказ, Эадан вытер глаза и посмотрел вокруг себя. Он выплакал все слезы, и теперь по телу разливалась блаженная усталость. Люди фольдхера тоже были довольны. Они обсуждали друг с другом историю Эадана и все сходились на том, что говорил он хорошо. Некоторые, сидевшие поблизости, тянулись к Эадану, хлопали его по плечам и коленям; другие кричали ему слова похвалы и утешения. Валезириан в недоумении смотрел то на них, то на Эадана. Еще мгновения назад заливавшийся слезами, тот вновь принялся за еду – совершенно невозмутимо и будто бы даже с чувством выполненного долга. Эадан уплетал кашу за обе щеки, откусывая твердый сухой хлеб крепкими зубами, – а у Валезириана, неприятно пораженного, кусок не лез в горло.
– Вот, хозяйка! Гляди, как уписывает наше угощение – сразу видно, парень справный, – заявил Турре. Ему то ли передалось всеобщее расположение к Эадану, то ли просто хотелось показать себя великодушным хозяином; как бы то ни было, Турре сказал веско: – Не сомневайся, уж я не выдам тебя карнроггу. Оставайся у меня и пей мое пиво, сколько пожелаешь. Мы люди хоть и рачительные, но для достойного человека, хорошего сына Виату, еды не жалко. Опять же, отец твой был фольдхер… – Турре сделал вид, что задумался. – Ну да, ну да, помню я его, крепкий и разумный был хозяин. Землю славно орал, людей зря не терзал…
Эадан хрюкнул в кашу: поразительно, как скоро Турре припомнил его отца, стоило только его людям проникнуться к Эадану сочувствием, – да еще и такое о нем навыдумывал, чего на самом деле никогда не было.
Турре между тем говорил:
– Из уважения к твоему отцу, достопочтенному фольдхеру Райнару, – он упорно не называл отца Эадана элайром, – я и порешил дать тебе приют и пищу в моем доме.
«Силен заливать, жирный ты боров, – посмеялся про себя Эадан. – Ты делаешь это лишь оттого, что хочешь досадить своему карнроггу». Отставив миску, Эадан поднялся и произнес торжественно:
– Благодарю тебя, достопочтенный Турре, за твое гостеприимство. Теперь я вижу, что правду говорят люди. Ты и в самом деле щедрый человек и мудрый хозяин.
Глава 9
Едва проснувшись, Вальебург почувствовала, что лежит в постели одна. Морла опять поднялся раньше, и опять не разбудил ее. Вальебург повернулась на другой бок и закрыла глаза. Нужно было вставать, но ей не хотелось ни прибирать волосы, ни наряжаться. А более всего ей не хотелось видеть других жен, которые наверняка уже успели посудачить, какая лентяйка их новая свекровь. Вальебург медленно сжала кулак. Разве ее вина, что едва проснувшись муж бежит с ее ложа, будто она сварлива или безобразна? Вальебург не понимала, чем не угодила ему. Верно, права была сестрица, насмешница Эвойн, когда говорила, что уж лучше пойти за молодого пастуха и жить с ним на Кайре-ки-Ллата средь высоких трав и коней, чем чахнуть рядом со старым мужем. Морла обходился с Вальебург так, словно ему и не нужна жена. После той, первой, ночи он ни разу не прикоснулся к ней – и это в свадебные дни, когда обычай велит молодым без устали познавать радости супружества! Совсем скоро жены Тьярнфингов начнут считать, сколько времени минуло со свадьбы. Если молодая жена не понесла в первые десять дней, это дурной знак. Может, она вообще неспособна зачать? Вальебург знала, что говорят о засидевшихся в девках невестах. Пойдут слухи…
С тихим стоном она уткнулась лицом в постель. Вальебург вспомнила, как в отцовом доме, скучая за работой в девичьей, она грезила о замужестве. И всё-то было в ее мечтах: и богатый дом, и множество прислужниц, и скромные, почтительные родственницы – все, конечно, намного младше самой Вальебург – и муж, души не чающий в молодой жене… «Дурочка ты, старшая сестра, – хихикала Эвойн, когда Вальебург делилась с нею своими мечтами. – Неужели не знаешь? Непременно что-нибудь будет не по тебе. Или свекровь злая, или муж горбун, или золовок с дюжину – и всех надо отдавать замуж, не покладая рук ткать-прясть, готовить им приданое. А если ни то, ни другое и ни третье, так побратим у твоего господина окажется ревнивый. Что, думаешь, много радости нашей мачехе уживаться с достопочтенным Нэахтом Кег-Райне? У них что ни день, то ссора. Вот и поразмысли, так ли сладко замужнее житье. А я, будь моя воля, никогда бы замуж не пошла! Всю жизнь жила бы у любимого отца, пела и ела в свое удовольствие». Тут уж сестрица Эвойн лукавила: ей не меньше старшей сестры хотелось распрощаться с девичеством. Но во многом она оказалась права. «Непременно что-нибудь будет не по тебе», – беззвучно повторила Вальебург.
Ею овладело горькое разочарование. Стоило столько ждать, столько лежать без сна, воображая будущего хозяина, обмирать, думая о свадебных ночах, и краснеть, слушая болтовню прислужниц об их шашнях с мужчинами, если на деле всё так… безрадостно? У рабынь в доме ее отца только и разговоров было, что о том, кто с кем сошелся и кто с кем ночевал на гумне. Исповедник-хриз без устали пугал дочерей Хендрекки страшными карами, что ждут блудниц и прелюбодеек. И что же? Было бы о чем говорить! В свой первый день у Морлы Вальебург была так измучена дорогой, свадебным пиром и долгими приготовлениями к ночи, что думала лишь о том, как бы поскорее уснуть. Она была рада, что Морла не стал забавляться с нею всю ночь, как напутствовали его шутники-гости. Но теперь, вспомнив, как он молча навалился на нее, а спустя короткое время откинулся на спину и заснул, не сказав ей ни слова, Вальебург почувствовала себя обманутой. «Вот тебе и греховные наслаждения плоти! Нашли наслаждение, ничего не скажешь», – подумала она ехидным голосом сестрицы Эвойн. И ради этого она хранила себя в чистоте для будущего властителя ее невинности, как высокопарно выражался исповедник, – ради этого столько зим томилась, сторонясь мужчин и осуждая сестру, которая переглядывалась с красивыми юношами? Да знай Вальебург обо всем наперед, она давно бы уж уступила какому-нибудь молодому элайру или, еще лучше, хризскому посланцу! Говорят, хризы большие искусники в плотских утехах и не в пример обходительнее эсов.
При мысли о хризах в памяти Вальебург всплыл образ братца мачехи Хрискерты, стройного, смуглого, с вкрадчивым голосом и ласковым взглядом. Он приехал к ним из далекой Весериссии – восточной провинции империи – вместе с сестрой, невестой карнрогга Хендрекки, и после их свадьбы остался в карнроггском доме. Хрискерта, кажется, надеялась устроить ему женитьбу на какой-нибудь богатой рохтанской невесте. Тогда Вальебург была еще девочкой – и, как и все в Мелинделе, влюбилась в прекрасного хриза. Он был так не похож на других мужчин: на ее отца, надменного Хендрекку, на его элайров и родичей, на знатных гостей из других карна. Вроде бы и взрослый, он вел себя как мальчишка: мог запросто зайти в девичью, пошутить с рабынями или поболтать с Вальебург и ее сестрой. Он часто заговаривал с девочками, чего никогда не сделал бы зрелый эс, забавлял их историями о чудесах, рассказывал о своей родине, прекрасном Целизионе, где золотятся куполами бесчисленные дома хризского бога и блистает величественный белый дворец роггайна всех хризов; и о солнечной зеленой Весериссии, откуда во все концы империи везут пряности, благовония и дивный узорчатый шелк. Вальебург слушала его, и сердце ее сладко замирало – не то от огромного, необозримого мира, что открывался перед нею в его рассказах, не то от близости кареглазого хриза. До сих пор Вальебург помнила, что над его красиво вылепленной верхней губой темнел нежный пушок; тогда эта странность казалась ей необыкновенно привлекательной.
Однажды она узнала, что ее милый хриз уезжает обратно в Целизион – в Ан Годд, как эсы называли столицу империи. Он чем-то прогневил карнрогга: Вальебург слышала пересуды взрослых о каком-то убийстве, о вражде между элайрами, о том, что один то ли заколол другого, то ли пытался заколоть… Между элайрами отца часто вспыхивали ссоры. Отчего все винят в этом мачехиного младшего брата? Ведь он такой славный, такой ласковый и приветливый, и так дивно поет печальные весериссийские песни о неразделенной любви… На отъезде братца Хрискерты настаивал Нэахт Кег-Райне, верный побратим карнрогга. Маленькая Вальебург не любила его, вечно хмурого и ворчливого. И зачем отец побратался с таким скучным человеком? Она знала, что многие взрослые девушки в Мелинделе вздыхают по Нэахту, и никак не могла взять в толк, что в нем такого замечательного. Он же старый! Даже старше ее отца! И некрасивый. Вот то ли дело ее хриз – во всем Трефуйлнгиде не сыскать юноши красивее. Наверно, Нэахт выгоняет его из зависти. Когда они вышли провожать его, малышка Эвойн заплакала и раскапризничалась. Вальебург изо всех сил держалась; она смотрела, как удаляется от Мелинделя его повозка, и думала в отчаянии, что вместе с ним ее покидает вся ее радость. Многими годами позже в Карна Рохта пришла весть о том, что брат Хрискерты умер в Ан Годд от какой-то хризской заразы. Тогда Вальебург занимали уже совсем иные тревоги, и она недолго горевала о своем прелестном хризе. И зачем она вспомнила о нем сейчас? На душе стало еще тоскливее…
Вальебург резко села, стряхивая с себя невеселые мысли. Майетур, ее рабыня, храпела на сундуке. Вальебург пнула ее, чтобы та проснулась. Майетур захрапела еще громче – Вальебург не знала, в самом ли деле она спит так крепко или притворяется, чтобы не вставать.
– Просыпайся, гурсова дочь! Вот же лентяйка… – бормотала Вальебург, пытаясь спихнуть рабыню с сундука. Та наконец разлепила веки и недовольно взглянула на хозяйку.
– Ну чего ты меня тормошишь, госпожа? Что за хозяева такие, житья мне, бедной, не дают, – наигранно простонала она, слезая с сундука. – Целый день тружусь для нее, спины не разгибаю, головы не подымаю, только о том и думаю, как бы ей угодить, – и вот благодарность! У других хозяева лучше отца с матерью, – продолжала она плаксиво, выбирая в сундуке одежду для госпожи, – своих рабов мясом кормят, в крашеное одевают. А моя только и знает, что лупить да браниться! Сбегу я от эдакого обхождения, госпожа, – вот пусть Господь меня ослепит, если не сбегу, – Майетур придирчиво осмотрела расшитое жемчугом платье, прибереженное для последнего свадебного дня. – Я так тебе скажу, – спорыми движениями она принялась одевать Вальебург, – ты оттого такая сердитая, что пахарь твой хорошенько тебя не пропахал.
Вальебург как раз вдевала руки в рукава – бить было несподручно, но она все-таки извернулась и шлепнула Майетур по уху.
– Замолчи, глупая девка! Не твоего ума дело!
– Может, оно и не моего ума, да только кто тебе правду скажет, если не я? – мгновенно отозвалась Майетур, привычно потирая ухо. – Этот дом битком набит народом, а добра тебе одна я желаю, так-то! Здешние не станут разбирать, как да отчего, начнут языками чесать, тебя оговаривать – позора не оберешься… Я-то думала, сюда едучи: «Ух, вот будет моей госпоже радость, а мне, горемыке, страдание! Как залезет на мою госпожу ее новый владыка, так десять дней слезать не будет, с такой-то раскрасавицы, – не дадут мне, несчастной рабыне, ни одной ноченьки поспать». И что же? – Майетур по-хозяйски усадила Вальебург на сундук и принялась причесывать ее, нещадно дергая густые волосы. – И что же, я спрашиваю? Каждую ночь высыпаюсь так, как даже в доме твоего батюшки не высыпалась… Да не ойкай ты, госпожа! …И ни один скрип, ни один шорох меня не тревожит… Да полно тебе капризничать, как дите малое, не так уж и больно! Сама свою гриву чеши, раз такая нежная… Ну так вот, ничего меня не тревожит, потому как нет их, этих скрипов и шорохов. Ишь ты, спят себе, будто свадебные ночи для сна придуманы!
Майетур наконец заплела Вальебург косы и хотела было накрыть их головным покрывалом, но Вальебург остановила ее:
– Сделай так, как носят женщины в Гуорхайле. Ты видела, они укладывают косы поверх платка…
– Хм! Что еще за блажь! – фыркнула Майетур. – Гуорхайльские бабы все сплошь бесстыдницы и волочайки, вот и выставляют свои волосы напоказ! Я тут, пока в стряпной сидела, такого навидалась, как только со стыда не сгорела, – не слушая Вальебург, она запрятала ее косы под покрывало. – Мужики на баб лезут, что твои быки, а те и рады юбки перед ними задирать. И всё на виду, в тесноте, среди людей – тьфу, мерзость! Один только твой муженек никак не разохотится, дрыхнет себе, будто рядом с ним не молодая жена, а старый роггайн гурсов. Тоже мне, выискал тебе батюшка мужа! Не муж, а каплун какой-то!
Вальебург шикнула на нее. Еще не хватало, чтобы их услышал кто-нибудь из людей Морлы или, еще хуже, одна из невесток.
– А ты мне не шикай, госпожа, я чистую правду говорю, – заявила Майетур. – Моли Матушку Сиг, чтобы первой ночи тебе на всё про всё хватило – не то Морлины невестки уж не постесняются, обольют тебя помоями, начнут болтать, мол, хозяин взял бесплодную жену. И что ты тогда скажешь? Что Морла тебя не покрывал? – Майетур уложила на плечах и груди хозяйки тяжелое серебряное оплечье. – Ославишь горе-муженька на весь Трефуйлнгид, а толку? Отец заберет тебя обратно – и будет моя госпожа весь век куковать или в монастыре, или в девичьей, кланяться мачехе Хрискерте и нянчить мачехиных деток, точно старая приживалка. Что, несладко? Вот и думай, – с победным видом заключила Майетур – и тут же сжалась под взглядом Вальебург, ожидая побоев.
Вальебург и в самом деле замахнулась на нее гребнем, но в следующее мгновение уронила руку. В бессилии она вновь опустилась на сундук.
– Что я могу поделать? – проговорила она тихо. – Видно, Морла невзлюбил меня, Моргерехтову дочь. Первая жена уже родила ему десятерых сыновей – больше сыновья ему не нужны…
– Ему, может, и не нужны, а тебе ой как нужны, – перебила ее Майетур. – Хочешь стать настоящей хозяйкой в его доме – роди сына. Жена не жена, пока у нее нет сыновей – так люди говорят, – она присела на постель рядом с Вальебург. – Послушай, что я тебе скажу. Десять дней почти минули. Нынче последний свадебный день. Завтра тебе уже не придется корчить из себя послушную жену, не смеющую поднять глаз на своего господина. Не спорь! —приказала Майетур, заранее зная, что скажет ее госпожа. – Завтра, как ляжешь с хозяином, не робей, а скажи ему напрямик: мол, ты не сирота какая-нибудь, не дочка безземельного работника, а дочь карнрогга Хендрекки Моргерехта, и если ты ему пришлась не по вкусу, так пусть объявляет о разводе и возвращает твоему отцу все твое приданое, а о сговоре с Карна Рохта забудет! – Майетур рубанула воздух ладонью. Она так распалилась, что ее смуглое лицо потемнело еще больше, а на широком носу выступили капельки пота.
Вальебург позабавил гнев рабыни.
– Надо бы следующей ночью не мне, а тебе лечь с Морлой – вот ты бы ему всё и сказала, – рассмеялась она.
– Да уж сказала бы, не смолчала, – тяжело дыша, буркнула Майетур. – Уж я бы этому сморчку спуску не дала!
Вальебург всегда веселило, с какой решительностью и уверенностью в своей правоте эта рабыня судит обо всем на свете, даже о делах мужчин. Она не умела держать язык за зубами, зато умела настоять на своем – и, по правде, это сама Майетур выбрала Вальебург своей хозяйкой, а не наоборот. Мачеха Хрискерта привезла ее с собою из Весериссии; желая подольститься к своему жениху, она подарила рабыню маленьким дочерям Хендрекки. Долговязая, очень смуглая, почти черная, с широким плоским носом, большим неопрятным ртом и блестящими, как жуки, глазами, девчонка-рабыня показалась эсам необычайно безобразной, да и нрав у нее был под стать ее виду. Вальебург помнила, как сестрица Эвойн дразнила рабыню гурсихой, а та, хоть и не знала еще, что это значит, гневно таращила глаза и бранилась на маленькую насмешницу, словно сама была ее хозяйкой. Вальебург же она отчего-то любила, и та постепенно привязалась к своей упрямой, ленивой, злой на язык рабыне, пусть и частенько ее поколачивала – за дело и без дела. Переругиваясь с Майетур, она отводила душу. Вот и сейчас, вдоволь наспорившись с нею и насмеявшись, Вальебург почувствовала, как на сердце становится легче. Не слушая больше ворчания рабыни, она направилась в бражный зал. Всем телом Вальебург ощущала богатство своих одежд. Пусть невестки Морлы сплетничают о ней сколько влезет – Вальебург жена карнрогга, а они всего лишь жены младших сыновей, и во всем Гуорхайле нет женщины нарядней ее!
Гости собирались в обратный путь. Войдя в Ангкеим, Вальебург увидела, что хозяин уже раздает, по обычаю, прощальные подарки. В зале царило оживление. Гости ревниво подмечали, кого Морла одарил бронзовым тазом или мехами, а кого – всего лишь остатками свадебного угощения, и спорили, чей подарок лучше. Карнрогги старались перещеголять друг друга в цветистых словах благодарности. Они сытно поели, выпили отменной гуорхайльской браги и пребывали в добром расположении духа. Их элайры рыгали, довольные, поглаживали набитые животы. Некоторых с непривычки подташнивало. Еще долго по всему Трефуйлнгиду будут рассказывать о свадебном пире у Тьярнфи Морлы, на котором не то, что люди – даже вечно голодные собаки так наелись, что не рыскали под столами в поисках объедков, а с раздутыми боками валялись у очага.
Галдя и распевая обрывки застольных песен, гости повалили во двор, к своим лошадям и саням. Возникла сумятица, как бывает, когда в одном доме собирается множество эсов, и каждый из них мнит себя знатнее другого. Рабы Морлы вынесли факелы, чтобы гости не натыкались друг на друга в дневных сумерках, но те все равно толкались, отдавливали ноги и затевали перебранки, пугая криками лошадей. Карнрогги не могли протиснуться к саням, элайры в потемках теряли своих коней, а кое-кто под шумок забирался на чужих, надеясь угнать себе лошадь получше. Когда хитрецов хватали и стаскивали с седла, те винили во всем Дунн Скарйаду: спутали лошадей в темноте, с кем не бывает?
Вальебург остановилась у дверей: дальше не пускала толпа. Приподнявшись на цыпочки, она поискала глазами своего отца и обнаружила, что тот садится в сани – как всегда красивый, величественный, в накинутой на плечи бобровой шубе, подбитой алым атласом, – прощальном подарке Морлы. Подмышкой карнрогг Хендрекка держал щенка – тот изо всех сил вырывался. В следующее мгновение люди и кони заслонили Хендрекку от Вальебург. Она растерялась, не зная, как поступить: остаться ли в доме, не выполнив положенное прощание с отцом, или пробиваться к саням, рискуя растерять свои драгоценности и испортить в давке роскошный наряд. Вальебург оглянулась на рабыню – та поняла ее без слов. С остервенением работая локтями, Майетур проворно двинулась через толпу, расчищая проход для хозяйки, да еще и покрикивала не тех, кто не уступал ей дорогу. Миновав людей Морлы, высыпавших из дома провожать гостей, Вальебург оказалась, наконец, в нескольких шагах от саней отца.
Гости начали разъезжаться. Вскочив на коня, унесся со своими элайрами фальгрилатский карнрогг Хеди; уехал, усадив рядом с собою племянника Данду и закутав его в меха, важный Гунвар Эорамайн, а за ним на санях поменьше двинулся Вульфсти Хад, правитель Вилтенайра. Лишь хозяин Карна Тидд Ангррод Морла решил погостить еще немного: приглядеть за братьями, пока не вернется отец; да и жена его, дочь Ингрима Датзинге, просила Ангррода, чтобы он позволил ей побыть с сестрой Онне, женой Сильфре Морлы. Сам Сильфре и братья его Урф и Урфтан уезжали вместе с отцом: тот, как велит обычай, должен был проводить нового тестя до границы своих владений, великой реки Фоиллах, разделяющей земли Рохта и Гуорхайля. Онне, Этльхера и Этльверд напутствовали мужей, цепляясь за их стремена.
Сани Хендрекки тронулись. Люди Морлы шли за ними, желая уезжающим гостям белой дороги, а своему хозяину – благополучного возвращения. Вальебург шла вместе с ними. Она с нетерпением дожидалась, когда люди, наконец, замолчат, и она сможет начать плач. Возница нарочно придерживал коней. Вальебург без труда поспевала за санями, но делала вид, что задыхается от бега. Как только громкие прощания умолкли, она сразу же всплеснула руками и принялась сетовать на горькую девичью долю, мелодично подвывая в конце каждой фразы. Простирая руки к саням, Вальебург укоряла отца за то, что он разрушил ее счастье, вырвал ее из родного дома, где она знала лишь радости да девичьи забавы, и отдал в чужую, далекую землю, где она прольет реки слез в тоске по родным краям и отцу с матушкой. Элайры Хендрекки и люди Морлы затихли, с интересом слушая ее причитания. Вальебург неторопливо семенила за санями и захлебывалась рыданиями, а сама думала, как бы не запутаться в подоле: бежать по снегу и без того было неудобно, а тут еще и это длинное хризское платье…
За нею шла Майетур, но не столько помогала, сколько мешала: вместо того, чтобы, как полагается, удерживать рвущуюся к отцу новобрачную, рабыня приподнимала ее обшитый серебряной каймой подол, чтобы он не волочился по снегу – истоптанному, грязному. «Держи же меня, дуреха!» – прошипела ей Вальебург в перерывах между рыданиями. Заломив руки, она кинулась к отцу – но Майетур по-прежнему спасала драгоценный подол и не успела вовремя поймать ее. Сама того не желая, Вальебург повалилась на сани. Возница остановил коней. Вальебург лежала у ног отца, проклиная глупую рабыню и собственную поспешность: толкнул же ее Старший броситься к саням, не убедившись заранее, что Майетур ее удержит! Что теперь делать? Пойти на попятный – стыдно: выходит, не больно-то она и стремится обратно в отцовский дом, «где знала одни только радости». Остаться в санях – а дальше что, ехать обратно в Карна Рохта?
Отец пришел ей на выручку. Подхватив дочь под руки, Хендрекка поднял ее с саней и произнес с теплотой, но в то же время сурово:
– Дочь моя! Не лей слезы о том, что уже свершилось. На всякую птаху найдется силок, на всякую девушку – хозяин. Не печалься о вольном девичьем житье – то время миновало, к былому нет возврата. Смирись со своей долей и будь хорошей женой твоему господину, высокородному Тьеберну, сыну Ульфданга. Я же более тебе не хозяин, – с этими словами он легонько толкнул ее прочь от саней.
Вальебург поблагодарила его глазами. У ее тщеславного отца всегда находились красивые слова, что бы ни случилось. Наверное, даже если бы Вальебург наступила на свой подол и растянулась на снегу, Хендрекка и тут бы не растерялся и произнес великолепную речь, которую после передавали бы из уст в уста. Теперь Вальебург могла, опустив голову, отойти от саней, будто прислушалась к увещеваниям мудрого родителя. Возница хлестнул коней. Сани заскользили по заснеженной дороге, удаляясь от Вальебург – и у нее вдруг кольнуло сердце. Ей и в самом деле захотелось броситься за ними и молить отца забрать ее обратно, в родной Мелиндель, где всё так скучно, сонно и привычно, где нет нужды выстаивать против невесток мужа и со страхом высчитывать, сколько времени прошло с первого дня свадьбы… Вальебург утерла рукавом мокрое от слез лицо. В горле все еще стояли рыдания. Она проводила взглядом исчезающие в сумраке сани и повернула к дому, вяло отбиваясь от неугомонной рабыни.
Майетур ворчала на хозяйку:
– Приспичило же тебе бежать за санями! Истоптала весь подол – как теперь чистить? Серебро потемнеет, это я тебе сразу скажу. Надела такое богатство – вот и ходи степенно, осторожно, чтобы не попортить… Так нет же, поскакала по снежному месиву, как коза по крыше!
Глава 10
Тихо и непривычно пусто стало после отъезда хозяина и гостей. Зимнее оцепенение, ненадолго разорванное шумным празднеством, вновь сомкнулось над усадьбой карнрогга. В бражном зале – просторном, гулком – остался запах жареного мяса, дыма и хризских благовоний, от соломы на полу разило мочой и рвотой, но минувшее веселье казалось теперь совсем далеким. Элайры и домочадцы Морлы судачили об уехавших гостях, со скуки доедали остатки свадебного угощения или дремали, опустив головы на столы. В доме, где нет хозяина, хозяйничает безделье – так говорят эсы. Объевшиеся собаки зевали у очага. Один только Кромахал, любимый пес карнрогга, лежал у дверей; всякий раз, когда кто-нибудь входил, он настораживался в надежде услышать шаги хозяина.
Ангррод Морла задумчиво обсасывал кость, развалившись на скамье и опершись спиной и локтем о стол; ногу он закинул на колени Сианделу. Братья толковали о предстоящем походе на Вилтенайр: гадали, кого из них отец поставит во главе войска, а кого оставит приглядывать за усадьбой. Мадге, как всегда, рвался в бой: ему не терпелось завоевать себе право заплетать волосы и называться зрелым мужем. Ангррод беззлобно посмеивался над ним. Бедняга Мадге! Все битвы, что до сей поры выпадали на его долю, были всего лишь охотничьими выездами или дерзкими юношескими проделками, за которые Мадге приходилось расплачиваться располосованной спиной. Хлеща его плетью вполсилы, отец смеялся и говорил, что когда-то и сам был таким же, вспыльчивым и неугомонным – и так же, как и Мадге, ему не сиделось на месте. Но в те времена Тьярнфи Морле приходилось несладко – сироте, оттесненному от наследства, угнетаемому собственными родственниками. Мадге же родился в благословенные дни мира, родился полноправным сыном карнрогга, и никому и в голову не приходило умалять его геррод. Так отчего же Мадге фыркает и огрызается, как пойманный охотниками лисенок? Вот и сейчас он вспылил, когда старшие братья стали потешаться над его воинственностью, и лицо его пошло багровыми пятнами, как это бывает у рыжих.
– Всё оттого, что отец не женил меня, – в сердцах он отшвырнул кусок черствой лепешки. Одна из собак лениво поднялась, подошла и понюхала хлеб. Мадге хотел ее пнуть, но та привычно увернулась. – Будь у меня жена, вы бы не посмели насмехаться надо мною! – выкрикнул Мадге братьям.
Ангррод рассмеялся: так глупо и по-мальчишески это прозвучало. Мадге вечно жаловался, будто отец к нему несправедлив, будто братья так и норовят обделить его и унизить, и вообще держат его за раба. В любых словах, обращенных к нему, Мадге чудилась насмешка.
– И то верно! Женить тебя надо, братец. Глядишь, поумнеешь! – хохотнул Ангррод. Он не сочувствовал младшему брату – не из-за жестокосердия, а просто оттого, что не знал, каково быть девятым сыном. Он не понимал его терзаний. Казалось, с самого рождения Ангррод снискал расположение своенравного Этли, ткача удачи. Третий сын Морлы не застал ни скудного житья, ни шаткого положения бедных родственников, наложившего отпечаток на старшего брата Ульфданга – верно, оттого Ульфданг всегда печален. Нет, Ангррод появился на свет, когда отец его, Тьярнфи Морла, уже стал побратимом хозяйского сына и любимцем самого хозяина, одним из первых воинов Карна Вилтенайр. Ангррод – крупный, здоровый, розовощекий малец – нравился всем вокруг: женщины и девицы дома Хада тетешкались с ним дни напролет, мужчины катали его на своих лошадях, и даже сам старый карнрогг Атенгел, бывало, сажал его себе на колени. Потерявший всех сыновей, кроме одного, хворого Лайсира, Атенгел Хад любовался белокурым крепышом и хвалил Тьярнфи Морлу за его славных отпрысков.
Ангррод был еще мальчишкой, когда отец вернул себе Карна Гуорхайль. Тьярнфи Морла возвратился в родной дом под радостные кличи гуорхайльцев, уставших от бестолкового бабьего владычества. Они глядели во все глаза на своего нового карнрогга, разодетого, с золотым кольцом на шее, с рыжими косами на груди, перехваченными на концах согнутыми хризскими монетами; глядели на его статную красавицу-жену из рода Уллиров, что в былые времена правили ныне исчезнувшим Карна Ванарих; глядели на сыновей, крепких, здоровых мальчиков – и говорили друг другу: «Теперь-то уж род Морлы не оскудеет!» После властолюбивой старухи, вдовы старого карнрогга, и ее младшего сына, жирного, безвольного, гуорхайльцы приняли Тьярнфи Морлу с распростертыми объятиями. Им пришлась по нраву его молодая сила, его слава отважного воина, сокрушителя гурсов, весь его облик, напоминавший о его достопамятном деде, карнрогге Ниффеле Широком Шаге, построившем Ангкеим. Но более всего порадовались гуорхайльцы плодовитости карнроггской жены: восьмерых сыновей безо всякого изъяна родила Ванайре своему господину (девятый же, как видно по ее раздавшемуся стану, уже на подходе) – и ни один из них не захворал и не умер.
Ангррод помнил, как весело зажилось им в новом доме, большом и величественном. Как радовалась бабушка Тюргёрья, которая претерпела здесь столько унижений, а ныне вернулась матерью карнрогга; как матушка Ванайре, гордо повесив на пояс тяжелую связку ключей, с усердием взялась управлять хозяйством; а сам Ангррод с братьями носился по огромному бражному залу, одурев от простора после тесной карнроггской усадьбы в Вилтенайре. Здесь родился Мадге, а затем последыш, любимец матери Лиас. Помнится, самый младший сын Морлы и в младенчестве был так пригож, что рабыни ссорились, отнимая его друг у друга. Каждая старалась побаловать его больше других… Ангррод улыбнулся: разве с той поры что-либо изменилось?
Когда Ангррод стал почти взрослым, отец собрался женить его и толковал об этом деле с соседом, карнроггом Ингримом Датзинге. Ангррод ходил по усадьбе надувшись от важности. Стараясь держать себя как зрелый муж, он больше не играл с младшими братьями, не боролся и не бедокурил, хотя ему и хотелось, – и, по правде сказать, умирал от скуки. Теплым благодатным летом отец повез его и брата Сильфре смотреть невест, дочерей Датзинге; а через год, в начале осени, сыграли свадьбу. Карнрогг Ингрим просил, чтобы Ангррод пожил у него в Тидде. Другой зять, замкнутый и неразговорчивый Сильфре, ему не слишком приглянулся, а вот Ангррод полюбился сразу – как, впрочем, и всем. Ангррод и сам не понимал, как это у него выходит. Он никогда не ласкался, как братец Лиас, не заискивал и не стремился никому угодить, но то ли из-за красоты его, спокойной и по-вилтенайрски простоватой, то ли из-за его добродушия и силы, каждый, кто с ним встречался, поневоле говорил себе: «Славный парень этот Ангррод Морла!»
Карнрогг Ингрим любил молодого зятя больше собственных сыновей, беспутных Ингвейра и Ингье. Те день и ночь шатались по лесам, объедали и притесняли тиддских фольдхеров и, с годами заматерев, уже не признавали над собой отцовскую руку. Ангррод же, домовитый, не по возрасту основательный и оттого забавный, днем разъезжал с поручениями по фольдам или хозяйствовал в карнроггской усадьбе, а вечера просиживал с тестем и из учтивости сдерживал зевоту, слушая его бесконечные рассказы о былых подвигах. Карнрогг Ингрим не раз говаривал, что с большей охотой отдал бы Карна Тидд мужу своей старшей дочери, а не родным сыновьям… Простодушный Ангррод не придавал значения его словам. Но Тьярнфи Морла, однажды гостивший у Ингрима, своего доброго друга и соседа, услышал их и запомнил, а после его смерти повторил на роггариме, призвав в свидетели тиддских элайров. И Ангррод, приехав на роггарим сыном карнрогга и зятем карнрогга, вернулся с него карнроггом Карна Тидд.
По совету отца он изгнал из своего нового владения настоящих наследников, сыновей Ингрима, а вместе с ними и тех немногих элайров, кто не пожелал целовать меч сыну Морлы. Ангрроду не претила такая несправедливость. Пусть и сам ныне карнрогг, он по-прежнему был послушным сыном своему отцу и не задумывался над тем, хорошо или дурно тот поступает. У Ангррода не было никакой охоты вникать в хитроумное плетение, что так искусно свивал его отец; не было у него охоты и к ратным подвигам и дальним походам. Третьего сына Морлы тянуло к земле, к размеренному житью, к карнроггской усадьбе в Карна Тидд, которую Ангррод уже начал считать своей. Он любил обходить ее с зорким приглядом, вникать во все дела, проверять, хорошо ли выполняются работы, отдавать распоряжения своим людям и беседовать с ними о том, какая нынче будет зима; любил, когда окрестные фольдхеры низко кланялись ему, а после говорили друг другу: вот, мол, наконец-то пришел в Карна Тидд крепкий хозяин… И сейчас он с недоумением и усмешкой наблюдал, как братья грызутся за свой кусок славы и богатства – бесконечно далекими казались карнроггу Ангрроду их заботы.
– …теперь запасись терпением, братец Мадге, – услышал он конец фразы Ульфданга. – Закрома Карна Гуорхайль нескоро оправятся после этого свадебного пира. А устрой наш отец празднество поскромней, спесивый карнрогг Хендрекка счел бы это за оскорбление. Ты должен понимать: отец не ради собственной прихоти взял за себя дочь Моргерехта, а ради мира с Карна Рохта…
– Ха! Не знаю как наш отец, а я бы взял дочь Моргерехта и ради нее самой! – со смехом заявил Йортанраг. Ангррод дал ему легкий подзатыльник.
– Тебе следовало бы с бо́льшим почтением говорить о нашей новой мачехе, младший брат, – заметил Ангррод, но после признал: – Спорить не стану, высокородная Вальебург – женщина справная, хоть и пересидела в девках. Может, оно и к лучшему: говорят, перезрелые невесты крепче обнимают, – Ангррод от души рассмеялся – у глаз собрались морщинки. – Что проку в тощих девчонках-несмышленышах? Вон, твоя Бигню в первую ночь убежала от тебя, братец Йортанраг, – он пихнул младшего брата в бок. – Мы потом по всей усадьбе ее с огнями искали… А госпожа мачеха наша – да-а-а, хороша: статная, пышная, кровь с молоком, и бедра широкие, крепкие – значит, способна принести сильное потомство.
– Ты словно кобылу расхваливаешь, – фыркнул Мадге. – Тебе бы родиться сыном фольдхера, а не карнрогга…
Ульфданг метнул на него строгий взгляд.
– Попридержи язык, Мадге, – одернул он его. – Разве так говорят со старшим братом?
Мадге скосил глаза и нехотя пробормотал слова извинения. Ангррод с грубоватой лаской взъерошил ему волосы.
– Не сердись, старший брат Ульфданг, – сказал он примирительно. – Ясно, отчего наш волчонок что ни день глядит сычом, и радость отца ему не в радость. В его годы отец уже взял в жены нашу добродетельную матушку и родил с нею троих сыновей, а Мадге до сих пор ходит неприкаянный, как запаршивевший пес. Еще бы не злиться!
Ангррод заступился за Мадге не столько ради него самого, сколько ради Ульфданга: он знал, что тому не по сердцу приглядывать за младшими. Ангррод любил старшего брата. Сам он сторонился вольной (а на взгляд Ангррода, неоправданно рискованной) жизни элайра, но гордился отвагой и воинской доблестью Ульфданга. Третьему сыну Морлы льстило, что один из его братьев – прославленный боец, настоящий герой Трефуйлнгида, покрывший себя бессмертной славой. Всем известно, что сильный геррод одного из членов Дома простирается и на весь его Дом, так что Ангррод чувствовал себя словно бы причастным к подвигам старшего брата. Он нередко видел, как знатные эсы силой принуждают младших сыновей склонять головы перед старшими; с Ульфдангом же было по-другому. Устремляясь мыслью в дни своего детства, Ангррод не мог припомнить ни единого случая, когда бы старший брат обошелся с ним или с другими братьями несправедливо или жестоко. Ульфданг не любил возиться с малышами так, как Ангррод, но всегда заботился о младших братьях и был с ними в меру суров и в меру ласков. Сдержанный, вечно томимый какой-то неизбывной печалью, Ульфданг принял на себя эту обязанность так же безропотно, как принимал злодейства отца или бесчестность всех, кто его окружал. Маленький Ангррод видел, что брат грустит, и жалел его, хотя и не постигал причины его грусти. Сам он запросто мог разреветься, подравшись с Ниффелем и Сильфре или не получив лакомого кусочка, но быстро утешался и забывал о своих обидах. Так и сейчас, вглядываясь в невеселое лицо Ульфданга, Ангррод недоумевал, отчего тот тоскует. Ведь всё так славно сложилось: их отец – могущественный карнрогг Трефуйлнгида, Ангррод – правитель пусть и небольшого, но небедного карна, Ульфданг – наследник меча и знаменитый на весь Трефуйлнгид герой, и всего у них в достатке: и плодородных земель, и скота, и рабов… Ангррод шлепнул себя широкой ладонью по колену.
– Эх, скучно с вами, братцы, – пропыхтел он, подымаясь на ноги. – Пойду погляжу, что там поделывают наши женщины. Пора бы им накормить нас, как думаете? Эти кости хороши только для собак да рабов, – он бросил под стол кость, из которой уже высосал костный мозг.
Ангррод не желал сознаваться в том перед братьями (засмеют же!), но на самом деле он соскучился по жене, Ордрун, такой же большой, толстой и мягкой, как и он сам. У себя в Карна Тидд они почти все время проводили вместе, присматривая за работниками, распекая рабов или протирая, раскладывая и перекладывая дорогую утварь. Ангррод с ранней молодости не привык разлучаться с женой надолго. Не ощущая рядом с собою ее горячего тела, пахнущего по́том, молоком и почему-то свежевыпеченным хлебом, Ангррод чувствовал себя немного растерянным, словно у него забрали что-то нужное ему, привычное и удобное. Он диву давался, как другие братья – Сильфре, Урф и Урфтан, Йортанраг – живут в своих крепостях вдали от жен и сыновей, возвращаясь к ним лишь по большим праздникам. Нет, пусть братья посмеиваются над ним сколько хотят, пусть дразнят его фольдхером, но не дело это – зрелому мужу отрываться от своей земли, дома и жены, подобно бесправному юнцу, обделенному наследством.
Ангррод отодвинул вышитую занавесь, прикрывающую вход, и заглянул в прядильню. Здесь было жарко натоплено, светло и нарядно; по стенам висели пестрые ткани, пол застилал хризский ковер, старый и кое-где уже протертый – когда-то его привезла с собою из Карна Вилтенайр первая жена Морлы, а прежде им владели ее предки, карнрогги Уллиры. Повсюду стояли прялки и ткацкие станки, узорчатые, один другого краше – приданое невесток Морлы. Собравшись вокруг низенького столика, добытого дедом Тьярнфи Морлы в походе на Карна Рохта, жены лакомились остатками праздничного угощения и болтали без умолку. Они выгнали из прядильни своих детей, спровадили рабынь в стряпную и теперь даже не трудились притворяться, что работают. Ангррод посмеялся про себя. Не зря говорят у них в Тидде: знатные женщины не меньше низкорожденных горазды бездельничать.
– Эй, хозяйка, – позвал он жену. – Хорошо бы поесть чего-нибудь горячего, а? Живот уж подвело…
Ордрун взглянула на него через плечо.
– Да чтобы твой-то живот подвело, муженек, тебе надо с полгода голодать! – пошутила она. Другие жены прыснули. – Проголодался, так иди в стряпную, женщины тебя накормят; а я тут в гостях. Знаешь ведь, по сестре я соскучилась, с самого Брай Мвире не виделись – хочу с Онне побыть, – Ордрун погладила мужа по бедру и сказала мягко, но настойчиво – так хозяйки уговаривают упрямую корову: – Ну, ступай, ступай, Рёдри. Мужчине нечего околачиваться в прядильне.
– Так уж и нечего, – проворчал Ангррод. Навалившись на жену, он потянулся к столу, подгреб к себе мелко нарезанные бараньи почки и пригоршней отправил в рот. – Вон Лиас у вас сидит, тоже, поди, мужчина – что ж вы его не гоните? – проговорил он с набитым ртом, ткнув пальцем в сторону Лиаса – тот положил голову на колени Этльверд, жене Урфтана, а та кормила его с рук засахарившимися кусочками меда.
– Нет ничего дурного в том, что братец Лиас сидит с нами, – возразила Этльверд, отводя глаза, – ведь он еще не заплетает волосы и не взял себе жены. А ты, старший брат Ангррод, зрелый муж, и потому тебе не место в женском покое.
Жена Йортанрага Фиахайну хихикнула, прикрыв рот рукой.
– У нашего милого Лиаса уже есть пять услужливых жен – зачем ему еще одна?
Женщины опять рассмеялись. Ангррод тоже улыбнулся, но сделал вид, что сердится.
– Вы бы помолчали, бесстыдницы! Что за речи! – укорил он, запуская ложку в миску жирных сливок. – Или вы глупые рабыни, а не жены высокородных эсов?
– Ну и ну! Вы только на него поглядите! Распекает нас, будто строгая матушка-хозяйка! – игриво напустилась на него Этльхера, жена Урфа. – Раз уж тебя так тянет в прядильню, может, сядешь с нами да покажешь, как должно держать себя хорошей жене? Эй, кто-нибудь, дайте ему веретено! Или, быть может, ты более искусен в ткачестве? Мне как раз не из чего скроить мужу новую рубашку!
Женщины покатились со смеху. Они принялись наперебой приглашать Ангррода к своим прялкам и совать ему в руки то веретено, то пряслице. Лиас тихонько смеялся, уткнувшись лицом в колени Этльверд. Ангррод махнул на женщин рукой:
– Да ну вас, хохотуньи! – и ушел, напоследок отпив сливок прямо из миски.
– Пускай идет, хоть отдохну от него, – наигранно-сердито сказала его жена. – А то вернемся в наше карна, так он же мне и дух перевести не даст: то подай, то принеси, сапоги сними, ноги ему почеши, пива нацеди… Ох, сестрица, завидую я тебе! Ты своего хозяина лишь по большим праздникам видишь, – повернулась она к Онне – та не удостоила ее ответом, только хмыкнула себе под нос, – а я с утра до ночи, с утра до ночи верчусь, своему угождая! Да еще и усадьба у нас очень уж велика, пока всю обойдешь, за всем присмотришь – с ног валишься. А что поделать, приходится, раз уж пошла за карнрогга, – Ордрун напустила на себя страдальческий вид и незаметно оглядела женщин, с удовлетворением замечая зависть в их глазах. Ей доставляло несказанное удовольствие кичиться перед ними своим удачным замужеством, ведь им, другим невесткам Морлы, повезло куда меньше. Приезжая в Карна Гуорхайль якобы ради того, чтобы повидаться с сестрой, Ордрун надевала лучшие свои одежды и навешивала на кольцо на поясе все ключи, какие только были в ее усадьбе, чтобы ни у кого из женщин не возникло и тени сомнения, что она, Ордрун, дочь Ингрима, – полновластная хозяйка богатого дома. К месту и не к месту она нарочно сетовала на своих многочисленных нерасторопных работников да на бестолковых рабынь, которые без мудрого хозяйкиного совета ничего и сделать толком не могут, – и с упоением наблюдала, как темнеют лица других жен.
Ее сестра Онне бросила на нее холодный взгляд.
– Сочувствую тебе, старшая сестра Ордрун, – процедила она сквозь зубы. – Мне и вправду живется куда слаще, чем тебе. Ведь мне не приходится чесать ноги тому, кто изгнал наших братьев и захватил карна нашего отца.
Женщины притихли. Онне говорила мало, но если уж заговаривала, то каждое ее слово разило метко, как стрела, пущенная рукой искусного лучника. Ордрун будто бы ледяной водой окатили. Всё, чего ей хотелось, это немного подразнить Онне, всегда такую строгую, суровую, невыносимо безупречную. Когда роггарим отдал Ангрроду власть над Карна Тидд, Ордрун так радовалась – радовалась тому, что хоть в чем-то превзошла младшую сестру. И вот теперь Онне отказывает ей даже в столь крохотной победе!
– Ты всегда была такою, сестрица, – сказала Ордрун жалобно. – С самого детства у тебя не находилось для меня ласкового слова, одни только упреки и поучения! Ну и что с того, что мой Рёдри прогнал беспутных Ингвейра и Ингье? Он одолел их обоих в честных поединках. Слабому карнроггу вовек не править карна – так гласит древний Закон. Вот и на роггариме мудрые властители со всего Трефуйлнгида признали право Рёдри на Карна Тидд…
– Ты повторяешь слова своего мужа, – презрительно сощурилась Онне. – А тот повторяет за своим отцом. Я не стану спорить с тобою, старшая сестра. Женщине не пристало судить о делах мужчин. В конце концов, не мне, а тебе нести этот позор.
Ордрун сникла. Даже тяжелая связка ключей на поясе уже не радовала: со слов Онне получалось, что и сама Ордрун такая же преступница, как и ее муж, ибо владеет этими ключами не по праву. Ордрун чувствовала, как злорадствуют другие жены. Несомненно, они посмеются над нею, едва она покинет Гуорхайль. Но не одно лишь это мучило Ордрун: в глубине души она знала, что младшая сестра права, что ее высокое положение, ее богатство и благополучие – всё, чем она гордилась и дорожила – на самом деле зиждется на обмане. Ее братья нашли приют у карнрогга Гунвара Эорамайна – Ордрун холодела при мысли, что однажды, возможно, они возвратятся в Карна Тидд и потребуют обратно то, что принадлежит им по праву. Брат – самый близкий родич, защитник сестры, единственный, кто способен заступиться за ее честь или отомстить ее обидчику – так говорят эсы. Но Ордрун боялась Ингвейра и Ингье. Грубые, воинственные, намного старше своих сестер, они были для Ордрун совсем чужими, и она не понимала, отчего Онне уязвлена учиненной над ними несправедливостью. Ангррод, ее славный, добрый муж, отец ее сыновей, и честнее их, и разумнее – вот ведь и фольдхеры, и наемные работники, и даже рабы в один голос говорят, что никогда еще не было в Карна Тидд такого домовитого хозяина… Так утешала себя Ордрун, стараясь не встречаться с осуждающим взглядом сестры; а женщины тем временем болтали, делая вид, что не замечают слез в ее глазах.
– Как вам понравилась наша новая госпожа? – осторожно начала Фиахайну, жена Йортанрага. – Мне думается, высокородная Вальебург женщина достойная и хорошего нрава…
– О, полно тебе, Бигню! – фыркнула Этльхера, жена Урфа, рыжая и востроглазая, как все в роду Эорамайнов. – Госпожи матушки здесь нет, можешь приберечь льстивые речи на потом. Хотелось бы мне знать, где она, – продолжила Этльхера задумчиво. – Неужто так горда, что брезгует сидеть с нами? Впрочем, чего еще ждать от дочки Пучеглазого…
– Я слыхала, госпожа матушка притомилась после прощания с отцом и прилегла отдохнуть, – сообщила Фиахайну, важная, что знает больше других.
Этльхера усмехнулась, отрывая длинными пальцами кусочек тонкой пшеничной лепешки.
– Да уж, думается мне, нелегко бежать за санями во всем этом золоте и бархате. Вырядилась, словно хотела ослепить нас, бедных женщин, своим богатством, – Этльхера и сама еще не сняла праздничный наряд – протягивая руку за сушеной олениной, она придерживала другой рукой длинный шелковый рукав зеленого цвета, привязанный тесемками к вышитой полотняной рубашке.
– А мне госпожа матушка понравилась, – заметила Ордрун. Она утерла слезы, выпила молока, подслащенного медом, и немного повеселела: ее всегда утешала вкусная еда. – Когда высокородная Вальебург причитала сегодня перед своим родителем, у меня аж печень заболела от жалости. И правда, умеют южане говорить так, что каждое слово срывается с языка драгоценным камнем… А как она бросилась на сани к ногам отца! Прежде я никогда такого не видала. Что ни говори, а на Юге много красивых обычаев. Жаль, я не знала о таком, когда меня выдавали за Рёдри, – Ордрун мечтательно улыбнулась, вспомнив свою свадьбу.
Этльхера откусила мясо крепкими белыми зубами.
– И куда бы ты бросилась, старшая сестра Ордрун? На собственный порог? – спросила она ехидно. – Ты-то не вошла в дом мужа, как мы, а осталась в доме отца.
– И что с того? Все равно я причитала и оплакивала свое девичество, как все новобрачные, – сказала Ордрун. – Пусть я и осталась в батюшкином доме, а все же и мне пришлось расстаться с дорогим родичем, с сестрой моей Онне, которую увозили в Карна Гуорхайль. А ведь прежде мы с Онне были неразлучны – даже свадьбы нам сыграли одновременно…
– …потому что Морла не пожелал расщедриться на два празднества, – резко сказала Онне. – Он и с женитьбой Урфа и Урфтана проделал то же самое: устроил им один свадебный пир на двоих.
Ордрун посмотрела на младшую сестру с укоризной.
– Отчего ты всегда так сурова, сестрица? Ужель не рада, что наш отец просватал тебя за славного Сильфре? Как по мне, вы с твоим мужем даже нравом схожи, как и мы с Рёдри: всё-то молчите, хмуритесь да перед другими нос задираете! – Ордрун заливисто рассмеялась.
Онне ничего не ответила. Сказать по правде, она никогда не задумывалась, хорош ли, плох ли ее муж. Сильфре сын карнрогга и умелый воин – этого Онне было достаточно. Она редко виделась с ним и почти его не знала, но не печалилась об этом: холодная, невеселая, Онне не стремилась полюбить мужа и сама не нуждалась в его любви. У Ордрун на каждом слове всё «мой Рёдри» да «мой Рёдри»; Онне же вспоминала мужа как что-то неизменное, но далекое, вроде солнца или звезд. Сейчас, поразмыслив над словами сестры, Онне решила, что Сильфре, наверно, хороший муж. Каждый раз, возвращаясь в Карна Гуорхайль, он привозит ей подарки и почтительно говорит с нею, обсуждая хозяйственные дела или здоровье детей. Когда их старший сын пережил свою первую зиму, Сильфре одарил жену беличьим полушубком и головным покрывалом из белой, тонко выделанной шерсти – оно и сейчас на ней. И всё же проницательная Онне замечала, что лежа с нею и младшими детьми в постели, Сильфре будто тяготился ими всеми; мысли его были далеко, на границе с Карна Рохта, в крепости Скага Нейгехрёдд, что стоит над бурными водами великой реки Фоиллах, – там ждали Сильфре его верные воины. Храня границы отцовских владений, Сильфре отвык от шума усадьбы, полной работников, приживальщиков, женщин и вечно вопящих и плачущих детей. Как птица, попавшая в силок, он рвался на волю. Онне не винила его за это – вернее, она даже не чувствовала себя обиженной. Ибо так повелось испокон веку: мужчины – для сердца, женщины – для детей.
– Тш-ш-ш! – вдруг зашипела Фиахайну, отрывая Онне от размышлений. – Слышите? Сюда идет госпожа Од!
– А ты уже и шаги ее узнаешь, точно преданная собака, – скривилась Этльхера. Она храбрилась, но произнесла насмешливые слова тихо, почти шепотом.
Женщины отпрянули от столика, разлетелись по своим прялкам, как вспугнутая стая ворон – один только Лиас, невозмутимый, продолжал лакомиться мороженой клюквой, да Ордрун осталась сидеть у стола. Ей, гостье, жене карнрогга, госпожа Од была не страшна – и Ордрун благодарила Матушку Сиг за это.
В прядильню вошла немолодая женщина, полноватая, высокая – пожалуй, даже чересчур, – опрятно одетая в скромное вдовье платье, хотя вдовой и не была. Она шла чуть раскачиваясь, поводя крутыми бедрами, и большой обветренной рукой придерживала на поясе кольцо с ключами. Ее широкое лицо, когда-то, должно быть, красивое – да и теперь миловидное – портили лишь тонкие, сварливо поджатые губы – казалось, она размыкала их лишь для того, чтобы произнести что-нибудь неприятное. Заметив накрытый столик, Од неодобрительно покачала головой и сказала невесткам Морлы, возвышаясь над ними, испуганными и пристыженными:
– Что же это, мужья за порог – бабы за пирог? И десяти свадебных дней вам мало, еще безделья подавай? Не радуйтесь, что хозяин в отъезде, он за нашей женской работой не приглядывает. Вам должно самим приглядеть за собою, чтобы ему угодить.
Этльверд со злостью пропустила уток через основу. «Вот ты ему и угождай, старая распутница», – подумала она; а вслух сказала с подобострастной улыбкой:
– Это мы не для себя, а для нашей гостьи, высокородной госпожи Ордрун, угощение поставили. Пожалуй к столу и ты, достойная Од. Ты, верно, устала, не покладая рук хлопоча на празднике.
Лиас оставил Этльверд и подсел к Од, умильно прижав к щеке ее горячую руку.
– И верно, ты бы отдохнула, матушка Од, – сказал он, глядя на нее снизу вверх. – Больно моему сердцу, когда я вижу, как ты себя не жалеешь ради нас, твоих питомцев.
При взгляде на Лиаса светлые глаза Од заметно потеплели.
– Да одарит тебя Этли всяческими радостями, мой птенчик! – растроганно проговорила она. – Никогда еще не видывала я такого милого и ласкового мальчика. Вот гляжу я на тебя и вспоминаю, как ходила за тобой, выхаживала: ты всё хворал, когда умерла твоя мать, высокородная Ванайре, моя почтенная родственница. А был ты тогда вот таким махоньким… Ах, как я плакала в те дни, как молила Матушку Сиг, чтобы она сохранила это бедное дитя! Нет у меня ни сыновей, ни дочерей, но если б и были, я и вполовину не любила бы их так, как тебя, мой Лиас, – Од погладила его по мягким распущенным волосам. Этльхера и Этльверд переглянулись.
– Высокородная Вальебург, дочь Хендрекки, наша новая госпожа, – произнесла Этльхера с нажимом, – спрашивала, куда запропастилось кольцо с ключами, которое хозяин должен был повесить ей на пояс на десятый день свадьбы.
– Что же нам ответить, госпожа Од? – подхватила Этльверд, сделав простодушное лицо. – Признаться, мы с сестрой совсем растерялись…
Фиахайну изумленно посмотрела на них. «Когда же это было?» – хотела она спросить, но вовремя прикусила язык. Этльхера и Этльверд вновь переглянулись, донельзя довольные друг другом.
Од замерла, напряглась всем телом. Ее рука невольно метнулась к поясу, пальцы крепко вцепились в кольцо с ключами.
– Что вы ей сказали? Говорили про меня? – спросила она каким-то странным, будто чужим, голосом.
Онне подняла голову от шитья.
– Госпожа Вальебург в своем праве, – сказала она с непоколебимым спокойствием. – Будет лучше, если ты по своей воле отдашь ей ключи. Ей, законной хозяйке дома Морлы.
У Этльхеры и Этльверд округлились глаза: они никак не ожидали, что Онне подыграет их маленькой лжи. Сама благочестивая Онне, всегда с таким презрением взиравшая на женские склоки и хитрости! Сестры перевели взгляд на Од. Им было любопытно, как та поведет себя. Хорошо бы, если б она отказалась отдавать ключи. Фиахайну не будет Фиахайну, если не побежит жаловаться новой жене хозяина, и уж тогда Этльхера и Этльверд позабавятся, наблюдая, как грызутся друг с другом эти две суки, молодая и старая – Вальебург и Од. Дочери Данды Эорамайна заулыбались точь-в-точь как их злонравный дядюшка Гунвар.
– Ну, вот что! Скажите этой южанке, – Од сжала руку на ключах так, что костяшки пальцев побелели, – напомните ей, что наш господин схоронил уже трех жен. Госпоже Вальебург лучше бы поберечься и не утруждать себя хозяйственными заботами – а то как бы и четвертой жене не отправиться вслед за теми тремя!
Глава 11
Эадан проснулся оттого, что Керхе не было рядом. Они жили у Турре Фин-Эрды уже несколько дней, дожидаясь приезда Гунвара и Данды: карнрогги, возвращаясь в родной Руда-Моддур, наверняка остановятся на хуторе Большой Сапог. Тогда-то Эадан и надеялся прибиться к ним и вместе с людьми Эорамайнов отправиться в Карна Руда-Моддур, больше не опасаясь убийц. Эадан с нетерпением ждал этого времени: ему до смерти надоела жизнь у фольдхера среди его кряжистых сыновей, дебелых невесток и самодовольных сытых рабов, которые обходились с Эаданом так, словно стояли выше него. Эадан подозревал, что не правь сейчас миром Дунн Скарйада, Турре и его заставил бы выполнять какую-нибудь рабью работу. Правда, фольдхер, надо отдать ему должное, обильно кормил своего гостя. Целыми днями Эадан набивал живот кашей и хлебом, но все равно испытывал голод: не наедался без мяса. Ему без конца снились пиры и охоты, кабаньи и оленьи туши, истекающие соком над огнем, медвежьи окорока, целые горы заячьих тушек… Эадан предположил, что это хороший знак: сны пророчат ему грядущее благоденствие.
Поперхнувшись слюной, Эадан закашлялся и проснулся окончательно. В доме царила непроглядная темень. Повсюду, накрывшись овчинами, храпели люди Турре – от их дыхания было тепло, даже жарко, и до того душно, что даже привыкший к тесноте Эадан начал задыхаться. Он приподнялся на лавке и пошарил ногой, отыскивая своего раба, но того нигде не было. Куда он подевался? Сбежал? Едва ли: все эти дни Керхе так и лип к Эадану, ни на шаг от него не отходил, даже на двор выходил вместе с ним, словно боялся потеряться. Когда Эадан от нечего делать засыпал, подложив под голову солому, Керхе усаживался на пол подле него. Во сне Эадан ощущал его пристальный взгляд, а просыпаясь неизменно видел над собою его странные темные глаза. Его взгляд немного беспокоил Эадана. Ему частенько казалось, что Керхе изготовился придушить его во сне. Иначе зачем бы он на него уставился? «Что пялишься, гурсов ты хриз?! – сердился Эадан. – И почему я не зарубил тебя тогда, на болоте…»
Теперь же Керхе не было, и Эадан встревожился. Не попал ли он в беду? Этот бестолковый хриз не умеет держать себя с людьми как подобает. Своими чудачествами он будто бы сам напрашивается на взбучку. Что, если кто-нибудь из хуторян, поколотив, изувечил его или, чего доброго, убил? Мало того, что Керхе не способен постоять за себя, так он еще и вовремя улизнуть не додумается… Эадан выругался шепотом. Не хватало еще из-за раба поссориться с Турре!
Его лица коснулось дуновение холода: кто-то открыл и снова затворил дверь. Эадан подхватил свой узел, порядком полегчавший – ему пришлось сделать подарки фольдхеру и его жене – и поспешил к двери, перешагивая через спящих людей. Эадану давно хотелось выйти на воздух: в доме было не продохнуть. Но, завидев снаружи тощую фигуру Керхе, Эадан на него напустился:
– Куда тебя Старший понес среди ночи?! Говорил же, по малой нужде ходи в доме. Застудишься, такой-то доходяга, совсем никакого проку от тебя не будет …
На дворе уже занимались дневные сумерки. Стояла тишина, лишь издали доносился тоскливый волчий вой. В зловещую пору Дунн Скарйады волки и медведи, бывает, подходят к жилью, воруют собак и детей; а случается, оголодавший зверь набрасывается и на взрослых мужчин. Керхе для них легкая добыча… Эадан сам не знал, отчего это его беспокоит. Он коротко взглянул на бледное, измученное лицо хриза и сказал ему уже мягче:
– Пойдем в дом. Что на морозе стоять?
Керхе замотал головой.
– Нет… Не могу… Так много людей, не могу…
Эадана удивило невыносимое страдание, прозвучавшее в его голосе.
– Глупый хриз! Много людей – хорошо, тепло… безопасно. Если сюда явятся люди Морлы, хуторяне нас оборонят. Да что с тобой? – он опять заглянул в лицо Керхе. – Занемог ты, что ли? Может, у тебя эта ваша… ну, хризская… хворь? – предположил Эадан. Как-то он слышал краем уха, что хризы часто болеют и даже умирают безо всякой причины, и когда занедужит один, вслед за ним начинают хворать и другие. Могучим сынам Трефуйлнгида, не знающим моровых поветрий, было невдомек, что за беда приключается с чужестранцами – хризские болезни казались эсам чем-то загадочным и неотвратимым, вроде ведьмовской порчи, что наводят друг на друга дурные женщины. С тех пор, как они поселились у фольдхера Турре, Эадан стал замечать, что его хриза томит не то боль, не то глубокая скорбь. Керхе сжимал маленькие худые руки, прижимал их к впалой груди, всё вздыхал, а темные глаза его становились блестящими, беспокойными, жалкими, как у умирающего. И сейчас лицо Керхе вдруг исказилось страданием. Он проговорил срывающимся голосом:
– Я устал… Я так устал!.. – и добавил еще несколько слов – Эадан не знал, что они значат, но хриз произнес их тем тоном, каким жены, доведенные до отчаяния кознями свекрови или жестокостью мужа, кричат «пожалей меня, Матушка Сиг!» перед тем, как броситься в болото.
– Да чтоб тебя гурсы забрали, глупый ты раб, от чего это ты устал? Ты же ничего не делал! – рассмеялся Эадан. – Видал я лентяев, охающих и стонущих, чтобы хозяин освободил их от работы, но таких притворщиков, как ты, еще не встречал. Устал он, ха! – Эадан схватил было раба за плечо, чтобы втащить обратно в дом, но сразу же отпустил. Эадану показалось, что стоит ему немного надавить – и тонкие кости Керхе разломятся под его пальцами. На ум ему пришел недоношенный худосочный младенец, младшая сестра, не прожившая и одного дня. Узнав о гибели мужа, мать Эадана разродилась раньше срока и умерла, изойдя кровью; а маленький Эадан всю следующую ночь наблюдал, как кончается его безымянная сестрица. Несчастный уродец с тельцем синюшного цвета, с иссохшими ручками и ножками, она почти не шевелилась, даже не пищала. Повитуха и другие женщины занялись приготовлениями к похоронам, не обращая внимания на дитя, которому всё одно боги судили умереть. Но Эадан всё сидел и сидел, рассматривая младенца со смешанным чувством любопытства и брезгливости.
Эадан протянул руку и кончиками пальцев потрогал лицо Керхе. Тот отшатнулся.
– Ты… что…?! – выдохнул он с испугом и враждебностью, как будто Эадан покусился на его жизнь.
– Ничего… Просто… ты чудной, – смущенно ответил Эадан. Он и сам не знал, почему это сделал. Наверное, ему захотелось узнать, какова на ощупь эта тонкая бледная кожа, так непохожая на его собственную. На загнутом, точно клюв маленькой хищной птицы, носу Керхе кожа казалась темнее из-за скопления едва заметных, размытых веснушек – Эадан только сейчас их увидел. – Я думал, у хризов не бывает такого, – он легонько дотронулся до носа Керхе.
Керхе отвернулся.