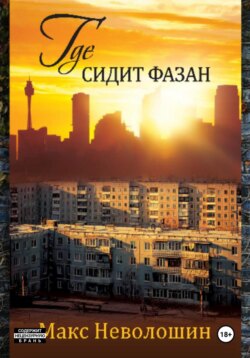Читать книгу Где сидит фазан - Макс Неволошин - Страница 1
Где сидит фазан
ОглавлениеПовесть
Самара, где я родился и удивительно долго жил, вспоминается мне городом невнятным, фрагментарным, каким-то посторонним. Я хотел бы разобраться – почему. Нормальный мегаполис, бывают и похуже, есть достопримечательности, культурные объекты. Вот отреставрированный до изумления старый центр. Вот размашистая, пафосная набережная. Цирк, напоминающий кепку эксцентрика. Кондитерское здание драмтеатра. Рядом – монумент Чапаеву с компанией, издали похожий на гигантского жука. Ну, ясное дело, Волга, небеса, простор такой, что хочется реветь Кинг-Конгом. Отсюда в мыслях вольность, безрассудство и дичь.
В этом городе я сменил четыре записные книжки, распухшие от адресов и телефонов, не всегда понятно чьих. В любом районе мог найти трёшку взаймы, стакан портвейна или чая, диспут, оживлённый битьём лиц, матрас на кухне. Безымянка, пл. Кирова – автобус 34, троллейбус 6 – Джон, Андрей, Наташа, Клякса (девушка Андрея). Ленинский проспект – Витя (злая жена), Люба (филфак), Геныч – трамвай двадцатка. Он же до конечной – 15-й микрорайон – Лена, Игорь Е. (злая мама). Игорь Н. – 116-й километр – час от вокзала на 132-ом. Нет, это вряд ли, дыра хуже моей, на месяц потеряемся. Общага педа на Антонова-Овсеенко – автобусы 42, 44, троллейбус 14 – отзывчивые барышни, в субботу дискотека. Московское шоссе – общаги КуАИ и связи – транспорт любой. Обнимут, как родного, но лезть через третий этаж. И так далее, неясно одно: какого хрена я всё это помню?
В этом городе названия пивных запоминались как стихи. «Мутный глаз», «Говорящие головы», «Калда», «Дно»… Сейчас любой турист знает «Дно» – культовое место, бар, удобства. А в беспонтовую эпоху – три ларька у пивзавода, кустики и очередь. И Волга тут же плещется синхронно улучшениям в организме. Говорили, если пива нет на «Дне», то его нет нигде. Щас. У меня друг Лёха работал на пивзаводе грузчиком. Раньше он был студентом иняза, корпус на Горького, в двух шагах, да выгнали за аморальный облик. Лёха устроился куда поближе, чтобы не спугнуть ощущение территории. Каждое утро ехал знакомым маршрутом, будто в институт. Плюс бывшие сокурсники Лёху не забыли. Регулярно навещали после занятий, вместо и до. Фишкой экскурсии было «завтрашнее» пиво, судя по дате изготовления. Ну что, заглянем в будущее? Заглянем.
И «завтрашнего» хлебца я отведывал не раз. На хлебозаводе, это в другую сторону от Горького, но тоже близко. Мой знакомый, Петя, работал там художником. Рисовал наглядную агитацию и ловил голубей на супчик. Голуби настолько отъедались, что забывали, как летать. Вкус лучше курятины, свежие потому что. Я, правда, не ел. А Петя – человек богемный, у него всегда гости и финансовые трудности. И кот. Однажды шельмец прогрыз дыру в моей нейлоновой сумке и выел треть батона колбасы. «Красава, – сказал художник, осматривая улики, – перформанс как жест. Моя школа». Жили они в курмышах между площадями Революции и Хлебной, неподалёку от трамвайного кольца.
Курмыши – это не просто закоулки или старые дворы. Это оживший придуманный мир, которого не существует. Дыра в холсте, прореха в декорации, шаг в темноту – и ты внутри системы образов, таинственных и несколько печальных. Разве могут быть не вымыслом эти вросшие в асфальт полуподвальные оконца? Доисторические лопухи и плющ, и угольные кошки, и бледно-синие рейтузы на верёвках? Эти лестницы и двери в никуда, постройки-надстройки-голубятни-скворечни, косые во все стороны, будто лица алкашей? Трогательные люди, которые сегодня отдадут тебе последнюю рубаху, а завтра позаимствуют штаны… Оттуда надо вовремя уйти, дня через три, лимит – неделя. Иначе есть риск остаться навсегда.
Я изъездил этот город поперёк и вдоль, наискосок, кругами и зигзагами. Но так и не стал его частью, а он – моей. Возможно, ключевое слово тут – «изъездил». Транспорт не даёт раствориться в ландшафте, поймать его суть, атмосферу, метафору. Скорости должны быть одинаковы, время – невесомо, путь – бесцелен. Увы, ходить пешком я не любил. Да и Самара не особо вдохновляла на досужие прогулки. Она размазана тонким слоем по левому берегу Волги километров на тридцать. Или шестьдесят – смотря где жить и как считать.
Я жил на спорной территории, где мегаполис нехотя встречается с деревней. На той самой границе, которую задумали стереть большевики. Асфальт к нам ещё доходил, но общественный транспорт уже временами. Любой вояж в город становился приключением. Любой сюжет учитывал автобус или его долгое отсутствие. На остановках коченели, лишались чувств от жары, митинговали, выясняли отношения, заключали сделки. А также знакомились, вступали в романтические связи и наоборот. Вспоминаю один случай.
Мы с девушкой Наташей возвращались из театра. Я не то чтобы заядлый театрал. Просто встретиться в интимной обстановке было негде. У меня дома родители, у неё – муж и сын. На улице зима без шуток, минус тридцать. Кино – банально, ресторан – пошло, в смысле дорого. А театр – интеллигентный вариант, буфет, шампанское и платья с декольте.
Стоим на остановке, время пол-одиннадцатого. Колючие звёзды, хрустящий мороз. Использован каждый сантиметр одежды: всё, что можно, поднято, натянуто, замотано. Ноги сильно тоскуют по валенкам. Мысли замерзают в голове. Смерзаются в единственную мысль: когда-нибудь я буду жить там, где вечное лето…
Её автобус ходит до полуночи, мой закончил рейсы час назад. По умолчанию план такой: я доставляю Наташу к семье. Что потом, лучше не думать. Вообще-то Наташа забыла свой текст, конкретно одну реплику: «А ты? Как доедешь ты?» И я ответил бы спокойно, по-мужски: «Всё нормально. Доберусь». Не спросила, а жаль, карта могла лечь иначе. Потому что мы увидели автобус.
Мой автобус.
Когда-то меня изумляли вещи, несовместимые с логикой, опытом, здравым смыслом. Теперь – нет. Если это шутят наверху, то их юмор исчерпал себя. Конечно, я ошибся – это был другой автобус. Нет, мой. Реальность изменялась на глазах. Табличка «в парк» за лобовым стеклом вдруг удлинилась до названия моего посёлка. Дверь выдохнула облако тепла. «До Химзавода», – угрюмо объявил водитель. Шальные от радости люди полезли в салон. Передо мной стоял нелёгкий выбор… Ложь. Несколько секунд я колебался. Соблазн был чересчур велик… Ещё две лжи. Никакого выбора и колебаний. Моментальная, полная ясность – Наташа едет домой одна. «Извини», – сказал я кратко, по-мужски. А что ещё тут скажешь?
Воспоминания о Самаре требуют усилий. Она – сундук мертвеца, тяжёлый от юношеских глупостей, низостей, комплексов и драм. Или роман о подростках с обычным набором клише. Тощий, незаметный мальчик. Война с родителями. Война с учителями и шпаной. Опасные друзья как средство выживания. Плохие девочки как средство тренировки. Избыточный уличный сленг, хэви-метал, гитара, фарцовка, качалка. Вино как средство от тревог. Желание достать себя за волосы из этого болота.
Желание постепенно исполняется, а волосы редеют. Уходят поколения чемоданов. Зола сгоревших кораблей обращается в пыль, черты лица – в морщины, снег – в песок. В твоих глазах – спокойная ирония. Легко поверить, что ты всегда был снисходительным, расслабленным, насмешливым и умным. Но есть географическая точка – знакомый контур берега, улицы, сползающие к воде, изгрызенные жизнью дома, которые помнят тебя другим. И наступает время это им простить.
С Наташей мы расстались через год. Произошло это обыденно и вяло. Несостоявшееся свидание, потом второе, звонки без ответа, дела… Вскоре мне сказали, что у Наташи кто-то есть. Или был – параллельно со мной, даже раньше. Меня беспокоило отсутствие логики. Если бы её взбесил автобус, – думал я, – то это хоть понятно. В этом хоть какой-то смысл. Но почему сейчас? Зачем так долго ждать? Тогда я – повторюсь – ещё не знал, что смысл – обычно фикция, плод воображения. Гораздо подозрительнее, когда он есть, чем когда его нет.
* * *
А славно бы увидеть Москву глазами иностранного туриста, какого-нибудь доброго, рассеянного шведа. Без провинциальных комплексов, без эмигрантской оглядки. Или глазами местного долгожителя, наблюдателя, созерцателя. Чуть не сказал «коренного москвича» – тухлая фраза, даже слово «прописка» звучит веселее. Я всегда был здесь по делам, жил здесь по делам. Первый вагон из центра и сразу налево. Бег с препятствиями из ненужных людей, чтобы отловить искомых. Людей вокруг меня образовалось чересчур. Некоторым я был что-то должен, остальные – должны мне, и требовалось срочно с них это получить.
Думал: получу своё, выдохну и осмотрюсь. Москва лет восемь оставалась функцией, ступенькой. Перешагнул и осмотрелся – но уже в другом месте. Жаль, а что поделаешь? Столица понаехавшим не друг. Явился завоёвывать Париж – оперируй шпагой, а не глазей по сторонам. Нет, кремль я видел. И мавзолей, включая содержимое. И большой театр, включая изнутри. Регулярно эскортировал туда заморских гостей. У меня был лучший и единственный на кафедре английский. А также, по мнению начальства, избыток свободного времени. Как сказано гением, балеты долго я терпел.
Я не люблю работать вообще, и с людьми – особенно. Такая работа помимо других неудобств выключает меня из контекста. Посетив десятки интересных мест, я ни черта не видел, кроме лиц в аудитории и бухгалтерии. В Москве есть нюанс: сложное, не всегда уловимое ощущение, что ты здесь шпион. Из него потом вырастает мысль об эмиграции.
Москва – вэдээнха эпохи эсэсэра. Город – сноб, витрина, китч. Улицы имперской ширины, архитектура в стиле «поздний Джугашвили». В тёплом бензиновом смоге на десяти полосах звереют авто. Сверху давит угрюмое небо. В пространство въелся запах фанты, горячих собак, хрустящих денег. Можно притвориться, что это твоя жизнь. Можно даже часть её купить и заблеять от самодовольства. Только этот город избалован, капризен. Он не любит выскочек. У него другие планы. Засунь под хвост свои купюры и амбиции. Ты сюда не принадлежишь. Тебя пустили посмотреть.
Дорогие москвичи и гости столицы… Не друзья, товарищи, сограждане, а гости и хозяева. Москве важна определённость. Потому что отдельные шустрые гости норовят задержаться. Праздник кончился, а они все ещё тут. И уже неясно, в качестве кого. Цветные штаны не прокатят, штаны сейчас у всех одинаковые. И остальное тоже: лица, походка, речь. Вместе толкаемся в разные стороны, шмыгаем под землю и обратно. Но если у метро проверят документы, выявляется существенная разница. Многие уедут дальше. А тебя уведут куда следует. Трудно остаться собой. Лицо, одежда – ерунда, главное – беспечный взгляд. Именно его читают физиономисты у метро. Взгляд обязан излучать уверенность в том, что ты поедешь дальше. И слово «обезьянник» знаешь только по кино.
Про обезьянник расскажу. Но вначале о достоинстве самарской прописки. У неё, как выяснилось, есть одно достоинство. Однажды меня взяли на гоп-стоп. Дело было на автовокзале, ст. м. Щёлковская, первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево. На мне стандарт: кожаный верх, джинсовый низ, сумка adidas – типичный фраер ушастый. Купил билет, закурил, углубился в себя… Чувствую движение сбоку. Слышу:
– Брат, угости сигареткой.
Сунул руку в карман, а вынуть не могу, перехватили. И вторую ломят за спину. Я даже испугаться не успел. Только что был один, и уже нас трое.
– Давай-ка отойдём, поговорим.
Утолкали за ларёк, там ещё двое без особых примет. Среднего роста, плечистые, крепкие. Нежно извлекают паспорт, кошелёк. Граждане озабоченно спешат мимо. Вокзальный секьюрити нам кивнул.
Кошелёк должен был их огорчить, а паспорт – наоборот. За обложкой – сложенная вдвое купюра с Эндрю Джексоном. Дяденька полицейский, возьми меня. Этим маловато, но шанс уйти здоровым.
– Паспорт хоть отдайте, – говорю.
Старший полистал мою книжицу.
– Ты из Самары, что ли?
– Ну.
– Держи.
Отдают имущество, хлопают по спине.
– Вали, братан. Повезло тебе сегодня.
Запоздалый потный страх, мягкость в ногах, тошнота. Реакции организма, не успевшего за темпом событий. Меня грабили. Что-то пошло не так. Дважды проверил – всё на месте. Кошелёк, билет, сигареты, паспорт. Эндрю с удивлённой половиной лица. Что это был за сюр? Что за полёт шмеля вокруг гранаты? Вечером звоню сообразительному другу.
– Это наши, казанские гопники, – объяснил друг, – их территория.
– Ты-то откуда знаешь?
– Бывшие ученики, восьмой «г». Видел их там пару раз. У них правило: земляков не трогать.
Двадцать баксов из паспорта могли взять трижды. Следующим был мент в переходе у вокзалов. Сытый, добродушный, непохожий на мента. Почему из сотен людей он выбрал меня? Этот вопрос не даёт мне покоя. Что во мне не так? Обычное лицо славянской национальности. Финский пуховик, сделанный в Китае. Норковая шапка из котика. Сумка большевата, так вокзалы же. Каждый второй с баулом.
– Регистрации нет, угум… Когда приехал?
– Только что.
– Ну-ну… Билет есть?
– Оставил у проводника. Мне он ни к чему.
– Разумеется… Цель прибытия?
– Осмотр достопримечательностей.
– Где будешь жить?
– У родственников в Кучино.
– Кто автор «Болеро» Равеля?
– Эм-м…
– Расслабься, я шучу. А это что? Взятка?
– Где? Аа… не, заначка. На всякий случай.
– Ладно. На регистрацию – трое суток. И билет чтобы всегда. Ясно?
Он вернул паспорт. Я не выдержал.
– Можно вопрос? Почему ты меня остановил? Что во мне подозрительного?
Мент ненадолго завис.
– Опыт, интуиция, – произнёс он наконец. – У тебя сумка большая. И лицо такое, знаешь… Будто ты задумал…
– Теракт, – подсказал я.
– Вот что, умник, – его добродушие вмиг исчезло, – пройдём-ка в отделение…
– Не надо в отделение, – испугался я, – глупо вышло. Извини.
Вот значит как. Задумчивое лицо стало подозрительным. Исправим. Кстати, размышлял я тогда над статьёй для «Вопросов психологии». Конкретно оттачивал следующую мысль: «В общем виде, главной целью развитой когнитивной системы является прогнозирование будущего».
Вскоре я полностью слился с толпой. На моей уличной физиономии закрепилось выражение лёгкого слабоумия. Иногда, вернувшись домой, я забывал его снять, за что подвергался насмешкам жены. Надевать дебила приходилось часто – работал я в семи местах. Читал лекции в двух университетах. Халтурил консультантом в пяти детсадах. Вёл договорные курсы в банках, страховых компаниях, центрах профориентации. Даже, как ни странно, в Зеленоградском РОВД. Психология была в моде, работа валялась под ногами. За ужином я отключался, не доев.
Москва охотно забирала наши силы, но отказывала в статусе легальных душ. Мы были людьми вне сорта. Наше бытие вызывало сомнения. Заболей мы – не станут лечить, пропади – не кинутся искать. Жалобы, претензии? Вали, страна большая. Тема регистрации печальна и скучна. Но как мне избежать её? Как обойти тему жилья? Я пересматриваю образы Москвы, в голове тихо кликает слайд-проектор. Сейчас увижу что-нибудь изящное. Романтическое, возвышенное, как мини-юбки летом на Тверской. Чистые пруды, застенчивые ивы, переулочки Арбата… Но упираюсь лбом в бетонную конструкцию: работа, регистрация, жильё. За неубитую однушку хотели ежемесячно двести баксов плюс. Раз в полгода, обновляя договор, хозяева накидывали чирик. Не нравится – вали. Я понял, что такое классовая ненависть. Это когда твоя жизнь напоминает бег за фальшивым зайцем, собачий ипподром. Ты конвертируешь её в зелёные бумажки и скармливаешь жадным паразитам. Этот город меня потихоньку съедал.
Ресентимент… – поморщится какой-нибудь эстет. К людям надо помягше и на вопросы смотреть ширше. Так смотрите. Кого я оскорбил? Своих работодателей? Никоим образом, а мог бы. Ментов? Безосновательно – менты встречались разные. Но все мои лендлорды были редкие жлобы. Не знаю, как там власть, а халява развращает абсолютно.
Помню бодрую тётушку, владелицу жилья на улице Расплетина. Лицо простое, будто кукиш. Обыкновенно суетлива, возбуждена получением денег.
– Ребятки, не заплатите вперёд? За месяц или два. Присмотрела телек «Сони Тринитрон», красавец, большущий такой, диагональ – семьдесят! Надо брать, пока скидки.
– Так у нас столько нет.
– Ну, давайте сколько есть. Давайте, давайте! Забегу ещё к одним жильцам, недалеко. Может, они выручат.
Господи, – думаю, – за что ты подарил ей три квартиры? За какие свершения и подвиги? Мне, кандидату грёбаных наук, – ни одной, а ей – три. Если это сообщение для меня, выражайся пояснее.
Ещё был алкоголик Николай, сдавал пенал в хрущёвке на Филях. Сам где-то обитал на иждивении матери, деньги за квартиру пропивал. И ему, понятно, не хватало. Слишком тонка грань между опохмелиться и закрепить успех. Поговорить на эту тему Николай любил со мной. Пару раз в месяц ему удавалось застать меня дома.
– Макс, такое дело… У тебя не будет… сам понимаешь… взаймы?
Николай чешет кадык. Я вынимаю деньги. Через полчаса хозяин возвращается с бутылкой.
– Твоя дома? Давай махнём по рюмке.
– Слушай, – говорю, – вообще-то я работаю.
– Работа не волк, по сто – и я убёг. Не могу один, как ханыга.
Сперва я по наивности решил, что это в счёт квартплаты. Ты занял, я вычел, правильно? Неправильно.
– Я с вас по-божески беру, – обиделся Николай, – такая квартира дороже стоит. Мне знающие люди сказали: продешевил ты, Коль, продешевил. Такая квартира – двести пятьдесят самое малое.
Бог заговорил со мной о регистрации, хозяевах и жизненном пути в неподходящей обстановке. Или в самой подходящей – ему видней. Есть гипотеза о том, что навязчивые мысли сбываются. Якобы мы задаём себе цель. Четыре года я боялся попасть в обезьянник. Четыре года (и потом ещё двадцать) бегал от ментов в ночных кошмарах по тоннелям и эскалаторам. И вот я здесь, в набитой аутсайдерами клетке Бабушкинского РОВД. Запах блевотины и хлорки выедает глаза. Ещё пахнет мочой, бомжами, страхом, но это общий фон.
Как меня поймали? Cherchez la femme. Со мной на кафедре работала Татьяна Анастасьева. По документам – русская, москвичка. А по фейсу – что угодно от вокзальной гадалки до Пенелопы Круз. Уместно смотрелась бы на корриде, верблюде, стамбульском базаре. Однажды, смеясь, рассказала историю. На улице пристали цыгане, балаболили по-своему, одна схватила за руку. Татьяна вырвалась, брезгливо оттолкнула. «Пхагэл тут одэл! – крикнул цыганка. – Давно, коза, из табора отмылась?!»
На Бабушкинской мы читали курс «Стресс учителей и методы его преодоления». Я – бывший учитель, Татьяна – бывший методист. Кто мог лучше раскрыть эту тему? Раскрыли, двинулись к метро. Я не хотел идти с Татьяной, её часто останавливали. Броская внешность, цветастая шаль, менты тоже скучают…
– Молодые люди, документы предъявляем.
Меховой зверёк из пяти букв шевельнулся в животе.
– Так-та-ак… Вы, девушка, свободны, а ты – пойдёшь с нами.
Паспорт исчезает в недрах серого бушлата.
– Куда?
– В зоопарк. Пошли, чего стоим!
– Я тоже пойду! – Татьяна пристроилась рядом. – Ребят, отпустите, ну в чём проблема? Человек в командировке, нас люди ждут…
– Где временная регистрация? Командировочное, билет?
– Нету, – говорю, – так вышло.
– Значит, посидишь до выяснения.
Я вспомнил про двадцать баксов.
– Командир, может, договоримся? У меня штраф в паспорте, за обложкой.
Менты переглянулись.
– В следующий раз.
– Не повезло тебе, земляк. У нас план не выполнен, и смена кончается.
Идём сквозь мини-рынок. Группа чеченцев шумит у ларька. Татьяна вновь заговорила:
– Мы же свои, русские люди! Вон – их проверьте, и будет вам план.
– Ошибаетесь, девушка, – старший качнул головой, – они все с регистрацией.
В РОВД били двоих. Сначала одного – гуманизатором по рёбрам, затем второго – ногами. Менты тут были злые, красномордые, усталые. Я сразу понял, как себя вести – молча. Да. Нет. Готов заплатить штраф. «Заплатишь, – сказали мне, – потом». Забрали сигареты, кошелёк, толкнули в обезьянник. Внутри тесно стоял народ. Многие кашляли. Кто-то вполголоса матерился. Кто-то долго и трудно блевал. Хотелось скомкаться, не дышать, в идеале – стать мыслью.
Миллионы невиновных отсидели в лагерях, людей пытали, убивали ни за что. Позорно жалеть себя, и всё-таки… Конец двадцатого века. Почти цивилизованная страна. Трезвый, мирный человек идёт с работы – его бросают в клетку. Почему? Государство считает меня недостойным витрины. «Место!» – командует оно и похлопывает дубинкой о ладонь…
– А не послать ли это государство на хер? – произнесли над ухом. Голос привёл в движение ряд смутных образов. Пыль, сдуваемая с грампластинки. Тикающий часовой механизм. Липкий шелест фотоальбома… Я зачем-то оглянулся и сказал:
– Давно пора, но… страшно. Опять всё с нуля. Ты бы вытащил меня отсюда, Господи.
– Сами отпустят. Я по другому вопросу. И оставь эту архаику, называй меня…
– Высший разум?
– Фу, как пошло. Голос вселенной.
Я хотел сострить, но промолчал. Он догадался.
– Слушай и не перебивай. Ты говоришь: «за что?», «несправедливо», «разные стартовые позиции». Ты ноешь: кому-то – много, бесплатно и сразу, а тебе – остатки, втридорога и потом…
– Я такого не говорил.
– Молчать! Запомни: важно не имманентное, а трансцендентное. Не то, что дано, а как использовать. Попытка сделать рывок, качественный скачок из одного мира в другой. Привилегия нескольких жизней. Шанс узнать, человек ты или мох. В этом – твой смысл. Завтра едешь в австралийское посольство. Потом – в новозеландское. Берёшь анкеты, формы, списки документов. Решаешь, куда проще отвалить. Затем – нотариус, подтвердить квалификацию, сдать языковой тест. Канительно, дорого, но выполнимо. Готов?
Я кивнул. Тотчас лязгнул засов, решётка в новую жизнь отворилась.
– Неволошин! На выход.
* * *
Допустим, я остался в Мюнхене. Стал бы теперь бюргером в кожаных штанах, пил бы Löwenbräu. Хотя я и так его пью, не в этом дело. Просто интересный был момент: развилка, точка ухода в альтернативную жизнь. Без диссертации, степени, Новой Зеландии и Австралии. С альпийскими озёрами, Швейцарией и Веной. В пугающе уютном, домашнем городе. В неизменной компании женщины, с которой не надо быть сильным, храбрым, успешным, вообще никем другим.
Сначала нелегально, а какие варианты? Я там за год понял кое-что. Тридцать лет совка – хорошая закалка: где угодно выживешь, тем более в Европе. Тем более ко мне жена приехала. Она ещё не была женой, но шло к тому. Соблазн остаться грыз меня насквозь. Лежу в постели с девушкой мечты и насилую извилины: что делать? Какой план? Через день она уедет, потом вытаскивать сложнее. Немецкий я освоил, где чёрная биржа труда знал. Шварцарбайт, мойки-стройки, уборка конюшен – два человека. Жесть, но мы бы справились. Не это меня остановило.
Моё невозвращение стало бы проблемой. Во-первых, для приятеля, который запихнул меня сюда. Приятельство наше было компромиссным, вымученным. Напоминало пьесу в театре К. Барабаса. Но время актёрского бунта ещё не пришло. Во-вторых, я сломал бы планы тех, кто готовился ехать следом. Фонд Sonnenstrahl, оплативший учёбу, кисло бы воспринял инцидент. Немецкие коллеги тоже. Я не фанат кидать людей, Платон мне друг, но майка ближе к телу. Судьба один-то шанс даёт нечасто и не всем.
Диссертация – вот главная причина. Незащищённая, а лучше – беззащитная. Продукт «любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия» и т. д. Аспирантура, три года зависания на острие, на высшей точке чёртова колеса. Сотни незаметных часов в Ленинке. Мягкая упругость клавиш, щёлканье литер по бумаге. Шрифт как спасение от хаоса. Толкотня умов, холодный блеск интриг. Экзистенциальная свобода, догадки, изумления, осознание всё более глубокое, что ты по-прежнему не знаешь ничего.
Если бы я защитился в мае… Обрёл бы законные полчаса славы, ваковские корочки. И осенью – grüß Gott, München. Может, видел бы сейчас другие горы за окном. Моими рецензентами были два профессора, старых, заслуженных хрена. Оппонентом – миловидная дама без глупостей, завлаб психологического института РАО. Научный руководитель объяснила мне, что расклад сил на кафедре мутный, однако эта троица – гарантия успеха. Главное – молчать, кивать, благодарить.
С оппонентом мы встречались дважды в институтском коридоре. Всякий раз дама куда-то спешила. «Диссертация в порядке, – был её вердикт, – есть пара скользких мест, я их там отметила. Именно о них спрошу вас на защите. Важно, чтобы это сделала я, а не кто-то другой. Конкретику согласуем по телефону».
Рецензенты отнеслись к делу серьёзнее. Оба пригласили меня домой. Квартиры их были с похожим музейным душком. Лепнина, абажуры, тиснёные обои. Кабинеты, заросшие диванами, бумагами, шкафами. Что-то в рамочках курсивом под стеклом. Остро не хватало чая в подстаканниках. Чтобы дымок, мельхиоровый звон и горничная в фартуке с подносом.
Я быстро догадался, что первый рецензент диссертацию не читал. Он ещё быстрее понял, что меня это устраивает. Хитрый, подвижный старикан, лицо в красивых розовых мешочках. Санта-Клаус без фальшивой бороды. Дальнейшая беседа отличалась светскостью. То есть готовностью забыть собеседника раньше, чем он удалится.
К наезду рецензента номер два я оказался не готов. Настолько, что захотел выйти и сверить адрес. И обрадоваться, что попал не туда. Он раскатал меня, как прапор салабона – весомо, грубо, но без мата. Виртуозно прошёлся по грани, ни разу не соскользнув, а было куда. Спец по военной психологии, генерал-майор в отставке. Возможно, в прошлом его где-нибудь контузило.
«Вы издеваетесь? – он потряс моей рукописью. – Какая… ынт… досрочная защита?! Да я этот текст… мм-бт… к совету близко не пущу! Диссертация сырая, как недельная портянка! Кха-к-кхэм… Дилетантизм и выпендрёж! Ну и соискатели пошли… О бабьих хвостах больше думают, чем о работе. Ничего. Не из таких буратин выстругивали. Работать! – он хлопнул диссертацией о стол. – Пахать! Ещё как минимум до осени. Записывай, во-первых…»
Диктовал он быстро, я конспектировал почти автоматически. Отдельные фразы потом удалось разобрать:
…введение жидкое – добавить мяса…
…иностранные термины заменить отечественными…
…невнятно – отделить мух от плевел…
…логика хромает – кто на чём стоял…
…всю главу переписать в русле Ломова…
…слишком много Фрейда – заменить Ананьевым Б. Г.
Меня охватил ужас. Я бросился к научному руководителю.
– Ольга Павловна! Это что-то странное… Фёдор Кузьмич, он вообще… как бы… здоров?
– Вопрос неправильный, – усмехнулась начальница, – вторая попытка. Кстати, он уже звонил.
– Что мне делать-то?
– Вот. Не соваться к нему до осени. Учесть все замечания, сделать косметические правки.
– А если снова завернёт?
– Не завернёт. У него метод такой: сначала шумит, потом хвалит. Ты же понимаешь, деду надо удержать самооценку. Показать, что он ещё не реквизит.
– Да, но откладывать защиту, переделывать готовую работу?
Начальница поморщилась.
– Объясняю. Фёдор Кузьмич – тёмная лошадка, бомба с секретом. На защите его может понести. Поэтому важно, чтобы он был с нами. Тогда ситуации обратная. Его положительный отзыв – бетонная страховка от сюрпризов. Если кто и вякнет не по делу – он порвёт.
Расстроился я не особенно сильно: грамм на двести и поговорить. Вадим, по счастью, оказался дома. Помню, тема Мюнхена возникла именно тогда. Однако не раньше, чем я поделился событиями дня. Не раньше. Но до второй бутылки точно. Мой сосед по комнате – друг, враг, педант, невротик – уважал точный расчёт.
– Хочешь поехать в Мюнхен на год? – сказал он как бы вскользь. – С октября по июнь. Интернатура в местном университете. Всё, кроме билетов, оплачено: жильё, стипендия. Решать надо быстро.
– Я предпочёл бы Итон. Или Стэнфорд.
Он покачал головой.
– Без шуток. Своё место отдаю. Цени, сынок.
– Тогда не понял. Что за интернатура? Что за место? Рассказывай.
– Всё просто. Или сложно, – начал он, – шеф осенью уходит с кафедры, сам знаешь. А без него мне защититься не дадут. Ты сразу две не мог взять? Идём, по пути расскажу.
Несколько лет мы ошибочно считались друзьями. Этот альянс удивлял многих, включая нас самих. Шло время окончательной фильтрации людей. Случайные, чужие не оказывались рядом. Всему существовал мотив. Я был адаптером Вадима для контактов с миром нормы. С бесхитростными чувствами, логичными поступками. С лиризмом забегаловок, нетрезвым женским смехом, интимом общежитских дискотек. Я был одёжкой, по которой нас встречали. Взамен мне удавалось заглянуть в его реальность. Примерить обсессивно-компульсивное расстройство. Впустить сквозняк абсурда в предсказуемый сюжет.
Скучных индивидов в поисках гармонии тянет к маргиналам. Путь тупиковый, что выясняешь годам к тридцати. Гармонии нет, есть только приключения на свою задницу. В юности среди моих друзей преобладали фрики. Один мог на спор закусить фужером. Этот фокус часто помогал нам расплатиться в кабаках. Фокусник окончил школу с пятью двойками. Впоследствии стал мини-олигархом. Другой приятель на собрании филфака пытался сжечь билет ВЛКСМ. Отчислили немедленно. Сейчас он – знаменитый журналист. Ещё один, скрываясь от долгов, фиктивно утопился. Записку нашли быстро, тело – месяцы спустя. Лет через семь некто похожий был замечен в дауншифтерской тусовке на Гоа. Чтобы подняться над собой, – размышлял я, – необходимо быть отчасти сумасшедшим. Подцепить эту заразу в лёгкой форме и развить иммунитет.
Меня не беспокоили компульсии Вадима. Балетные движения у окна. Выбрасывание в форточку невидимого сора. Книксен на пороге общежития. При этом всякий раз сосед чего-то бормотал. Сперва мне показалось: «дай нам, Господи, святой час», затем: «чур меня, чур, нечистая сила». Наконец, прислушавшись, я уловил: «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Словом, учебное пособие, которое всегда рядом. Спит, ест, ходит в общий туалет. Порой совокупляется, когда тебя нет дома.
Без шуток, я сочувствовал Вадиму. Не только из природной мягкотелости. Я знал, что в голове его живёт шуршащий страх. Боязнь нелепых ситуаций, потери контроля, ошибок, идиотов, вообще людей. А как иначе? Люди – главная проблема. Дай возможность – накосячат, кинут, солгут. Но и страх одиночества тоже. Потому что одному за всем не уследить. Потому что на войне кто-то должен прикрыть твою спину.
В последний год аспирантуры Вадик много стрессовал. Ритуалы его сделались затейливей и чаще. Выражение фоторобота подолгу зависало на лице. Пару раз в неделю он ходил на тренинги. Психодрама, транзактный анализ, НЛП. Помогали они слабо. После них хотелось выпить. Вадим с энтузиазмом обратился к алкоголю. Выпивка творила чудеса. Сосед мягчел, тянулся к обществу, имел успех у дам. Очки его взволнованно блестели. Чудаковатость выглядела стильной, язвительность – загадочной. Скептицизм принимался за мудрость и жизненный опыт.
Удивительно – хотел о Мюнхене, а получается о Вадике Дроздове. Как он пролез в этот рассказ? Сочинительство напоминает мне прогулку с любознательным ребёнком. Расслабишься, отпустишь – бежит невесть куда. Задумаешь, допустим, новеллу о грибах – выходит повесть о собаках. А проницательный читатель видит комплекс неудачника. Или, не дай бог, тоску по хохломе. Что же, прицепить дитя на шлейку? Или проследить, куда оно спешит? В какой чулан успело сунуть нос?
Дроздова в моей жизни было лишнего. В метафизическом пространстве – тоже. Кстати, вычистить последнее значительно трудней. Однако в этой тёмной комнате роль бывшего соседа видится иначе. Тут у него звёздная роль. Миссия. Без него я не попал бы в Мюнхен. Город, который отредактировал меня, нет, переписал заново. В новой версии я знал, что счастье – производная времени и места. Но больше всё-таки места. Что хорошо там, где мы есть, надо только это место отыскать. Что город можно полюбить, как существо. Мало того, он способен ответить тебе взаимностью.
«За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно…» Эта строчка некогда казалось мне абсурдной. Какой резон платить за угол, если там не жить? А просто – убедиться, что он существует. Увидеть свою выемку в стотысячном пазле земли. Искать, ошибаться, не разминуться – возможно ли? Впрочем, есть надежда, что поиск идёт с обеих сторон. Места тихонько, исподволь отбирают себе людей, подают им знаки. Мюнхен получился репетицией отъезда насовсем. А хотел бы стать премьерой. Сходя по трапу, я почувствовал тепло. Необычное для октября, ровное. Затем бегущая дорожка, текучие огни. Зал, наполненный сдержанным эхом… Таможенник равнодушно соскользнул на английский.
– Цель приезда?
– Учёба, – ответил я. И улыбнулся внутри.
Marlboro, Camus, Panasonic… Lufthansa, Adidas… Задумчивые манекены, деликатный свет из ниш, гламурная отрава дьюти-фри… Совершил посадку рейс компании «Дельта» из Майами… Ароматы кофе, горячего пирога с ягодами, чего-то новогоднего, трогательного, еле уловимого (ваниль? корица?). Джазовая тема бара. Знакомая по фильмам речь. Звучала она тихо и совсем по-человечески. Европейцы, как водится, демонстрировали стильный пофигизм, решительно отказывались быть толпой. Даже торопились они элегантно. Цветные, обтекаемые чемоданы двигались за ними будто сами. Я замедлил шаг. Город пытался мне что-то сказать. «Entschuldigung», – прозвучало за спиной, и люди обогнули меня, будто остров.
Над головами встречающих мелькнула знакомая фамилия. Мой взгляд поймала девушка в оливковом плаще. Тревожная улыбка, прохладная ладонь. Криста, аспирантка, из особых примет – веснушки и новый фольксваген. Хорошенькая немка – такой же оксюморон, как плохой автобан. И пусть, нам отвлекаться ни к чему. Тем более, что на спидометре – двести. Ландшафт воспринимался приблизительно. Моего немецкого хватило на короткий диалог.
– Как долетели?
– Пациент скорее жив…
– Сейчас поедем в кампус. Поселю вас, отдохнёте. Завтра можно посмотреть Oктоберфест. В понедельник ждём в лаборатории. Это рядом, вам любой покажет.
– Спасибо, Криста. Вы чудесная.
– Никаких проблем.
За окнами темнело примерно с нашей скоростью. Уплотнились здания, вспыхнули огни. По салону двинулись тени. Уютно замерцала приборная доска. На светофоре Криста включила радио. Группа Eagles угадала моё состояние: «Take it easy, take it easy. Don’t let the sound of your own wheels drive you crazy…» Бесцеремонно вклинилась заставка новостей. Я узнал слова «Москва» и «танки». Фамилию «Хасбулатов» диктор исказил.
Утро. Теоретически я понимал, где нахожусь. Комната выглядела чистой, светлой и пустой, как новая жизнь. Минимум предметов в стиле IKEА, умывальник, зеркало. Остальные удобства – извне, но главное – свободны. Я привёл лицо и тело в относительный порядок. Тишина на этаже удивляла сама себя. Будто дом, привычный к шуму, кто-то разом обеззвучил. Затем удалили людей. Тут, словно по ошибке, вдали проснулись кухонные звуки, голоса. Их тотчас приглушили. Заодно мой аппетит сместили влево от нуля. Не хотелось даже кофе. Я поспешил на улицу.
Так не бывает, – вот первая мысль. Я этого не вижу. Пространство, населённое людьми, не может быть настолько безупречным. В реальном городе всегда найдётся трэш. Какая-нибудь лишняя труба, архитектурное безвкусие, шум стройки, теснота, ненужный запах… Мюнхен этот факт опровергал, как идеальное эстетическое высказывание. Метафора навылет, афоризм по шляпку. Сказка, отшлифованная временем, гравюры фон Каульбаха или Доре. Возникло смутное, знакомое по книгам чувство: я вспоминаю город, в котором не был, а он – меня. Очная ставка зазеркалья с бытием. И наконец глубокий вдох: я дома.
Это чувство испугало меня дважды. Второй раз – в Сингапуре через много лет. Ощущение шпиона, «спящего» агента, который долго выживал бог знает где. Потом о нём забыли, он смирился, оброс историей, привычками, друзьями. Чужбина стала родиной, легенда – биографией. Другая жизнь – абстрактной, как линейный интеграл. Пустота в душе неплохо заполнялась алкоголем. Но где-то в пыльном шкафчике сознания хранился город-ключ. Невыразимый эпитетами и глаголами, сверхфокусный, кукольный мир, лавка игрушек за час до открытия. Шли годы, и однажды кто-то вычислил таинственную дверцу. И выступы бородки надавили на засов.
Синхронно этот кто-то изменил настройки дня. Добавил чёткости и яркости, перенасытил воздух кислородом, убрал шумы и гравитацию. Я двигался, не замечая собственного шага, вернее, город медленно скользил навстречу. Открывались новые улицы и здания – светлые, бежевые, кремовые, всех тонов песка. Блики окон в тёмных рамах напоминали о картинной галерее. Карминовая черепица – о спинах древних рыб, фахверк – о гигантской азбуке. Мансардные балкончики для эльфов и цветов выглядывали из крыш.
Эклектика отсутствовала напрочь, хотя дома имели лица. Одни сверкали витринами, радовали глаз знакомой лексикой: Müller, Apotheke, Deutsche Bank. Другие затаились в палисадниках среди остроугольных елей и тлеющих красок осени. Дома были разными, но совпадали, как шестерёнки в часах. Будто город создавался целиком каким-то гением дизайна. И – лёгкая, сквозная тишина, в которой можно потерять или найти всё что угодно. Скоро я узнал, что воскресенье здесь немое до полудня. Верующие – в кирхах, остальные спят. Но тогда это казалось спецэффектом. Совпадением героя, зрителя и автора.
В тот день я полюбил ходить пешком и одиночество. До того прогулок избегал, а одиночество старалось избегать меня. С годами любовь опасно усилилась. Порой я чувствую соблазн уйти и раствориться в пейзаже. Как Лев Толстой или Гоген, песочком, босиком. Чтобы потом спросили (если спросят): а где он, этот… как его? Ушёл куда-то. Ну и бог с ним.
К полудню впереди открылся парк, блеснуло озеро. На берегу паслись упитанные гуси. Готическая вывеска «Biergarten» украшала перекладину ворот. Десяток посетителей углубились в тайны своих кружек. Я это понял как знак. Единственная денежка, пятьдесят марок, купленная в обменнике на Тверской, беспокойно шевельнулась рядом с сердцем. Не увлечься бы. Далее – неясная стипендия, финансовый туман. Да гори оно! Знак есть знак. И я уселся за ближайший столик.
О подобном заведении упоминалось где-то у Войновича. Там были вывеска и парк. И озеро с гусями. Я вспомнил, что писатель живёт в Мюнхене. Даже огляделся повнимательней, а вдруг…
– Grüß Gott, – сказали над плечом.
Войнович стоял рядом. В тужурке с логотипом, в сине-белом фартуке. То есть это был официант, но здорово похож. Коренаст, богатая седая шевелюра, диссидентский прищур. Я не удивился.
– Недавно в городе? – уверенно спросил он.
– Первый день.
– Нравится?
– О-о-о… – я качнул головой.
– Пива? – ещё твёрже сказал он.
– Безусловно.
Он распахнул меню. Читать не имело смысла. Цены смотрелись почти вменяемо.
– Хм… – помедлил я, – а какое пиво самое лучшее?
Войнович поднял бровь.
– Löwenbräu, конечно. Ты в Баварии, дружок.
Я совершил долгий заныр в кружку. Уф… Повторил. Затянулся первой в этот день сигаретой… И поймал ощущение небытия. Паузы. И понял, что никуда отсюда не уеду.
Тот же город шесть месяцев спустя. Ночь, слегка разбавленная утром. Девушка мечты пошевелилась рядом тёпленько. Пробормотала нечто вроде: «Ты не спишь? Я тоже попытаюсь…» И поуютней завернулась в одеяло. Сейчас она проснётся, я скажу: «Останемся?» И она вдруг согласится, что тогда? Закончатся каникулы, появятся студенты. Левого человека в общежитии вычислят на раз. Значит – снимаем жильё. Значит – деньги. Стипендии не хватит, интернатура – побоку. Немедленный поиск работы, не когда-нибудь – сегодня. Заждались нас там, ага.
Страшно рисковать. Страшно оставлять любое барахло – в шкафу ли, в голове. Стать никем. Пройти сквозь нищету, забить на диссертацию и степень. Но – с любимой женщиной и городом – вместе, сразу – мало? Стать нотой, жестом, частью этого манерного, замедленного праздника. Или заткнуть уши, отвернуться… вернуться. За верный угол ровного тепла… Ну так плати, засранец.
А если она скажет «нет»? У меня тоже диссертация. И мама нездорова, и вообще. Нельзя так – в омут головой. Без визы, нелегально, как мыши в подполье. Без нормальной работы, медстраховки… пять лет, десять, сколько? Нет, защитимся и уедем по-людски. Это будет правильно. Только мир непредсказуем, а жизнь полосата. Ну как через год закроют дверцу? Запретят сюда, не выпустят оттуда. А сейчас мы уже здесь, вместе – уникальный шанс. Возвращение эстетически ущербно, неприемлемо. Это как лечь в несвежую постель. Вернуться и до конца дней терзать себя: ведь было же, было. Вот оно, в руках…
Утро поменяло розоватый цвет на бледно-фиолетовый. Погасла утомлённая реклама гастронома «Tengelmann». Автобус пересёк квадрат окна. Холодно… Я вдруг осознал, что давно нахожусь не в постели. А бессмысленно разглядываю улицу, собирая с подоконника невидимые крошки. Я догадался, что сейчас произойдёт. Остановись, безумец! – прошептал рассудок. Но что-то в тёмной глубине сознания, неодолимое и подлое, одержало верх. Движением танцора оно выбросило «мусор» в форточку. Виновато оглянулось и произнесло: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».
* * *
Отмечали резиденс биолога Лашкова или отсрочку депортации, не все гости знали повод. Поздравляли с тем и этим, дважды спели «happy birthday», хозяин не возражал. Муниципальная квартирка потеряла размеры, дверь – остатки смысла, холодильник наполнился подарками. Юрий Лашков, исследователь москитов, прибыл в Веллингтон из Новосибирска для соединения с женой. Но пока оформлял бумаги, ждал визу, то-сё, жена соединилась с местным лоером. Статус Юры временно завис. И вот, с помощью мужа бывшей наконец-то прояснился. К пятому часу утра из напитков остался разливной джин без тоника. Из закусок – вчерашнее горячее.
– Я её понимаю, – рассуждал биолог, сервируя жареный картофель, – Винсент – нормальный мужик. Ей с ним ловчей и детям тоже. Спросят, допустим, в школе: кто ваш папа, и что им говорить? Хрен в пальто? Там я был завлаб, а здесь…
– Юр, хватит уже, целый вечер слушаем про твою шалаву, – заметила Татьяна, грубая, прямая женщина, бывший начальник общепита. – Был всем, стал никем. Сенсация, блин. Я пол-Владика имела вот так, – она громко щёлкнула пальцами. – У меня квартира была… пятикомнатная, и везде – люстры.
– Ну и зачем уехала? – спросил Артём Самарский, поэт, музыкант, невзошедшая звезда российского шансона. Человек в компании новый, иначе не спрашивал бы.
– Подставили меня, Артемий, – Татьяна помрачнела, – развели, как малолетку, до сих пор трясёт. Валить надо было срочно и куда подальше. И чтоб меня забыли. А забывчивость больших людей стоит очень дорого.
– Забыли?
– Надеюсь. Ты-то сам чего забыл в этой дыре?
– Я-то? – Артём довольно усмехнулся, он ждал вопроса. – Я эмигрант стихийный, климатический. Мне нужен ветер, океан, циклон. А российская погода для меня как несвобода. О, в рифму заговорил.
Он подтянул к себе гитару. Приобнял, взял аккорд, другой. И вывел хорошо поставленным кабацким баритоном:
Спой нам, ветер, про синие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры, про… мм…
– Дикие просторы, – подсказал кто-то. Артём кивнул.
Про дикие просторы,
Про смелых и больших людей!
На слове «больших» он подмигнул Татьяне.
– Не-а, – сказала Татьяна, – климат здесь – тоже говно.
А мне ответ барда понравился. Отъезд как жест. Как поиск родственной стихии. Поэтично, двусмысленно – берём. Раньше мы с женой были эмигранты просто так, отчего испытывали лёгкий дискомфорт. Для политических – излишне мягкотелы. Для колбасных – чересчур погружены в себя. Да и кормили нас в отечестве терпимо. Холодильники существовали помимо магазинов, люди – в стороне от государства. Шили самопал, читали самиздат, гнали самогон. Фарцовка увлекала, как искусство или спорт. Правильные джинсы лидировали в топе ценностей, обгоняя дружбу, любовь и не получить на танцах в морду. По воскресениям улыбчивый мерзавец в телеке рассказывал о дальних странах, где нам не светило побывать. Претензии к властям носили больше эстетический характер. «В связи с чем выезжаете на ПМЖ?» – спросили моего знакомого в ОВИРе. «Чтобы не слышать, как поёт Кобзон! – ответил тот. – Не могу жить в одной стране с Пугачёвой, Кобзоном и Асадовым». Претензии верхов к низам были до зевоты симметричны. Сегодня ты закуришь «Кент», а завтра – вражеский агент. Помните? Сегодня наливаешь виски, а завтра ты – шпион английский. Тех, кто слушает «Пинк Флойд»… ну и так далее. Ощущение, что ты – внутри анекдота, который давно перестал быть смешным.
И это всё? Не всё. Я задаю себе вопрос: допустим, разрешили бы тогда любую музыку, фильмы, книги. Никакой идеологии. Никакого дефицита. Кожаный верх, замшевый низ, деним за полцены, сервелат в нагрузку. Туалетная бумага с фейсами вождей. Битлы на Красной площади с оркестром. Папа-генерал, МГИМО, квартира в центре, дом за городом… Уехал бы я всё равно? Уехал бы. И жена бы уехала. Значит, дело в климате.
К отечеству я в целом равнодушен. Любить и обижаться – не за что. Гордиться мне привычнее своими косяками. В ностальгии ощущаю фальшь. Хоть та земля теплей, а родина милей. Помню, репетировали в садике. Я думал: теплей – понятно, измеряется в градусах, а милей – это как? И почему? И сравнить не помешает. Или вот: хоть похоже на Россию, только всё же не Россия. В чём разница-то? С чего тоска? Не опохмелился вовремя? Люди меняют нечто более интимное, чем страны. Например: супругов, внешность, пол, мировоззрение. Нелепо заморачиваться из-за территорий, где нас без спросу извлекли на свет.
Итог самоанализа – коктейль «Родина»: 30 мл печали, 40 мл досады и 60 мл удивления. Потрясти в шейкере, добавить три-четыре кубика страха. Но о страхе потом. Удивление интереснее. Только по нему я узнаю себя в нуаре детских фото. Вот – коллективное сидение на горшках. Кто это снимал и зачем? Общий энтузиазм, лишь на одной физиономии скепсис. Первое сентября, костюмчики, цветы. Какой-то пионерский балаган. Здесь лица уже разные: скука, мука, пустота… недоумение. Стоп, это я.
Смутная идея ошибки – ровесница моей памяти. Чувство, будто меня с кем-то перепутали. Сомнения колобка, попавшего в набор гостинцев для бабушки. Полумрак, и тебя куда-то несут. Рядом пироги, масло – вроде свои, а контекст не тот. Какого хрена я здесь делаю? Кто меня сюда заслал? Всё не так, ребята.
Оказаться сразу в подходящем месте – редкая удача. Такая же, как найти работу, где зарплата кажется бонусом. Или человека, с которым нестрашно стареть. Нет, я понимаю, родиться можно в Кении или Сомали. Однако там есть преимущество незнания. Сообразить, в какой ты зопе, просто некогда. Чуть задумался – тебя уже едят.
СССР давал возможность размышлений. Углубился – и хоть не выходи. В очередях, например, славно размышлялось. На автобусных остановках. Я думал: неужели это всё моё? Эти косматые бараки, сталинки, хрущёвки, чёрные дыры подъездов. Сквозняки присутственных мест, решётки на окнах, кирпичная тяжесть школ… Моё, да? Или всё-таки чужое? Необходимость мимикрии. Ежедневное исчезновение какой-то малости себя, фрагмента, пикселя. Чёрно-белый фон девять месяцев в году. А главное – холод внутри и снаружи, холод на букву «ша». Шарфы, шубы, шапки, подштанники с начёсом. О, мерзкая ноша! О, вечное, изматывающее, горькое ожидание тепла!
Неплохая, кстати, фраза: страна ожидания тепла.
Но если здесь я лишний, то где – свой? Ответ родился на премьере «Фантомаса». В нашем городке это событие вспоминают до сих пор. Кинотеатр давила очередь, народное цунами сметало билетёров. Милицию колбасило. Хулиганьё с колготками на лицах терроризировало винный магазин. Я видел фильм четырежды, два раза «на протырку». Единодушно с залом цепенел от страха, восхищался, ржал, как типичный подросток-дебил. Пока экран не заполняло ослепительное море. Левитация утёсов, одинокий пляж. Цвета воды, песка и гор могли составить флаг. Шоссе напоминало почерк гения. «Остановитесь! Мне сюда!» – кричал далёкий голос. Но фильм, исполнив миссию, катился прочь.
Словосочетание «Лазурный берег» я узнал лет через восемь. Образ долго был свободен от захватанного, глянцевого имени. Он созрел до идеи пространства, куда меня надо вернуть. Стал более предметен, чем реальность. Запустил программу в голове. Превратился в цель и смысл. Дневник украсили пятёрки по английскому. Рисунки в тетрадях достигли высот мастерства. К морю, пальмам и чайкам добавились яхты. Следом – человек в шезлонге с книгой, закатная дорожка на воде. В девятом классе у героя появилась сигарета. В десятом – стильная бутылка и фужер. Теперь на вопрос «Кем ты хочешь стать?» я честно отвечал: «Колобком. Чтобы свалить от вас к едрене фене». Шутка. На самом деле я говорил: «Оператором машинного доения». Ещё я понял, что такое одиночество. Это не отсутствие друзей. Это когда не с кем поделиться главным. Когда друзья устроены иначе, а родители ещё не доросли.
Маленькая пустота в груди увеличивалась вместе с телом. Тоска по равновесию и цельности, ностальгия наоборот. Отчасти её заполняли книги. Читал я бессмысленно и беспощадно, почти не отвлекаясь на еду, школу, сон и романтические терзания. В юности книги слегка потеснил алкоголь. Я выучился читать нетрезвым, зажмурив один глаз, иначе буквы расползались, как насекомые. Алкоголь и книги объединились в борьбе с действительностью. Дружно отодвигали её, как рабочие сцены – использованную декорацию.
И открывалось море. Тёплый ветер с берега, запах нездешних растений. Холмы из зелёного фетра, и среди них, подобный бабочке, весёлый, разноцветный город. Там небо другое, люди другие – открытые, улыбчивые, светлые. А как иначе, если носишь шорты и сандалии круглый год? Там нет понятий «ждать» и «спешка». Сандалии – обувь медленная. Время – не мера, его нельзя потерять. Оно невесомо, бесплатно, как воздух. Цикличность бытия разомкнута, в сутках часов тридцать или пятьдесят. Или сколько надо. Там низкие кусты вместо оград, атласные закаты и неуверенность: какой теперь сезон. Новый год определяют по ёлкам в супермаркетах. И наконец, – всё это далеко.
Короче, город Веллингтон я себе придумал. Ошибки исключались: я знал, что реальность – плагиат вымысла. Энциклопедии могут соврать, фантазия – никогда. Оставалось лишь уехать в сочинённый мною город. Что может быть разумней и естественней? Только свалить туда вместе с женой.
– От проблем не убежишь, – сообщил один друг, – их надо решать.
– От себя не убежишь, – интимно поведал другой.
– Ты и есть проблема, – догадался третий, наиболее успешный и богатый. – Захандришь – возвращайся. Возьму на работу.
– А хрен вам, – сказали мы с женой.
Нам было чуть за тридцать. Пара кандидатских, четырнадцать рабочих мест, восемь арендованных квартир. Плюс движимое имущество – одна сумка. Минус родственники там, перспективы – здесь, деньги – везде, то есть нигде. Между тем утихала гульба и пальба девяностых. Заграница нас любила, но уже без огонька. Просвет легальной эмиграции сузился до размеров небольшого ангела. Выпускали хмуро, брали привередливо, едва ли не обнюхивали, морщась. Бумажных дел мастера изгалялись с обеих сторон. Типичная история, увлекательность которой обратно пропорциональна её длине. Даже в романах-бестселлерах она заменяется фразой «незаметно прошло два года».
Улетали мы как-то буднично, аж досада взяла. У людей отъезд на дачу выглядит значительней. В последний момент не раздался звонок. Проникновенный голос в трубке не сказал: «Останьтесь. Всё забудем и дадим». На Ленинградке и съезде к терминалу чудесным образом исчезли пробки. Толпа пьяных друзей с гармонью не явилась в аэропорт. Мы избежали прощальных объятий, напутственных слов и размытой косметики. Двое встречных ментов и овчарка были задумчивы, как аспиранты филфака. А ведь я готовился, почти хотел услышать: «Эй, стоять! Документы предъявляем. Ишь, собрались, умники. Мы, понимаешь, здесь, а эти гады – в Новую Зеландию. Пройдёмте-ка…» Нет, тишина.
Даже стук пограничного штампа не вызвал эффектных ассоциаций. Например, с аукционом или залом суда. Или со звуком гильотины. Какие сравнения пропали! Просто «тук» и «тук». Второй «тук» слегка запаздывал. Я оглянулся. Пограничница беседовала с моей женой. Напрягся, слышу:
– В Новую Зеландию?
– Да.
– На ПМЖ?
– Ну да.
Тётка в униформе с прищуром взглянула на жену. Увидела длинный лайковый плащ, нефритовые глаза. Ангельское лицо кинозвёзды семидесятых. И произнесла сочувственно:
– Говорят, там все мужики, как наши колхозники.
– Я со своим лечу, – ответила жена.
И обе с интересом посмотрели в мою сторону.
Очарование моей лучшей половины сродни инсайту или дежавю. Она приковывает и туманит взоры. В её присутствии сбиваются кассиры, банкоматы, светофоры и часы. В любом аэропорту жена подвергается назойливому вниманию контролирующих служб. Вначале меня это беспокоило. Затем я стал их понимать. Приятно докучать красивой женщине на законных основаниях. Заглянуть в косметичку, исследовать фигуру металлоискателем, обнюхать собакой. В крайнем случае – поговорить.
Следующий диалог произошёл в накопителе. Задерживалась посадка на рейс компании JAL. Пассажиры маялись в неудобных креслах. Вдруг где-то сбоку прорезалась дверь. Будто из стены шагнул японец в костюме и галстуке. Огляделся и двинулся прямо к нам. Ага, вот оно, – похолодел я. Но реальность оказалась круче. Японец опустился на колено перед моей женой и на внятном английском сказал:
– Простите за ожидание, мадам, небольшой форс-мажор. Двое пассажиров передумали лететь. Необходимо выгрузить их багаж, что займёт…
– Это не мы, – пошутил я.
Он проигнорировал меня с достоинством самурая.
– … что займёт не более пятнадцати минут. Ещё раз прошу извинить.
– Спасибо, – чуть растерянно ответила жена, – но почему не объявить это для всех?
– О да, конечно, – самурай поднялся, – я ведь за этим и шёл.
Сбыча мечт, особенно розовых, – хитрая штука. Спросите Мартина Идена. Даже моментом насладиться трудно. Когда оно случается, ты ещё не веришь. Когда поверил, оно уже рутина. Я поверил с опозданием часов на семь. Не тогда, когда Боинг, взяв октавой ниже, превозмог четыреста тонн здравого смысла и земля стала быстро превращаться в карту местности. Нет, тогда это казалось путешествием. Ощущение родов возникло после Токио. Многочасовые, тяжёлые роды как финал двухлетней беременности. Я был одновременно акушером, новорожденным и матерью. И адрес доставки выбрал сам. Смерть здесь тоже присутствовала каким-то боком. Ведь эмиграция – не только смена места, языка. Ты сам меняешься четверти на три. Уходит морщинистый циник с тяжёлым анамнезом, появляется некто глупее, моложе, легче.
Сидней, «окно» между рейсами. Всюду голые ноги, открытые плечи, приветливые декольте. Джинсы выглядят извращением. У нас тоже есть шорты, но они в багаже. Вышли под убийственное солнце. Внутри зашевелилась самолётная еда.
– Знаешь, на кого мы похожи?
– М?
– На двух куриц-гриль. Их выпотрошили, начинили чем-то посторонним и сунули в горячую духовку.
– Смешно.
Попытка автобусной экскурсии. Проснулся я только раз. За окном волновался перекрёсток, гневно сигналили автомобили. На меня в упор смотрел блестящий, чёрный памятник. Казалось, он выполнен из гудрона и стекает на постамент.
Вторично мой сон оборвали глухие удары. Мы снова летели. Самолёт кидало вниз и поперёк, будто лодку по волнам. Небо и море похожи в этом смысле: обе стихии легко раскрывают тему как маленького, так и лишнего человека. Я вспомнил, что в Сиднее на веллингтонский рейс загрузилась команда баскетболистов. Теснота в салоне резко увеличилась. Запахло недавней победой и вискарём. Зазвучал неряшливый английский, в котором перепутаны все гласные. Видимо, ребята забыли пристегнуться и теперь стучались головами в потолок.
«Привет, девочки и мальчики, – раздался уверенный голос в динамиках, – это капитан Глен Вильямс. Мы подлетаем к Веллингтону, если кто забыл…» Говорил капитан чуть понятней спортсменов. Я успевал расставлять по местам его гласные. Уловил «столица ветров», «над проливом Кука штормит» и «сядем вовремя, но жёстко». Глен Вильямс недооценил свой профессионализм. В 23:45 мы нежно коснулись поверхности Новой Зеландии.
Аэропорт был какой-то ненастоящий. Напоминал замаскированный плакатами сарай. Тусклая реклама, болезненный свет, мягкая от пыли ковровая дорожка. Я долго искал подходящее слово. Заброшенность? Киношность? Имитация? Портал? Фокус в том, что слово это – не только про аэропорт. Оно из синонимов города. Нетронутость? Дизайн провинциального музея? Повсюду артефакты, экспонаты, а дотронешься – рука видна насквозь. Реальные здесь только океан и ветер. Слова, оценки приблизительны, ибо Веллингтон неопределим. Эскиз, туманный силуэт, ускользающая мысль. Покинув его, моментально теряешь уверенность в том, что он существует.
Но это после, а тогда я в оторопи думал: спокойно. Сейчас этот предбанник кончится, и начнётся человеческий аэропорт: дьюти-фри, кафе, вино и музыка, люди и прокат автомобилей. Началась, однако, улица. Сильный ветер дёргал темноту. Транспорт подозрительно отсутствовал. Пассажиры нашего рейса быстро и загадочно исчезли. Далеко, где ночь встречалась с океаном, мигали редкие огни.
– Ты понимаешь что-нибудь? – спросила жена. – Где мы?
– Для начала понять бы, кто мы.
* * *
«И наша любимая тема: погода, – развязно сказал диктор, – в Данидине ливень, местами град, ветер до семидесяти, одиннадцать градусов как бы тепла. Кто может, сидите дома, ребята. Крайстчёрч – максимум внимания за рулём, туман, небольшие дожди, пятнадцать. Веллингтон берёт сегодняшний джекпот. Лёгкая облачность, без осадков, семнадцать. В Окленде двадцать…»
Сверху рушился тотальный водопад. Авто сотрясало и плющило. Дворники не справлялись.
– Что за бред? – спросил я у коллеги, подвозившего меня. Тогда я часто задавал нелепые вопросы. – Лёгкая облачность?! В окно не могут посмотреть?
Коллега хмыкнул:
– Не исключено.
– Ну, позвонить. Узнать для интереса, какая у нас погода.
– Пока будут звонить, всё изменится.
В столице Зеландии климата нет. Точнее, он – вроде абстрактной картины. Понять можно так и эдак, и вверх ногами сойдёт. Можно и так понять, что это не живопись вовсе, а блажь и сумбур. Сезон здесь один: дождик, разбавленный солнцем, туманом и ветром. Коллизия быстро меняется в разные стороны, по очереди, вместе или как попало. Ветер целеустремлённо хлещет по физиономии, над городом летают мокрые зонты. Одежда и погода связаны только в головах недавних эмигрантов. Местным пофиг – всё равно ошибёшься. Одеваются по вдохновению, живут не суетясь.
Сначала в них трудно увидеть людей. Они кажутся выдумкой, созданиями Толкиена, Диккенса, Брейгеля. Их гардероб и даже лица напоминают реквизит. Откуда, из каких запасников и недр извлечены их старомодные, тяжёлые пальто? Накидки, макинтоши эпохи креативной географии? Ботфорты на платформе, кружева, боа из меха сказочных зверей? Из каких временных дыр явились эти башмаки, снятые аборигенами с первопоселенцев, эти древние морщины и глаза?
Здесь вещи не дряхлеют, а накапливают смысл. Любой предмет, от мотоцикла до игрушки, чинится, штопается, десятилетиями меняет секонд-хэнды и владельцев. И когда его цена уходит в область междометий, триумфально поселяется в антикварной лавке. Это не от бедности или скупости. Это – чудом уцелевшая, иррациональная связь между вещами и людьми. Одно – продолжение другого в любом порядке. Ты не можешь выбросить свой характер, присвоить чужой или купить новый. То есть. Внешний облик человека не зависит от его статуса, доходов, интеллекта и прочей ерунды.
Когда профессор Хелен Мэй явилась на лекцию в розовом топе и алых бермудах, я испытал эстетический шок. Известный учёный, шестьдесят плюс, высокая, седая леди в наряде тинэйджерки. Студенты остались невозмутимы. Только из партера донеслось:
– Классный прикид, Хелен.
– Спасибо, – ответила профессор, – день такой.
Она была моим вторым работодателем в Зеландии. Устроиться на кафедру мне помог волжский автозавод. Шло собеседование. Вдруг Хелен говорит:
– Я долго на русской машине ездила. «Лада», знаете? Называла её «моя бабушка». Славная машина.
Слово «бабушка» Хелен произнесла по-русски, но с ударением на «у».
– Да ну? – удивился я.
– Дешёвая, простая, экономичная, надёжная.
Я совсем растерялся.
– Надёжная?
– Именно! Двенадцать лет, в любую погоду – как часы. По любой дороге бегала с прицепом. Заглохнет – рукояткой движок крутанёшь, и вперёд. У родителей ферма была в Вайканае, там народ сервисом не избалован… Ну ладно, к делу. Треть ставки для начала подойдёт?
Параллельно я трудился в частной школе. На благотворительной тусовке познакомился с Крисом, отцом моего ученика. Мне сказали, что родитель этот – важная персона, топ-менеджер в новозеландском отделении Exxon Mobil. Крис мне понравился: шкафообразный, двухметровый, он вёл себя естественно, как Гекльберри Финн. Занятно говорил и много ел, интересовался окружающими больше, чем собой. Не боялся выглядеть смешным. Недели через две встречаю Криса на парковке супермаркета. Он выбирается из «Лексуса LX» – в застиранной футболке, кроссовках без носков и мятых шёлковых трусах. Цвет королевский голубой с орнаментом из жёлтых ананасов. На мне аналогичные, однако в роли нижнего белья. А у него без этих тонкостей. «Привет, – говорит, – Макс. Что, нравятся мои шорты? Купил по скидке в „Фармерсе“, десятка баксов пара».
И тут мне стало разом неспокойно и легко. Такое озарение умной рыбы на крючке, догадка, что твоя свобода кончилась. Обладателям тонкой душевной и богатого внутреннего знакомо это чувство. Оно – предвестие чего-то экзистенциального: стихосложения, запоя, любви. Я заподозрил, что способен полюбить этих людей – младших, беспонтовых детей цивилизации. Кому-то достались осёл и мельница. Они получили кота. Но кот всегда больше, чем кот.
Их не взяли на разборки старших братьев. Не увидели за бортиком песочницы. Они были никто и звать никак: палец в носу, штаны на лямках. Их не знали до семнадцатого века и поныне различают не всегда. Тысячи лет где-то что-то отнимали и делили, боролись за, наоборот и вопреки; меняли историю, географию, естественные, точные и мнимые науки, а также закон божий, не говоря о человеческом; долбали чужих и своих, и неясно каких (много вас тут шляется), используя всё более продвинутый ресурс.
Мелкие за этим наблюдали, как в подзорную трубу с обратного конца. Или в детский калейдоскоп. Они жили в раю – без ядовитых гадов, засух, наводнений, полезных ископаемых, китайского туризма. Вырастили сорок миллионов овец и баранов, по десять на физлицо. Вырастили собственную гордость. Мир издалека выглядит почти как свысока: ощущения те же, но упасть нельзя. Регби заменяет веру, политику и самоидентичность. Индекс счастья выше неба, где-то рядом с экономикой. Что такое взятка, надо объяснять.
У каждого их города есть метафизический подтекст, второе дно, другое имя. Один – корабль, плавучий мегаполис. Грот-мачта телебашни, крики чаек, стаи яхт. Когда с ним рядом океанский лайнер, это – воссоединение семьи. Другой – галерея парков, бархатных лужаек, завешенных плющом кирпичных стен. Инсталляция классической Европы. Макет, клише, игра. Но игра актёров старой школы, которая порой точней оригинала, лучше. А чем – понять нельзя, талантом, может быть.
Веллингтон – самый невидимый город этой едва различимой земли. Дожди и ветра превратили его в голограмму. В нём есть капкан оптической иллюзии, мистификация Гель-Гью, Зурбагана и Лисса. Чуть меняешь угол зрения, и стремительно ветшает, облетает постмодерн. Сквозь небоскрёбы проступают деревянные коттеджи, пакгаузы, лабазы, рейтузы на верёвках. Веет рыбой, истлевшей жизнью, ароматами питейных заведений, протезом Джона Сильвера и кофром Билли Бонса. Домишки лезут на холмы, цветут эркерами и башенками, изгибаются арками, тянутся готическими шпилями. И вновь теряют контуры, сползая в обтекаемость арт-деко. Прочь телефоны, распахнём зонты. Неспешный шаг и дождевая взвесь нам в помощь. Бесплотный город не любит резкости, его легко спугнуть, как предвоспоминание или послесоние. Несколько лет этого транса, и Веллингтон становится подобием киностудии, где параллельные миры – за каждой дверью. Где ты – в системе, имеешь доступ, где мало что способно удивить.
Ан нет, у города велик запас причуд. Утро, еду в школу. Полупустой автобус сонно качает ландшафт: зелёный нубук холмов, ватные комки овец. Заходит молодая пара с рюкзаками – не туристы. Лица нервные, усталые. Сбросили кладь, уселись, заругались шёпотом. Светленькая девушка без видимых примет. Зато у её спутника – примет на шестерых. Стройотрядовская куртка нараспашку – в шевронах и значках. Под ней – тельняшка ВДВ, ремень РККА. Ниже – галифе с лампасами. Во, блин, чучело, – едва не вслух подумал я, – никак земляк.
Точно по заказу юноша воскликнул:
– Всё, нахер, нахер, нахер эту работу! – он резко помотал головой. – Я лучше буду пиццу развозить.
– Пф, – отозвалась блондинка.
– Что «пф»? Что значит «пф»?! Да я… – он растопырил пальцы, – вот этими руками… Я, бля, в Гнесинку полбалла не добрал! А теперь я этими руками чищу срач! Нас за прислугу держат… мать их!
– Тём, заканчивай цирк. Люди кругом.
– Какие нахер люди?! Кто нас здесь понимает?
Тёма оцарапал меня взглядом. В его лице мелькнуло что-то неотвязчиво знакомое. Я помаялся день и вспомнил. Восьмидесятые, группа «Земляне». Спецэффекты, два грифа, туман, все понты. Красавец модельного типа открывает рот под чужую фанеру:
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна…
Парень в автобусе был его клоном, хотя моя память – суфлёр ненадёжный. Хуже лиц я помню только имена. В комплекте с близорукостью – сплошные преимущества. Потребность в сочинительстве – раз. Мир, наполовину состоящий из твоих фантазий, – два. А далее со всеми остановками. Очки я бойкотирую, косые взгляды размываю, на мелкий шрифт плюю, справочники ненавижу с детства. Непонятные слова в книгах заменяю своими, они всегда точней. Однако Тёму я запомнил и при новой встрече узнал.
В русском клубе состоялась вечеринка. Праздновали двадцать третье февраля или восьмое марта, что, в сущности, одно и то же. Обычно мы с женой таких мероприятий избегаем. Они фальшивы и печальны, как бумажные цветы. Чужие притворяются друзьями, лузеры – успешными, еда – вкусной, силиконовый русский язык – весёлым и живым. Там бабушки пахнут, как шкатулки с лекарствами, и в целом атмосфера мотивирует напиться. Но сделать это трудно, ибо алкоголя меньше, чем лирически настроенных гостей.
На сцене рявкала гармонь, две пары танцевали нечто среднее между кадрилью и чечёткой. Следом кто-то женским басом декламировал Асадова. Опытная тётка-эмигрантка вторглась в личное пространство моей жены. «Вы на каких пособиях, Мариночка? – расслышал я. – Да ладно, не смешите. Умные люди здесь не работают. Я после ухода Васи оформила сожительство задним числом. Мы с ним давно фиктивно развелись, так пособие больше. Теперь имею в двух местах по утрате кормильца. Сделала нам с дочерью через посредников за бабки инвалидность, короче, шесть пособий на двоих. Институт соцстрахования, пенсионная касса, доплаты за жильё – везде капает. Страна чудес, они же лохи здесь, дебилы поголовно…» Тем временем чтицу сменил детский хор. Пятеро малышей с отвращением затянули:
Дремлет прити-и-хший северный го-о-род,
Низкое не-е-бо над голово-о-ой…
Я налил себе водки. Урок жизни рядом не кончался: «…зелень и овощи брать только на фермерском рынке. Картоху – мешками, бананы – ящиками, скидки нереальные…» Жена рассеянно кивала. Я знал, что её хватит ещё минут на пять.
«Друзья! А сейчас… – ведущий сделал паузу, – гвоздь нашего вечера, известный автор-исполнитель… Артём Самарский! Встречаем!» Возможно, он сказал «гость», но моё слово подходило лучше. Послышались разрозненные громкие хлопки. Появился чудик из автобуса с гитарой. Тёмно-красный инструмент поблёскивал значительно и дорого. Сам исполнитель предпочёл классическую гамму. Малоношеный чёрный костюм и такие же штиблеты оттеняли белизну рубашки и носков (я заметил эту милую деталь). Место галстука занял шнурок.
Он поправил микрофон и начал играть. Тишина возникла не сразу. Чистый, сильный рифф поймал людей врасплох. Профессионалы вообще удивительны, как единственная антитеза хаосу, но особенно там, где их не ждёшь. Техника его игры была такой же неуместной в этом зале, как эротическая сцена в фильме про колхоз. Мысль об эротике внушали его пальцы: тонкие, летящие, небрежные. Он вёл одновременно ритм и соло, звучали как бы несколько гитар. Вдобавок Тёма умудрялся петь. Тексты были средние, но музыки не портили. Пара мелодий стырены, и ладно, шансон вторичен по определению. Но игра… Я не верил, что слышу это живьём.
Пока он выступал, кто-то доел мой винегрет. Хуже того – прикончил мою водку. Неужели я сам? Трюк бессознательного странным образом вернул меня в юность. Реальность сдвинулась, мир был загадочен и нов. Душевный подъём толкал на глупости. Я вышел на крыльцо, достал сигареты.
– Брат, огоньку не найдётся?
Это, разумеется, был он. Ощущение гостя в чужом сценарии не покидало меня. Я чиркнул зажигалкой.
– Классно играешь, давно такого не слышал. Фингерстайл?
– Ого! – удивился он. – Спасибо. Ты сделал мой вечер. Артём.
Он протянул руку.
– Макс. А Самарский это псевдоним?
– Почти.
– Земляки что ли? Я на Химзаводе жил.
– Сто шестнадцатый. То же отверстие, но вид сбоку.
– Во, блин…
Он на секунду задумался.
– Слушай, я диски продал, восемь штук, есть идея.
– Я участвую. С женой.
– Не вопрос. Будут два парня со студии, впятером уместимся. Предупреждаю: у меня срач, везде коробки…
– Переезд?
– Ага. Развод. Его и отмечаем.
Разводился Артём трижды, женат был четырежды. Первые три раза на Саше, блондинке из автобуса. Второй развод окончился третьим браком, после чего мы задружились семьями. Сейчас приятельствуем с экс-супругами отдельно. В эмиграции непросто развестись по-человечески. Невозможно хлопнуть дверью и уехать к маме или на время зависнуть у друга. Друзья такого качества остались в прошлом. Мамы нет, и средств на две квартиры тоже – приходится мириться.
Саша долго мирилась с увлечениями Артёма. Кроме поэзии и музыки он увлекался историей, алкоголем, коллекционированием и ношением военной формы разных стран. Работал клинером, маляром, стекольщиком, электриком. Отношения с коллегами везде не задавались. Английский он знал худо, новозеландский сленг – тем более, за что был унижаем в трудовых коллективах, особенно представителями народа маори. К несчастью, в этих коллективах преобладали именно они. Артём зверел, спасался музыкой. По выходным в гараже у приятеля записывал третий альбом. Возвращался ночью, ошибаясь то подъездом, то квартирой.
Вдобавок Артём не хотел зарабатывать тем, что реально умел. Что не требовало беглого английского, собеседований, дипломов. Только гитары и рук. Так нет же. «Я по кабакам налабался досыта, – сказал, как рояль захлопнул. – Чужого больше не исполняю».
К тридцати годам Сашу накрыл материнский инстинкт. Лет через семь он превратился в манию. Это муж ей поставил диагноз. Лично его родительский инстинкт не беспокоил. Детей он считал нонсенсом, а их отсутствие – бонусом. Сашу задолбало ждать чудес природы. Она тихонько сделала ЭКО. Или не ЭКО, а кто помог? Короче – чей ребёнок, сука? Болезненный вопрос, ставший поводом их третьего, финального развода. Произошло это в Австралии, куда супруги двинулись за госпожой удачей и где её со временем нашли.
Саша родила здоровенькую умненькую дочь. Выскочила замуж за богатого еврея. Дом с верандой, гости, селфи, барбекю. Не семья, а украшение фейсбука. Тёма женился на разведёнке с идеальным комплектом детей. Мальчик и девочка называют его папой. Он бросил пить, увлёкся индуизмом, работает на фабрике дверей. У него всё хорошо, только песен не сочиняет. Да и бог с ними, при чём тут песни? Главное – жизнь удалась.
Веллингтон не держится за людей. Он холоден, самодостаточен, далёк от желания всем нравиться. Покинул его и Юрий Лашков, специалист по трансгенным москитам, завлаб и кандидат биологических наук. Сходство между Артёмом и Юрием исчерпывалось тем, что оба оказались в этом городе случайно. Дальше начинается существенная разница. Юрий прилетел сюда не из авантюризма или тяги к перемене мест. Жена и дети были только поводом, отношения там давно закисли. Без семьи в Новосибирске Юрий обходился превосходно. Без лаборатории – не смог.
Наука и учёные внезапно обесценились. Стране понадобились новые герои. Когда тебе без малого полтинник, выбор невелик: уехать либо сдохнуть. Коллеги собирали чемоданы, выяснилось, что у многих они почти готовы. В разговорах мелькали слова «контракт», «рабочая виза», «Стэнфорд», «Йель», «Гонконг». Жена Юрия, сейсмолог, уловила эти катаклизмы загодя. Получила трёхлетний контракт в Зеландии и отвалила с детьми. Юрий тогда ехать отказался. В Академгородке он был фигура, а там кто? Он ещё подумал: вот и ладушки. И с разводом канители никакой.