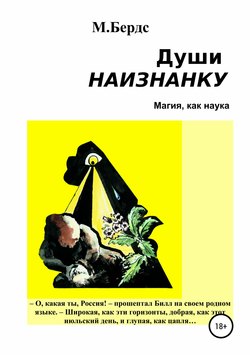Читать книгу Души наизнанку. Сборник рассказов - Марина (Маргарита) Бердс (Бердышева) - Страница 1
Оглавление*Совпадение имен и фамилий имеет случайный характер.
Предисловие
Этот сборник новелл несет в себе некоторые приятные сюрпризы, в основе которых лежит принцип «гештальт» – создание целостного восприятия идеи «заменить то, что прячется за обыденность». Для достижения этого был использован известный в психологии феномен Зейгарник (неоконченные фразы запоминаются лучше законченных в силу активизации подсознания). Каждая отдельная новелла имеет ряд законченных и незаконченных мыслей, которые переплетаются и распространяются на другие новеллы. Кроме того, в тексте использованы приемы для ускорения и замедления темпа чтения, специфическая пунктуация и построение отдельных предложений, подбор слов с чередованием определенных букв в определенном ритме, некоторые обороты, создающие эффект неожиданности. В каждом рассказе присутствуют реально происходившие события. В тексте зашифрована возможность подсознательного самоусовершенствования согласно генетически заложенным способностям. Это оказывает своеобразное психокорректирующее действие: мышление становится более быстрым и точным, внимание – острей и шире, улучшается практическая сторона личности (мудрость).
При опробовании сборника на добровольцах у большинства из них наблюдалось повышение творческой активности и работоспособности (причем, объективно), реализация склонностей к искусству, повышение качества обучаемости и интереса к учебному процессу, стабилизация настроения и общего самочувствия. В ряде случаев наблюдалось резкое изменение образа жизни после инсайта (озарения) через два-три месяца, в том числе – замужество, желанная беременность, второе высшее образование и пр. Отрицательного действия не наблюдалось.
Естественно, книга не является панацеей. Противопоказания те же, что и к любой остросюжетной литературе. Не рекомендуется читать детям без предварительного прочтения их родителями (как и эротическое чтиво). Книга может вызвать повышение сексуальной возбудимости, в связи с чем на ночь читать не рекомендуется.
Все новеллы, также как и рисунки написаны автором в гипонотическом трансе.
Для достижения психокорректирующего эффекта следует читать новеллы в установленном в сборнике порядке следования.
Автор.
Часть I. Русские людоеды. Кто они?
Хозяин тайги
… Тьма стремительно падала, накрывая ядовитую многоцветную зелень. В воздухе повисла промозглая июньская ночь. Одна радость – отдых для воспаленных глаз, уставших от ярких, оглушительных красок. Костер трещал сухими сучьями, выкраивал сцену с декорациями из папоротников для театра наших теней. На этой сцене разворачивались драматические события, а единственным зрителем была глухая, немая и жестокая тайга.
Роба просолилась, штаны спадали – не помогала даже бечева. Желудок уже перестал сосать, перед сном уже не мелькали в мозгу деревья, и не было ни одного признака второй сигнальной системы – была только не оформленная словесно мотивация идти. Мы шли. Уже месяц. Получилось так, что где-то по дороге Плещ потерял карту. Возвращаться и искать, естественно, был не наш вариант. Поэтому пошли вслепую. И, конечно, надежда на Плещееву память себя не оправдала.
Костер грел наши кости. Оставалось только два коробка спичек и столько же соли. И больше ничего!! Понятно, чтобы продолжать нашу экскурсию, одного витамина «С» явно не достаточно. Для тех сил, которые нужны нам в смертельной схватке с тайгой, необходимо что-нибудь посущественнее зеленой малины.
Ухнул филин, и по кустам пронеслось крупное, явно копытное животное. Его бы… Но голыми руками – абсурд… Только не надо мечтать! Мечты – это неминуемая гибель. В тайге нужна трезвость. И… еда…
Гашиш подбросил в костер пару веток и снова сел. Снова тишина. За месяц нашей тесной мужской дружбы мы перестали разговаривать вообще. Все и так ясно, без слов… И сейчас мы все думали об одном и том же. Плещ это выстукивал стоптанным сапогом по чужой нехоженой земле: «Нас оставалось только трое». И каждый из нас знал, что в ближайшем будущем наше трио должно сократиться до дуэта.
Только трое… Сначала было четверо. Еще с нами был Дебил. Тихий, безобидный придурок. Правда, завистливый, падла. Конформист. Взяли за групповуху. В лагере «шестеркой» был. Все моргал и плечами дергал. Говорил, папа у него в дурдоме пропадал, а бабка за наркотики попалась, а потом по амнистии выпустили. У него самого поначалу все чисто было. В армию по дебильности не взяли. Женился еще в школе. Дочку сделал. А когда дочке десять лет исполнилось, припадки бить стали. Они к врачам не пошли, репутацию чтоб ей не мочить. Так дочка во время приступа топором спящую мать хлопнула. Забрали. А Дебил один остался. Его местные подцепили. С ними он и вляпался. Гашиш Дебила сразу просек, когда из него «петуха» делали. Отбил. Пригрел. Откормил. Дебил с самого начала меченый был. За тем и взяли. Да не рассчитали, что дорога длинная.
… Гашиш снова подкинул дров. Надо бы спать, но по молчаливому согласию никто не сомкнет глаз. Очевидно, мы все дошли до точки кипения. Время пришло – через несколько часов кто-то из нас не даст другим умереть. Кто? Может, кто первый заснет. Может, кто первый начнет удирать. Кто? Кто окажется всех слабее? В борьбе за существование выживает сильнейший.
… Гашиш кинул на меня задумчивый взгляд. Ему решать, кто окажется проигравшим эту битву.
Гашиш… Бывший боксер. Замели с колесами. Срок… Статья… Три года уже прошло. Пахан. Все зависит от него, на кого падет жребий. Ясно, что на себя не покажет. Он вне игры.
Остаемся мы: я и Плещеев. Плещеев – гусь еще тот! Это у него уже пятая судимость. Попался на крупном. Статья…
А я интеллигент: белая кость, пальцы пианиста. Статья 117. Без слов…
Говорят, такие, как я, на зоне не в почете! Да только я исключение. И пахану в душу бабы нагадили, он их не признает, кроме своей покойной мамаши. А я всегда к родителям относился с уважением. За это меня пахан и любил. Откровенничал со мной, даже стихи свои читал. Плебейские стихи, но я их расхваливал, как мог, со своего ученого полета. Нет, не должен Гашиш с меня шкуру сдирать – я ему нужен. Для исповедей. Не тронет…
А Плещей? Он ему тоже нужен. Без него до зимы по тайге кружить будем, а потом – холодильная камера – и весь приговор. У Плеща нюх, как у дикой кошки. Если бы не Плещ, давно бы все были там, где никаких проблем. Но Плеща Гашиш никогда не любил. Плеща Гашиш ненавидел. Тихой, скрытой ненавистью. Я эту ненависть через кожу чуял. И, конечно же, Плещ тоже.
Так кто же из нас? Что победит: любовь или ненависть? Душа или шкура? А, может быть, голод?
Гашиш снова посмотрел на меня. Его взгляд был уже скорей не за-, а раз– – раздумчивый, но пока – разбросанный взгляд. Плещ искоса поглядывал на костер.
Как-то в лагере произошел конфликт. Смена власти. Перед тем, как править начал Гашиш. Избитое тело Маслины лежало в придорожной пыли. К нему подошел Плещ и всадил свой пинок в разломанные ребра уже мертвого президента. Это был его единственный пинок. Когда Маслину убирали – он отсиживался под кустом. А когда все было уже позади, вот и он здесь – зафиксировал свой визит к Минотавру. Чтоб никто не догадался, что когда все были здесь, он здесь не был. Никто и не догадался! Кроме меня. А у меня энциклопедическая память, я помню каждый шаг каждого из нас. Эта память у меня от Бога. Мне достаточно прочитать книгу – и я могу ее почти дословно пересказать хоть через десять лет. Я столько знаю… Я так много перечитал… Мой мозг уместил в себя огромную библиотеку, и я могу в любой момент из этой библиотеки извлечь нужную информацию – только скажи, о чем надо узнать – с цитатами наизусть, с датами, с изощренными фамилиями и названиями на незнакомых языках, лишь бы кто-то мне их когда-то прочел или сказал… Нет! Мой гений не должен погибнуть! Он должен жить. Жить! Жить! Не для того я создан, чтобы лечь костьми в этом лесу. Я верю в эзотеричность своей личности, Я же вижу, насколько отличаюсь от всех других. Я – талант. Я – гений. А гениям прощается все! И тех паскудных плебеев, из-за которых я терплю муки, Всевышний покарает так, что они будут завидовать мертвецам. И ту сучку, которая меня соблазнила. Дьявол, обернувшийся синеглазой девушкой! Оборотень с сердцем змеи! Их всех, всех, всех покарает Бог! Мой Бог! Он за меня, он сотворил меня для великих идей. А вы все быдло. Вы не смеете поднимать на меня свои собачьи глаза, если я этого не хочу. Вы должны молиться на меня только за то, что имели счастье стоять со мной рядом. Вы не понимаете все, с кем имеете дело. Грязные людишки! Вы занимаетесь мышиной возней – только шакалите, где можно перехватить шматок недогнившей падали, чтобы только набить живот. Вы, слюнявые рты! Вы, завистники! Вы только смотрите в чужой огород – не дай Бог, у соседей лучше! Тогда вы истопчете все своими немытыми ногами. Залить, уничтожить все лучшее, чего нет у вас! Жадные, ненасытные твари…
Что-то неуловимо изменилось на сцене нашего театра. Не пойму, что. Кажется, стало слишком много горящих углей. Костер стал похож на мангал. И не только. Я почувствовал щекой, как взгляд начальника упал сначала на меня, потом быстро перебежал на Плещеева. Плещеев исподлобья посмотрел на Гашиша. Между моими спутниками возник молчаливый диалог. Они не догадались, что от моего внимания не ускользнет ни одно из невысказанных слов.
Они не знают объема моих возможностей, потому что они не могут поставить на мое место себя. На место гения – это им невозможно представить. Потому что они такие же плебеи, как и все. Почему я и одинок – такие, как я, рождаются раз в столетие. Мне бы жить вместе с Леонардо да Винчи («Или сидеть вместе с ним в одной камере», – огрызнулся внутренний голос). Люди не могут прочувствовать моей одаренности, поэтому завидуют или подстраивают козни.
… Плещ шаркнул подошвой и поменял затекшую ногу. Я понял, что вздрогнул от неожиданности. Кажется, я начинаю бояться. Это гибель. Надо не выдавать себя. Надо скрепить свои нервы. Я выше их, значит, я выше животного страха. Я – гений. Я – полубог. Я не должен умереть. Моя сверхъестественная память помогала мне. Мне только надо сосредоточиться – и выплывет то, что меня спасет… Но иногда все же она и мешала…
Иногда? Разве иногда? Она всегда стояла бельмом в глазу. Она мне била по голове, ночами я не мог спать и сидел, вылупившись в книгу до тех пор, пока не отрубался в бессильном, болезненном сне. И в этом сне фейерверком мелькали эпизоды увиденного, услышанного, прочитанного – и утро с тяжелой головой… Чертова память! Глупое механическое заглатывание огромной информации! Ненужные чужие события! Бесцветные, бестелесные факты! Хлам, который давил на меня с самого детства и не давал сделать самостоятельный шаг… Я не мог даже решить элементарную задачку, если ее до меня никто не решил и не показал это решение! Я был всегда ведомым кем-то, как и сейчас. Единственный самостоятельный поступок – это тот, из-за которого я здесь: невинное дитя, увидевшее во мне супермена и ставшее моей жертвой. И я, как последняя мразь… Нет, я не гений. Я и есть плебей. Бездумная машина. Я не способен ни к чему.
… Мое боковое зрение снова уловило взаимодействие без меня. Гашиш опять встретился взглядом с Плещеем, и Плещей (в знак согласия) тихонько кивнул.
Я? Значит, это я?! Бегство бессмысленно, оно ничего не даст – только отсрочка, за которой последует мучительная долгая смерть… Я же совершенно беспомощный. Я даже не способен идти, чтобы не смотреть на чьи-нибудь пятки. Я ничего не могу сделать сам. Я боюсь бежать даже потому, что боюсь в темноте поломать ногу. Я немощен. Я гнида. Я плебей. Я ничего не могу…
– Никита, принеси воды! – слова, сказанные человеком, застучали по внутреннему уху.
Он назвал меня по имени и как-то извиняясь. Я понял, что это приговор. Все! Конец! Мои годы, моя молодость, моя жизнь! Нет!!! Я не хочу… Но я ничего не могу… Сопротивление только усилит муки. Лучше сразу и сейчас. Страх смерти страшнее самой смерти.
Я встал. Кажется, за последнюю минуту передо мной должна пройти вся жизнь? Ничего подобного. Это ложь. В последнюю минуту замираешь и не вспоминаешь ни о чем. Ты отдаешься ощущениям в полную силу, отпуская на всю катушку все органы чувств, чтобы вобрать в себя все, что не успел. И даже случайная, шальная мысль, ковырнувшая сердце, отбрасывается одним взмахом крыла твоего Черного Ангела. В последнюю минуту впитываешь в себя все, что окружает, ясно и спокойно, сливаясь воедино с тем, что сейчас представляет собой этот свет. Какая удивительная панорама с ее тишиной! С ее запахом хвои!! С ее едким вкусом июньской тайги!!! Какая красивая картина, какой увлекательный аттракцион – жизнь…
Я сделал вдох и канул в бездну, в черную дыру, которая должна была стать воротами в Ад. До этих ворот оставалось несколько шагов – ровно столько, сколько от Гашиша до моей спины. И этих шагов оставалось все меньше… Я слышал это по приближающемуся шелесту позади себя. И, когда шаги остановились, и телогрейка моего убийцы просигналила о взмахе его руки – раздался треск, сдавленный стон и глухой удар. Я повернулся на звуки. Костер доставал светом настолько, чтобы осветить кирзу лежащего ничком на земле.
– Не ждали? – показал гнилые зубы Плещеев и, вытерев о штанину нож, спрятал его в рукав, как и было. Потом постоял над бездыханным Гашишем и сплюнул:
– Он меня не любил. И меня бы потом порешил, даже, если бы и не кончилось продовольствие. А ты у нас – ягненочек. Тебе, если что, я быстро наломаю. А тайги осталось дней на шесть-семь. Она скоро кончится. Должно хватить. Сухой! Как Дебил, не протухнет. А не хватит, – Плещей снова оскалил кровожадную пасть, – погляжу на твое поведение.
Да-да, Гашиш сухой, его хватит. Да только Плещей ошибается. Я все-таки вспомнил карту, которую он мне мельком показал, прежде чем потерять. Тайги еще осталось надолго. Вот моя память и помогла! И опять все вышло, как всегда, наилучшим образом и чужими руками. И не такой уж я немощный вообще-то. С чегой-то я запаниковал? Почему это я ничего не могу? Могу, могу, да еще как могу! Я это доказал еще две недели назад, когда впервые, преодолевая свое цивилизованное табу, проглотил первый ароматный кусочек заветного. И я это докажу еще раз через несколько часов… И еще… Через две недели. Плещей тоже сухой. Как раз хватит до конца моего турпохода. А сейчас – цыц! Как он сказал? Я – ягненочек? Вот и хорошо. «Я – ягненочек, Я – ягненочек», – повторила моя смиренная душа.
– Эй, давай развернем – и ближе к костру. Да бери, не бойся, красна девица! – Плещеев засмеялся, а я опустил кроткий взгляд. «Я – ягненочек». Рука украдкой проверила, на месте ли мой драгоценный нож. Палец залез в рукав и наткнулся на тонкое колкое острие.
Когда я служил психиатром
… Когда я работал психиатром, совершенно случайно мне попался интересный больной, и я по молодости увлекся так его проблемой, что сам чуть не сошел с ума (!!)
Больной в прошлом был людоедом. Не по своей – по вине его матери. Во время блокады Ленинграда она шла через Ладожское озеро с детьми. Когда стало совсем невмоготу, она зарезала младшую дочку и заставила остальных ее съесть. «Пусть лучше погибнет один, а не все. Так делала ваша бабушка. И так делала моя бабушка, когда шла гражданская война».
… Династия людоедов. Что это: генетически заложенное извращение или воспитание, так сказать, сценарий жизни? Почему у нас при мысли об этом волосы дыбом встают, а во многих диких племенах каннибализм – в порядке вещей?
… Тема людоедства стала моей сверхценной идеей. Я просиживал в библиотеках все свободное время, выезжал на некоторые исторически значимые в этом плане места, познакомился с некоторыми странными семьями и стал их почетным гостем. И даже отыскал неформальное общество бывших людоедов, которое регулярно посещал.
Огромный материал, накопившийся за три с половиной года, помог систематизировать, наконец, приобретенный компьютер. С его помощью удалось выявить ряд закономерностей. У меня возникла стройная система проблемы каннибализма, грозящая фурором средствам массовой информации. И это бы обязательно произошло, и мир бы потрясла еще одна рубрика омерзительного направления, если бы не вмешался один друг. Он ужаснулся от десятой доли моей коллекции, но виду не подал и посоветовал пожить с объектами исследования под одной крышей.
– Ты же понимаешь, – сказал он убедительно, что в сухом описании бесконечных фактов нет живых чувств этих людей. А ведь это самое главное в твоей работе. Главное в медицине что? Профилактика. Вот и опиши извращение чувств, чтобы читающий смог их вовремя обнаружить у кого-либо (а, может, и у себя) и провести превентивное лечение.
– Ты хорошо придумал, – оценил я идею абсолютно без задней мысли. – А где? А вдруг они меня съедят?
– Ну, надо, чтобы за тобой наблюдали, охраняли, вмешались бы вовремя, в случай чего. Я думал, для эксперимента лучше всего подойдет палата в моем отделении. Я сам займусь подбором контингента больных и прослежу, чтобы все шло по всем правилам. Дерзай! Наука требует жертв!
И я, уверенный в своей избранности и гордый оказанной мне честью, с вещами подмышкой зашагал в пятое отделение, где заведовал мой мудрый друг и коллега (которого я, надо сказать, не совсем понимаю, но до конца жизни буду ему благодарен).
Да, он действительно меня положил рядом с каннибалами. Вернее, с бывшими. Они были уже совсем безобидными и дефектными, в основном, с диагнозом: шизофрения. Общаться было сначала очень тяжело, потом стало совсем невозможно. Когда через два месяца я закончил эксперимент, то первым делом сжег все свои людоедские бумаги, а потом ушел в участковые терапевты в поликлинику № 1. И, если средний житель нашего города просто старается обойти эту тему стороной, то о себе я мог сказать, что, как у компьютера, «в моей памяти такого слова нет». И оно бы не возникло больше никогда, если бы бес не столкнул меня в бане с тем моим давним другом.
– Ну что, старина, про людоедов больше не пишешь?
– Не пишу.
– Видать, хорошо превентивная терапия во время эксперимента твоего помогла. И, главное, вовремя.
Оказывается, заведующий пятым отделением меня надул. В то время уже многие замечали, что моя головка слегка не в своем уме. Но как поделикатнее заставить сотрудника полечиться в психбольнице, чтобы еще и репутация не пострадала, и толк чтобы был? Вот так, незаметно для себя, я принимал размешанные в картофельном пюре таблетки, как прежде учил делать родственников своих пациентов. Спасибо, спасибо, мой друг, мой учитель, мой личный психиатр!
Итак! Я все-таки вспомнил запретную тему – и тут же возник ряд странных, омерзительных историй, которые я когда-то изучал. Я не спал всю ночь, ворочался с боку на бок, неделю болел неизвестно чем, а потом стало все ясно, как божий день. И я помчался к своему вышеупомянутому другу, чтобы попросить у него позволения.
– Ну что ж, – ответил он. – Я думаю, что ты прав. Действительно, иногда приходится писать всякую гадость даже в историях болезни, а уж на книжных лавках ее пруд пруди. Главное, здесь нужно не уподобиться тем писательским психопатам, которые, словно в куске зеркала Снежной Королевы, видят только дурное или вместо сердца имеют лед. А знаешь, дружище, ты меня своей темой одно время так заразил, что я, признаюсь, пока ты отдыхал в экспериментальной палате, влез в твой компьютер и закончил начатые тобою труды. Ты уж извини, что без разрешения. Ты бы уже все равно ничего не смог сделать, кроме расщепления своей психики. А я оказался покрепче, к тому же работал по готовому уже материалу. Но и я, признаться, тоже не закончил – голова кругом пошла. Еще б чуть-чуть – прямиком к тебе на соседнюю койку. Пусть потомки продолжают. Одному эту проблему не разрешить, ни одна нервная система не выдержит. Вот тебе копия наших стараний. Хочешь – почитай на досуге, хочешь – сожги, как Лев Толстой. У тебя практика уже есть.
Я забрал угловую папочку, в которой лежала всего пара бумаг. Вечером любопытство взяло верх, и я все-таки взял в руки статью:
«О психологических и анатомических особенностях личностей, в анамнезе которых имели место один или несколько актов каннибализма.
Явление каннибализма известно с незапамятных времен, когда еще в первобытном обществе люди одного племени поедали органы и части тела людей другого племени с целью, якобы, приобрести их смелость (сердце), ум (мозг), красоту (фаллос) и т.д. С эволюцией человеческого общества и развития цивилизации эти проявления диких предрассудков все более вытеснялись гуманно-эстетическим и научно-просветительным прогрессом и, в конце концов, в современном мире развитых стран здравомыслящим слоем населения акт каннибализма отрицается как нормальное психическое явление, является противозаконным, крайне осудительным и изучается психиатрической наукой в различных аспектах, в том числе в сексопатологии.
Однако наряду с глобально-масштабной по численности цивилизованной части человечества, существуют незначительные горстки примитивных племен, где до пор каннибализму присущ общественный характер, как средство наказания или, наоборот, большой почести.
Напрашивается вопрос: отличается ли психически примитивно-племенной людоед от нашего – людоеда цивилизованного мира? Как ни странно, да и еще раз да. Так почему же для одного и того же биологического вида – человек разумный – существует эта разница? Ответ мы найдем и в источниках классического психоанализа, и в нашей отечественной, так сказать, малой психиатрии. Смысл заключается в том, что для цивилизованного человека акт каннибализма является либо признаком глубокой поломки психики, как, скажем, при той же самой шизофрении, либо в ряде ситуаций для психически здорового человека – существенной психотравмой, оказывающей влияние на всю дальнейшую жизнь. Ибо психотравма есть там и только там, где рушатся эмоционально значимые принципы. Запрет на поедание себе подобных дает нам положительная сторона культуры, связанная с познанием Природы и непротивлением ей. Если бы природа человека была глуха, он бы истребил себя, поедая собратьев, так как эта пища доступнее любой другой.
Просистематизировав обширный материал о каннибализме среди людей, собранный нами (мной и господином …), был сделан ряд интересных заключений, в том числе:
каннибалами не рождаются, а становятся;
в ряде случаев каннибализм ситуационно оправдан (голод);
склонность к каннибализму внушаема;
преодолевая табу каннибализма, в силу ряда причин, людоед вынужден скрывать свое преступление от окружающих, вытесняя его в подсознание, что прорывается в виде непроизвольного слюноотделения при виде и даже при упоминании о сыром мясе, в кошмарных сновидениях и т.п. Все это создает рудиментарное напряжение жевательных мышц и усиление кровотока в стоматологически значимых участках ротовой полости. Это зачастую приводит к гипертрофии1 зубов и нижней челюсти – людоедов может опознать любой средний физиогномист, если перечисленные признаки имеются;
скрывая свое деяние, человек-каннибал часто склоняется к некоторым крайностям: становится вегетарианцем, устраняет из своего лексикона слова «мясо», «кровь», «зубы» или, если употребляет их, проговаривает их как можно мягче, с ласкательными суффиксами, или вкрадчиво, или, пытаясь подчеркнуть отсутствие сверхценного отношения к ним – скороговоркой;
в анамнезе2 каннибала обязательно находится случай, который, возбуждая звериные инстинкты, был не отреагирован, а также приобретенные в связи с этим черты садомазохизма;
и, наконец, каннибал-человек всегда преступник, ибо он преступает черту не только закона, а закона Природы. Совершая это преступление, он осознает себя выше тех, кто не смог на это решиться или не думал об этом вообще. И, осознавая свое преимущество, он получал заряд маниакальной уверенности в своей исключительности, что в силу ряда обстоятельств дает способности к неадекватной магии (наведение «порчи», «сглаза» и пр.). Такой каннибал становится половым импотентом, ибо сексуальное удовлетворение он получает только от «колдовских» дел. Он теряет любовь к супругу, детям и внукам, стремится разрушить чувствилище и семейное счастье родных. Эти родные, как правило, не становятся каннибалами, как и магами тоже, но у них проявляется своеобразный аутизм3, и имеет место инцест4.
(Л.М.)»
Конец статьи заставил меня впасть в отчаянье, особенно пометка «Л.М.» – лекционный материал – типичная для моего друга. И, как я понял сейчас, друга по несчастью. Насколько я помнил, он всегда был немного витиеват, но нагромоздить такого! И еще выступить с этим словесным винегретом на лекции! Теперь я догадываюсь, почему его разжаловали в кабинет психологической разгрузки. Интересно, те же он себе выписывал лекарства, которыми кормил меня в экспериментальный период моей жизни?
Я еще раз все перечитал, и передо мной возникло несколько совершенно разных историй. Пожалуй, кое в чем он и прав, хотя и нельзя так безапелляционно вводить в ранг закона несколько частных случаев. Но, так или иначе, он прав в том, что я не должен молчать. Я не буду описывать многочисленные сцены поедания человека человеком (пусть этим занимается «Криминальное чтиво»). Нет, я хочу написать о нескольких неприятных эпизодах, с которых, как я думаю, все началось. Это подлинные истории болезни тех моих знакомых каннибалов, с которыми я был особенно близок и особенно одинок.
Заплатка
(Из анамнеза больного Д., 40 лет, шизофрения)
… Маленький бледный мальчик грелся у печки и наблюдал, как бабушка выгребает золу кочергой. Бабушкин подол был высоко поднят, и из под него торчали розовые линялые рейтузы с коричневой заплаткой на интересном месте. Чуть правее от бабушки кот Епифан доедал свежую мышку. Надо отметить, что Епифан это делал регулярно, в отличие от бабушки, которая рейтузы одевала не всегда…
– Бабушка, а почему ты сегодня в штанишках? – спросил любознательный мальчик.
– Это чтоб тебя лучше видеть, – пошутила бабушка.
– А у тебя разве есть на попе глазки?
– Есть, внучек, есть, мне их туда дедушка натянул.
«Надо как-нибудь посмотреть, когда бабушка снова не оденет штанишки», – подумал малыш.
В сенях послышался кашель и громкий стук. Это дедушка вернулся с работы и стряхивал с валенок снег.
– Дедушка! – кинулся к нему внучек. – А как ты бабушке на попку глазки натянул?
– Язычком, милай, язычком! – ответил не менее шутливый, чем бабушка, дедушка.
Внучек не совсем понял и решил это отложить на «потом». Да и дальше спрашивать неудобно. Он сел спиной к меловой печной стенке, и она, теплая, как мама, стала ласкать ему позвоночник. Кот Епифан не доел мышку и свернулся клубочком на табуретке.
– Это он тебе оставил, – широко улыбнулась круглолицая бабушка, кивнув на окровавленный трупик. – Ф-фу, жаром вся залилась, аж подмышкой запахло!
«Мышка – подмышка, кроватка – заплатка…» – возникли в голове мальчика первые стихи в то время, как его бабушка снимала рейтузы.
– Жарко, милок, вот и сымаю, – снова улыбнулась она и положила на кровать.
Дедушка с бабушкой стали накрывать на стол. А мальчик продолжал смотреть то на останки мыши, то на заплатку вывернутых наизнанку бабушкиных штанов. Раздавалась металлическая музыка ложек и ножей, и запахло хрустящим хлебом. В желудке заиграл тоненький голосок. Стало уютно, приятно и по-домашнему хорошо.
Прошли годы. Мальчик вырос, удачно женился, закончил университет. Все складывалось наилучшим образом в пример многим, за исключением маленькой странности выросшего мальчика, которого все теперь называли В.И.: он был в чем-то непроницаем. Нет, он мог говорить обо всем на свете, за исключением одного: он никогда никому не рассказывал свои чувства. Даже на вопрос: «Нравится ли тебе сегодняшний борщ?» он отвечал: «Хороший». Он и себе о чувствах не говорил. Но это – до поры до времени: пока жива была бабушка.
… Был такой же зимний холод и снег, и также топилась в бабушкином деревенском домике побеленная печь. Снова кот, только не Епифан, а просто Васька ловил и ел мышей. Не было только дедушки (и уже давно), и вот теперь уже не было бабушки. Вернее, она была. Она лежала, высохшая и неподвижная, со скрещенными руками, на большой дубовой доске, а на полу рядом стоял пустой черный гроб, и два незнакомца рассуждали, с какого бока им заходить.
– Раз-два, взяли! – воскликнули они нестройным хором, и тело бабушки со стуком улеглось на положенное место.
Ни один мускул не дрогнул на лице В.И. – он всегда отличался олимпийским спокойствием и невозмутимостью.
– В.И., – тронула за рукав соседка Лукерья. – Ты никак здесь один останешься? Ай у нас перночуешь?
– Да что я Вас, Лукерья Степановна, стеснять буду. Здесь что ли места мало.
– А не погребуешь? И мертвяков не боишься?
– Живых бояться надо, Лукерья Степановна, живых. Идите спать. Как-нибудь справлюсь, если что – позову.
Ветер свистел до полуночи, пока не порвал старые провода. Свет в хате погас. В.И. отложил книгу и лег, не раздеваясь.
Буря почему-то успокоилась, из-за туч выскочила луна прямо в бабушкино окошко и заглянула внутрь.
– К морозу, – сказал бабушкин голос.
– Померещилось, – ответил В.И. и повернулся на другой бок.
– Покойники заходят со спины. Повернись, внучек, к стеночке.
В.И. не послушался. Ему показалось, что веки стали прозрачными, и он видит все, не открывая их. С присущим ему любопытством он стал наблюдать.
Сначала все было обычно, только привкус какой-то бесцветности сопровождал внимательный взгляд. Комната была скучна и белёса от холодного света луны. Но какое-то движение приковало его интерес, и хоть привкус оставался на прежнем уровне, кровь в жилах заиграла, как у охотника, выслеживающего дичь.
Движение происходило в гробу. Сквозь веки В.И. видел (вернее, знал), что бледная фигура медленно принимает сидячее положение, потирает коленки и прицеливается, как бы удобнее встать. Раскачавшись, она прыгает на пол, издавая тяжелый стон и стук, похожий на тот, когда ее бросали в гроб. Еще раз потирает коленки, а потом, прихрамывая, ковыляет к В.И. Вот она, совсем рядом, улыбается широкой улыбкой на круглом лице. На руках она держит Епифана, а Епифан держит в зубах полуживую мышь и рычит. Мышь выскальзывает, Епифан вырывается из бабушкиных рук.
– Беги-беги, ты голодный, не кормленный, – говорит бабушка, отряхивая от кошачьей шерсти подол, и, задирая его, поворачивается и показывает свой зад. Коричневая заплата, как бритва, режет глаза.
… В.И., как чертик на пружинке, резко вскочил на ноги. Ему показалось, что вспышка света озарила весь дом. Пульс с неистовой силой забился в висках и заклокотал в горле. Огромное непонятное чувство овладело вмиг всей его сущностью. Он понял, что бабушка (нет, она, конечно, и не думала подниматься в гробу) теперь будет сопровождать его всегда. Он теперь не один. Он понял, что счастлив. Он оглядел убогий покосившийся домик и проникся новым необычным чувством красоты. Он любовался тем, что не вызывало любования. Его зрение наслаждалось бедностью красок и утомительной белесой пустотой, плоскостью вместо трехмерности, рождением какого-то «ничего» там, где раньше были цветы и конфеты.
– Вот, внучик, нам и пора. Пошли, милок, пошли. Я тебе расскажу сказку, а потом ляжешь спать. Ты же послушный мальчик и будешь слушаться свою любимую бабушку, – голос ее, такой родной и знакомый, еще никогда не был так близко. Он звучал у В.И. в голове.
Последний самолет
(Больная И., 35 лет, шизофрения)
Юля летела на самолете домой. Нервные пальцы впились в сумочку, белую, как сжатые губы. Казалось, она сама превратилась в полет. Она чувствовала единение с крылатой машиной, словно это был велосипед. Противоречивые чувства раздирали ее пополам: хотелось броситься в объятия к любимому человеку – и хотелось никогда не возвращаться туда. Больше всего она мечтала о том, чтобы разбился самолет. Но он не разбился, и Юлина нога ступила на родную промокшую землю. Воспоминания градом посыпались на нее.
Отец, папа, папочка… Когда Юля была маленькой девочкой, он часто носил ее на плечах. Потом родители обычно уезжали, а ее забирала скупая старая дева – тетя Света. Потом отец пошел на пенсию. А мать – она всегда была домохозяйкой.
Юля-школьница стала стесняться своих пожилых отца и мать, тогда как у ее одноклассников папы носили джинсы, а мамы – маникюр и макияж. Самыми трудными были будни после родительских собраний. Как правило, отец выступал невпопад, ссорился с учителями, неумело пытался защитить двоечников и разгильдяев, которые понимали все наоборот (как и их родители), а потом дразнились и стрелялись из рогаток. Однажды железными шпонками они изрешетили ноги Юлиного отца, когда он выходил после такого собрания из школы.
А еще Юля сгорала от стыда, когда ей покупали новые вещи. Боясь обидеть родных, она надевала неуклюжие сапоги и бездарные шапочки, доходила до угла, переобувалась в туфли (которые хотя бы не болтались в голенищах) и прятала капор или заячью ушанку в портфель. Отсюда и Юлина тугоухость (из-за которой она не пошла в консерваторию), и больные колени.
Юля любила общество своих ровесников, но не могла позволить себе сблизиться с ними: приглашать их к себе – немыслимая идея. А идти к ним в гости, значит, все равно неминуемо в знак ответа гостеприимства. Дом Юлиных родителей напоминал свалку. Мать всюду складывала узелки, отец притаскавал железки и всякие отходы производства. Целый день не убиралась постель, потому что отец страдал спинными болями и часто прикладывался. Краны текли, на кухне постоянно жарился на сале лук, и даже зимой не переводились мухи, не говоря уже о тараканах.
Но все это можно было перетерпеть, если бы не постоянные вздохи о прошедшей молодости и потере сил.
Когда школа осталась позади, Юля не пошла на выпускной бал. Во-первых, потому что на вечер нельзя не пригласить ее плохо одетых родителей, а во-вторых, она хотела немедленно покинуть отчий дом, пока хватает характера от впечатлений окончания учебы.
Она уехала в первый попавшийся город и поступила в первый попавшийся техникум, совсем далеко от мечты. Письма, которые писала мать, она просила читать свою подружку по общежитию, которая потом пересказывала суть. А сутью было все то же: как им плохо без Юли, как сдает здоровье, как они постоянно волнуются и стареют. В конце концов, Юля просто выбрасывала нераспечатанные конверты и писала банальные ответы: «У меня все в порядке. Деньги зарабатываю санитаркой. Хватает». В одном она была благодарна Богу: что они оба живы и жива тетя Света, которая к ним регулярно ходит со свежими сплетнями и не дает скучать. И молилась, чтобы это продолжалось еще долго. Или чтобы все трое умерли быстро в один день.
Но вот пришла телеграмма: «Юля, разве ты не получала моих писем? Папа в тяжелом состоянии. Приезжай попрощаться». Вот почему она и здесь.
Отец лежал на своей старой тахте под стеганым одеялом, весь в грелках, и стонал. Исхудал, щеки впали, подбородок закрыла незнакомая седая борода.
– Дед, Юля приехала! – шумнула ему в ухо тетя Света.
– А? Юля? – раздались слабые шамкающие слова. – Ю-ля!
Он приоткрыл веки, на лице обнаружилаь беспомощная улыбка. Глаза, голубые и чистые, как у многих выживающих из ума стариков, забегали и засверкали точечными зрачками. Он приподнялся на локтях и взглянул на дочь:
– Юленька! Какая ты у меня выросла. А давно ли в ползунках бегала? А я вот, видишь… Умирать собрался. Мне бы еще хотя бы чуть-чуть дотянуть, чтоб на жениха твоего посмотреть. Да куда мне! Хорошо, хоть тебя дождался. Ты прости меня, дочка, прости, милая, что я не смог тебе машину купить. За бедность прости, девочка. И за старость тоже прости.
Что-то в Юле оборвалось и упало на дно океана, а сердце разбилось на тысячу острых ножей.
– Юленька, доченька, это ты! – кто-то взял ее за руку. Она оглянулась и увидела сморщенную, как черепаха, старуху. Она пригляделась и узнала в старухе мать.
– А я уж думала, моя мечта не сбудется, и папа тебя не увидит, и ты не застанешь его в живых. Я так рада! Я ведь тоже совсем плоха! – и она затряслась, как лист на ветру, и зашлась в сухих беззвучных рыданиях.
Юля! А может, бежать? И почему они не скончались, пока ты была в самолете! Или лучше тебе самой умереть, лишь бы не быть во власти этой неукротимой жалости, которая жалит миллионом жал. И еще, и еще, и еще… Вокруг зашумело, загудело и поплыло, а потом закружилось, как в «Мойдодыре» и понеслось кувырком. И исчезло, оставив на пепелище только безразличие.
Юля сидела у изголовья умирающего отца и равнодушно ожидала, когда он испустит дух. Потом точно так же она проводит в последний путь маму и тетю Свету. А потом, когда от мучителей ее будет отделять гробовая доска, она пустится в длительный поиск: чем уничтожить то самое безразличие, которое появилось в тот самый день.
Свинья
(Больная П., 65 лет, остаточные явления органического
поражения центральной нервной системы)
… Машенька была старшей в многодетной семье Анастасии Петровны. На ее юные плечи ложилась вся тяжесть участи домохозяйки, а мама зарабатывала нелегкие деньги.
Машеньку любили все. Она вставала с петухами, доила корову, убирала хлев, кормила уток и цыплят. В восемь часов она будила Шуру и Колю и собирала их в школу. Потом ее сменяла баба Нюра, мамина троюродная сестра, и Маша бежала в школу сама. После занятий она на ходу перекусывала, на ходу учила уроки, а в основном – мыла, готовила и обстирывала пятерых малышей. Ей некогда было задумываться о том, хорошо ли ей живется. Но, наверное, ей было все-таки не скучно, потому что она все время напевала веселые песенки.
А сегодня у Машеньки выдался очень хлопотный день, даже пришлось не ходить в школу.
– Машенька! – кричала из хлева баба Нюра. – Надо еще тряпок принесть – еще лезуть!
Машенька разрывалась между двумя роженицами (у животных это бывает часто – один другому как бы подает пример). С утра свинья Матрена поросится, а вот сейчас кошка Пенка надумала рожать!
– Маша! Неси тряпье!
Маша вприпрыжку поскакала в хлев со старыми пеленками.
У свиньи началось кровотечение. Баба Нюра засовывала тряпки ей между ног.
– Маша, беги за фелшером!
– А котята?
– Топи скорей, не нужны, от них потом не избавишься.
Маша снова побежала в дом. Кошка Пенка, вывернувшись животом вверх, лежала, мурлыча, на подстилке. Четыре крошечных мордочки с писком тыкались беспомощными носами в шерсть, ища, к чему присосаться. Маша невольно залюбовалась, потом спохватилась и понеслась к колодцу за водой.
Поверхность холодной воды еще не успокоилась. Ждать было некогда. Маша засучила рукава, оторвала от кошки всех четверых котят и опустила их в ведро вместе со своими руками по локоть. Котята с силой рвались на поверхность, Машины замерзшие руки еле удерживали их под водой. Наконец, они почти одновременно вытянулись и застыли, а вверх пошли пузыри. «Это смерть. Быстро. Движение сделалось неподвижным», – Маша никак не могла осознать этот переходный момент.
Пока она бегала за фельдшером, пока все вместе спасали свинью, пальцы, отошедшие от индевелости, продолжали помнить то ощущение исчезновения жизни, которое познали в ведре с колодезной водой. И ночью перед глазами было то же самое. Нечто подобное испытала Маша, когда выдавливала на спине Павлика чирьи. Какое-то чувство освобождения – когда гнойный стерженек выстреливает вперед, и на его месте появляется неожиданно глубокая ямка.
Наутро, в пять часов, Маша побежала в хлев посмотреть, жива ли свинья. Жива! Даже что-то ест.
– Тихо, не мешай ей! – это мама еще не ушла на работу и тоже беспокоится о Матрене.
– Мама, а что она ест?
– Порося. Ей это надо, силы набрать. Ну, я пошла, а ты посмотри, чтоб к Матрене никто не залез. Нюра подойдет через час.
Мама ушла. Маша присела на корточки и стала смотреть, как свинья пожирает своего ребенка. Тоненькие синеватые ножки постепенно исчезали в пасти чудовища. Машу пронзило непонятное чувство. Свинья уловила это и злобно посмотрела исподлобья на девочку. Затем зарычала и оскалилась, как пес. Но внезапно покачнулась – видно, сильно ослабела, и, подавившись, изрыгнула содержимое желудка назад. Маша смотрела на животное, не понимая, что нужно сделать. Свинья все глядела ей в глаза, по брылям стекали струйки испачканной слюны. Наконец, икнув, она перевела взгляд с Машиных глаз на блевотину, от которой шли пары и зловоние. Подвижный пятачок понюхал свою опрометчивость. Маша увидела в луже куски пережеванных хрящей и поеденные поросячьи ножки. Свинья икнула опять и неторопливо, смакуя, пожрала еще раз то, что пыталась пожрать прежде.
… Омерзение Маши было настолько велико, что оно уже не было омерзением, а было недоумением, ступором или чем-то еще совсем неизвестным. Она понуро шла из хлева в дом. Из маленькой комнаты послышался детский плач. Это проснулся младший – Семен. Маша, с совершенно отрешенным лицом, взяла его на руки и села на постель рядом. Малыш кричал, потом внезапно успокоился и исподлобья, точно с таким же выражением, как недавно Матрена, посмотрел на сестру. В Машиных ушах звенело, в глазах стояла свинья, пожирающая безобразную теплую лужу, ее кровоточащая промежность, котята, застывающие в руках, мама, рожающая Семена прямо в этой комнате… Маша расстегнула свой халатик. Под халатиком набухли две маленькие грудки. Она приложила к правой из них сердитое лицо Семена, и он впился в нее губами, по-прежнему исподлобья сурово глядя в Машины растерянные, распахнутые, недоуменные, с расширенными зрачками, глаза. Кошка Пенка терлась о ноги и улеглась, грея живот. Щекотание соска маленьким язычком стало распространять блаженство. И девочка стала успокаиваться, успокаиваться и чуть не заснула и не свалилась со стула.
Этюд
(Больной С., 27 лет, маниакально-депрессивный психоз)
Родители Иванушки были художниками. Мама работала оформителем на заводе, папа – преподавал в изостудии. Как все настоящие художники, он имел длинные волосы, бороду и загадочный вид. Он часто ходил в лес на этюды и брал с собой сына. Отца тоже звали Иван.
Иван и Иванушка дружили и, казалось, понимали друг друга без слов. Иван-большой обычно выбирал полянку, расставлял этюдник и долго смотрел вдаль. Затем быстро-быстро набрасывал на мокрый лист разноцветные кляксы, потом делал несколько волшебных движений и превращал кляксы в пейзаж. Готовый этюд отправлялся на траву отдыхать, а его место занимал новый лист порезанного вчетверо ватмана – в предстартовую позицию для нового пейзажа.
Отец сыну рисовать не разрешал: «Мал еще, смотри, как пишут другие. А то можешь испортить природный дар». Был ли этот дар у маленького Ивана или нет, отец того еще не знал. Но уже тогда у него обнаруживался дар видеть цвет. «Созерцай!» – говорил Иванушке немногословный родитель, и Иванушка созерцал. Он прищуривал глаза и сквозь решетку ресниц видел радугу. Он мог различить десятки оттенков даже в белой скатерти на обеденном столе. Этот стол был единственным в «малосемейке», где все они жили. Семье приходилось ютиться в одной комнате уже семь лет и ждать долгоиграющую квартиру.
Кроме стола, в комнате был шкаф, полки (заставленные папиными этюдами и маминой чеканкой) и две никелированные кровати: большая – для родителей, и для Иванушки, где он и спал.
Когда маленький Иван укладывался в свою постель, он тоже созерцал. А когда выключался свет, и он закрывал свои черные пушистые глазки – перед внутренним взором наперебой плясали разноцветные кляксы и кусочки всего-всего, чего он насозерцал за день. Иногда эти кляксы становилась стремительной каруселью, летящим калейдоскопом, который все ускорял свой полет, и от этого невыносимо кружилась голова (а наутро в уголках глаз мелькали светящиеся колесницы). Мальчик боялся упасть в собственной постели. И тогда он открывал глаза и всматривался в темноту. А она давала ему свои гаммы светотеней и тоже была выкрашена в синий, фиолетовый, голубой. Но это было спокойнее, чем пестрота предсонного калейдоскопа. И потом, от видимой ночной «цветноты» (как он ее называл) начиналось что-то необычное с телом: оно куда-то исчезало. Оставались только зрение, слух и дыхание, и они были особенными. Они были преддверием в сказочный мир. А сказка начиналась маминым шепотом: «Заснул». И мама, шелестя распущенными волосами, скидывала с себя блестящий пеньюар. Она становилась совершенно нагой, а отец, нежно гладя ее белые груди, наслаждался их белизной. Маленький Иван продолжал сонно дышать, видел каждое родительское прикосновение и созерцал все – до последней капли истекающего семени; он слышал все – до последнего скрипа кроватных пружин. И с каждым разом все острее становилось восприятие информации, столь важной для Иванушкиного чувствилища. И все сильней становились его органы чувств. Он не ревновал. Он соединялся воедино с отцом и вместе с ним, его руками, с его зачерствевшим от возбуждения пенисом проникал в таинственное далёко. И он чувствовал ее влагу на своем не выросшем достоинстве, и он видел жемчужную улыбку самой желанной, самой близкой, самой доступной любимой женщины.
Она была еще ближе ему, чем отец. Первые годы жизни Иванушки прошли вместе с мамой и только с ней. До двух лет он сосал ее молоко и (прекрасно это помнил) прикидывался голодным, чтобы обнимать и трогать губами и языком плодородные, крупные, с большими круглыми сосками, живые источники наслаждения. Он любил также, зарывшись в мамин подол, внимать кисловатый запах ее нижнего белья. И украдкой воровал ее чулки, чтобы засыпая, не испытывать ее отсутствия. Он с ужасом вспоминал, как однажды мама застала его за этим занятием. И тут произошло самое главное событие, определившее все дальнейшее мировоззрение Ивана. Испуганный, как воришка, с чулком под носом, он застыл с раскрытыми глазами в ожидании: каким оно будет, его первое наказание за эту постыдную проделку? Но мамины глаза понимающе кивнули, и жемчужная улыбка обнажила ряд стройных зубов. Мама подоткнула под его ноги одеяльце и спокойно отошла от кроватки. Наверное, она решила не заострять внимание, как многие мамы и папы, чтобы ребенок постепенно обо всем забыл.
Шло время. Иванушка уже осваивал акварельные краски. И ночные бдения стали незаметной привычкой. Но квартиру все не давали. И хотя мама уже год как перестала переодеваться при сыне, не было даже ширмы, разделяющей их постель. И однажды среди ночной сказки Иванушке стало так внезапно хорошо, что на миг он полностью потерял осознание самого себя. А во сне ему привиделось, будто он ныряет в теплое молоко и тает в нем, как кусочек масла. Утренний будильник огласил подъем. Пора вставать, делать уроки и идти в школу во вторую смену. Но что это? Маленькое пятнышко на его простыне и совершенно мокрые пижамные брючки! Неужели Иванушка, такой взрослый, не проснулся, чтобы побежать в туалет? Краска стыда залила его оттопыренные уши. Иван снял штаны, вывернул их на изнанку и подошел к свету, чтобы получше рассмотреть. Он посмотрел, поднес к носу и… «О счастье! Сегодня ночью я стал мужчиной!». И, ликуя, он запрыгал по крашеному полу босиком. «А вдруг?» – лицо Ивана в предвкушении чуда сделалось малознакомым. Он посмотрел на часы, на задвинутый дверной шпингалет. Бросил пижамные брюки в сторону и, подбежав к родительской постели, сдернул рывком одеяло. Сердце его остановилось: там, на накрахмаленной простынной полосе, он различил едва заметный полукруг и несколько подтаявших коричневых клякс, похожих на папины этюды.
Сначала нерешительно и боязливо он подался вперед, затем кинулся лицом на эти пятна и блаженно зарылся в постельный батист, чувствуя, как заползает в ноздри обворожительное благоухание. Никогда еще не была так близка к нему та женщина с ровными жемчужными зубами, которую он так безнадежно и страшно любил.
Катамнез5
(Больная С., 70 лет, психопатия)
Апрельский блик хотел проникнуть сквозь окно и пасть на стену, но лишь остался нарисованным на стекле. Даже ясное утро здесь темнее. А двери ужасающе скрипят, сколько не смазывай их петли. Звуки в этом доме такие странные, каких больше не услышишь нигде. И если яблоко сорвется с ветки и ударит и шиферную крышу, кажется, что с неба упал белый кирпич. А если кто-то пройдется по комнатам, половицы затрещат, как старые кости. Вода из крана стучит, как крупный град, а железные миски, ударяясь друг о друга, долго на могут прийти в себя, издавая продолжительный тоскливый гул. Здесь мрак, туман, здесь пасмурная осень. Здесь минус жизнь. Здесь плохо. Здесь чего-то не хватает. И хотя в доме давно уже никто не умирал, в воздухе стоит столбом запах мертвечины, то удаляясь, то концентрируясь почти до зрительного образа.
Этот дом выглядит добротным, со всех сторон ухоженным (если не открывать шкафы и тумбочки). Все фундаментальные дефекты тщательно замазаны, повсюду избытки ковров и излишки половой краски. Но дом угрюм. Он сидит в низине, глядя исподлобья четырьмя небольшими окнами и прячась за невысокими кустами.
В доме пять комнат, но только в одну из них заходит полноценный свет, и не скрипят половицы. Когда-то здесь жили старые родители, а теперь вместо железных кроватей расставлен мягкий уголок, а вместо «лампочки Ильича» повисла хрустальная люстра. Эту люстру оставила бабе Зое невестка за несколько лет проживания. Она когда-то там жила с мужем и ребенком. Правда, недолго. Когда баба Зоя почувствовала, что больше не имеет власти над сыном, – вышвырнула всех и потребовала платы. Сейчас эта комната пустует и служит вроде как для гостей, которых здесь никогда не бывает. Но зато бывают соседи (обычно приходят воспользоваться баб-Зоиным
телефоном), которым можно ее показать, чтобы они хорошо думали о Зое Иванне. А как соседи уйдут, Зоя Иванна быстро закрывает комнату для гостей на ключ, словно Снегурочка, которая боится растаять. И снова остается одна в своем пасмурном доме.
Вообще-то она живет с мужем. Но видится с ним редко, потому что муж почти все время спит. Это у него вроде как профессиональная болезнь – он много лет работал сторожем. Правда, встает он рано – в семь часов. А в девять ложится снова. А так как его жена любит покемарить до полудня, супруги почти не общаются.
Горе пришло к бабе Зое не так давно – со смертью последнего брата, который не верил людским сплетням и злым языкам. Он был человеком грамотным и образованным и понимал, что здравого смысла в этих сплетнях нет, потому что такого не может быть никогда. Надо же было придумать, будто бы его родная сестра околдовала всех родственников на высоте жизненных сил и удач, и, вроде бы, поэтому они поумирали или стали инвалидами. Нет, ну надо же! Это что ж, зараза какая? Вот он сам возьмет и проверит, чтобы раз и навсегда положить кривотолкам конец. Как раз сын жениться собрался, надо бы тетушку на свадьбу пригласить.
Проверил. Пригласил. Свадьба расстроилась, на почве расстройства свадьбы сын сошел с ума, на почве сумасшествия сына отца разбил паралич, и он благополучно скончался через две недели после беседы с сестренкой. Вряд ли он думал под конец жизни, что же ему удалось доказать, так как в сознание после удара так и не пришел. Но, наверное, он унес в могилу свое твердое убеждение, о котором последнее время всем говорил: «Моя сестра – хорошая женщина, она все делает от чистого сердца, а люди платят за это черной неблагодарностью».
А Зоя Иванна и впрямь все делает от чистого сердца. И надо еще добавить – из чувства справедливости. А ложью пользуется только во имя спасения. И правда: чем это племянник лучше ее родного сына? Почему сын бросил мать, изменил ей с женой, а племянник должен жить в счастливом браке?! И чем брат Зои Иванны лучше ее самой? Почему у Зои Иванны одни несчастья, а у этого все хорошо?
И кто придумал, что таким людям, как баба Зоя, легко жить! Быть честным и справедливым – тяжелое испытание. Ей иногда приходилось идти через силу. Легко ли, например, смотреть, как внук корчится от аминазина, который справедливая бабушка подсыпает ему в кашку? А что делать, если родители не понимают, что ребенка надо лечить. Вот и приходится бедной бабушке ловчить и прикладывать свой многолетний медсестринский опыт. Но она выдержала все и перед Богом чиста. Да, она одинока, муж спит, дети живут далеко и на порог ее не пускают. Но к неблагодарности она уже привыкла. Смирилась. Хотя теплится надежда: может, когда еще встретимся, Господь даст… А родственники все кончились! Все! А с соседями устанавливать справедливость не получается. Почему-то она не может действовать на чужих людей. Видно, судьба такая – за хорошее платят злом. Но такая судьба у всех святых мучеников.
Чу?! Неожиданный звонок разбил тишину. Баба Зоя замерла. Звонок повторился. Тогда она тяжело встала со стула у окна и шаркающими шагами пошла открывать двери.
– Кто там?
– Здравствуйте, Зоя Ивановна! Это я, Маша, помните? Я тогда была совсем маленькой, когда Вы к нам приходили. Архип Васильевич, Ваш троюродный брат – мой дедушка.
– Ах! – сердце подскочило от искренней радости, словно лягушка. – Машенька! Внученька! Дай я тебя расцелую!
«Бог есть!» – подумала баба Зоя, задвигая щеколду. В ее кишках стало тепло, как от горячей котлеты, а настроение запрыгало, как веселый звонкий мяч. Глаза троюродной бабушки неподдельно искрились.
– Ой, какой у Вас просторный дом!
– А вот это – комната для гостей…
– Какой дом! Мой папа тоже строился, но не успел, умер (Вы знаете). И вот все стояло до прошлого года. А сейчас я замуж вышла. Мой муж коммерсант. Он уже почти все доделал, осталось газ подвести – и можно справлять новоселье. Уже скоро! А я беременна…
«Ну… А это еще мы посмотрим», – подумала радушная хозяйка и плотно сжала хищные челюсти.
Маше показалось на миг что-то вроде землетрясения. Потом это прошло. Но она почувствовала легкое недомогание и тяжесть в низу живота. «Наверное, сегодня неблагоприятный метеодень», – подумала Маша и решила не обращать на это внимания.
Часть II. Рассказы о животных. И растениях
Самая длинная минута
Иван Денисович, кандидат наук и достойный гражданин своего Отечества, продолжал висеть на колокольне, гортанно орать и размышлять о высоких материях. Рядом ему сочувствовал плешивый голубь, а внизу, под руководством Анжелики Егоровны и дьякона Щепетухи, группа кровельщиков и девушек-общественниц разворачивала большой цветастый ковер.
– Где же Бог, черт его побери! – молился мысленно Иван Денисович. – Я уже охрип, и заиндевели пальцы. Наверное, это за то, что защищал диссертацию по атеизму. Но я же потом раскаялся и всеми помыслами перешел на праведный путь. Значит, Господь про меня не забудет. Тем более, что храм его крыл. А то что было – все от Лукавого – период застоя в заблужденье ввел. Я ж теперь другим сделался. И даже почти не ворую. И технику безопасности почти всегда соблюдал. А этот несчастный случай – первый и, надеюсь, последний. И вообще, это не несчастный случай, а испытание кармы. Я должен через это пройти, чтобы вознестись над суетой. И тогда я начну новую жизнь. Без греха: всегда буду надевать монтажный пояс, к самогону не притронусь и даже на красный свет никогда больше не поеду. Господи Иисусе! Скорей, а то я испорчу свои золотые руки! Я ж тебе на всю получку бутылку… нет, свечку поставлю, а остальное нищим спущу. И по девкам таскаться брошу! И сыну компьютер починю! Но Бог – Бог, а я и сам не лох. Это ж надо так изловчиться, как я! Не каждый на это способен. И сколько я уже вишу? Минут пятнадцать? А может, и больше. И я уверен, что все будет хорошо. Не к чему было бы высшей силе мне давать возможность зацепиться, если бы суждено умереть. Точно – это испытание на прочность. И я его прошел. Я себя еще больше зауважал: не впал в панику, сохранил самообладание и философию оптимиста. А то, что я ору благим матом (ну, не только благим, конечно) – так это все для людей. Вон, моя главная спасительница, Анжелика, глазомер налаживает, чтобы я в серединку попал. Вот спущусь на Землю, найду ей спонсора. А сам тоже в какую-нибудь партию вступлю. Буду за справедливость бороться, пост соблюдать, зарядку делать.
Голубь адаптировался к крику Ивана Денисовича и занялся маникюром. Группа спасателей закончила подготовительный этап, и Анжелика Егоровна просигналила: «Прыгай!». Иван Денисович облегченно вздохнул и расслабил затекшие пальцы. Последним в его просветленном челе было слово «мимо»…
Спасатели по инерции подержались за ковер. С недокрытой колокольни вспорхнул пернатый друг и улетел. Дьякон Щепетуха осенил покойного тройным крестом, а Анжелика Егоровна достала сотовый и набрала номер:
– Алло? Это женская организация «Зимняя слива». Сделайте нам похоронную службу.
– Рожденный ползать, летать не может, – промолвил самый молодой член трудового коллектива.
Бешеный огурец
Тетя Лена и дядя Саша живут в деревянном домике в глубине сада под белыми акациями на улице Нарядной. Еще в этом домике живут дедушка и бабушка с отдельным входом.
У тети Лены и дяди Саши есть две большие немецкие овчарки – мама и дочка. Маму зовут Альфа. А дочку – тоже Лена. Иногда здесь также живет кот Бакстер и спит вместе с овчарками на диване. Когда кто-нибудь постучит в окошко, Альфа и Лена поднимают лай, а потом бегут в сад к калитке. Дядя Саша надевает старую обувь и тоже бежит открывать гостям первым. Он говорит собакам: «Фу! Свой!» – и собаки пропускают гостя в сад и в дом. А когда никто не приходит, Альфа и Лена ругаются, а потом лежат и вздыхают, потому что у них плохое настроение. А когда у тети Лены и дяди Саши плохое настроение, они идут гулять без собак. Дядя Саша – маленький и квадратный, тетя Лена – высокая и на каблуках. Тетя Лена берет дядю Сашу под руку, и они прогуливаются по проспекту. Прохожие обращают внимание и удивляются, а от этого у тети Лены и дяди Саши поднимается настроение.
Максим очень любит бывать на улице Нарядной. Он очень любит дедушку и бабушку, тетю и дядю, Альфу и Лену. А также Бакстера. А еще он любит играть в дяди-Сашин компьютер. А еще – яблоки, груши и виноград. Но больше всего на свете Максим не любит кабачки. Он их просто ненавидит.
… Как обычно, в выходной день Максим у тети и дяди играл в компьютерные игры. Дядя Саша приобрел новую игру – про «Штырлица» и Василия Иваныча. Игра была настолько увлекательной, что Максим потерял счет времени и приобрел его вновь, когда тетя Лена зазвенела вилками на столе. Из кухни потянуло чем-то жареным, а в животе забурчал аппетитный желудочный сок.
Максим! Обедать!
Максим послушно выключил компьютер и устроился за обеденный стол на свое любимое место. Тетя Лена внесла дымящееся блюдо и поставила под нос своему племяннику. От аромата потекли слюнки, а рука уже схватила вилку и вонзила ее в чудесное рагу. Но, Боже, что это? Глаза Максима выскочили из берегов:
– Нет! Только не кабачки! – воскликнул он и обрадовался, что не успел положить в рот кусочек этого отвратительного яства.
Не подумайте плохо о тете и дяде Максима! Они никак не хотели отравить ребенка или подложить ему вместо кушанья свинью. Просто получилось так, как часто в наше время бывает – зарплату на этот раз не выплатили не только им, но и товарищам, у которых они обычно занимают. И на огород за молодой картошкой не смогли поехать из-за дождя. И даже последнюю буханку хлеба пришлось дать на завтрак собакам. К стыду своему, тетя Лена, кроме ненавистных кабачков, смогла раздобыть у соседей одну морковку, одну луковицу, один огурец. А с грядки сорвала несколько оригинальных травок. Все это, хитро скомбинировав и приложив максимум кулинарного таланта, она быстро преобразовала в нечто съедобное. Тетя Лена попробовала готовую стряпню и уверилась, что это совсем непохоже на кабачки. Но обостренный нюх предпубертатного6 Максима обмануть не удалось. Печать трагедии готова была лечь на тети-Ленино лицо, и рассудок уже закричал ей: «Бедный голодный ребенок!». Но тут верный муж пришел на помощь своей любимой супруге.
Это не кабачок, – тихо и вкрадчиво сказал дядя Саша.
Глаза Максима, уже вошедшие в берега, просто вылезли из орбит:
– А что это?! – визгливо киксанул Максим, тут же поправился, откашлялся и произнес то же самое баритональным басом и нараспев: – А что это, дя-дя Са-ша?
Дядя Саша тоже откашлялся, вдохнул в широкие легкие побольше воздуха и заявил:
– Это не кабачок. Это дикий ананас.
Тетя Лена от неожиданности уронила сковородку на Бакстера, которого собаки стали быстро облизывать.
– Это дикий ананас, – продолжал дядя Саша. – Мне привезли его совершенно случайно. Полковник секретных служб.
Максим отодвинул тарелку, поднял свою симпатичную, с надутыми щечками, мордашку и весь превратился в повышенный интерес:
– А разве такое бывает?
– Бывает, – закивали дядя Саша и тетя Лена.
– А как?
– Очень просто, – дядя Саша взял двумя пальчиками вилку и нож. – Во-первых, это блюдо надо есть так. Вернее, это у нас так его едят, а в Африке для этого используются ананасовки.
– ?
– Ананасовки – это специальные вилки, выдолбленные из клыков саблезубого кролика.
– ?
– Да, саблезубые кролики жили в Африке в период расцвета диких ананасов, вернее, их переходных форм, и архиоптериксов. Тогда дикие ананасы существовали в природе свободно и не были занесены в «Красную книгу».
– Так они вымерли?
– Не совсем. Вымерли только либеральные дикие ананасы, но остались их трансформаты. В искусственных условиях натуральный дикий ананас можно получить только путем скрещивания непривитого обычного ананаса и вульгарного кабачка.
Дикий ананас произрастает на любой почве и породе, в том числе – на отвесной скале. У него мощная ветвистая всепроникающая корневая система. Ранее существовавший горный массив Сахара был в древности засажен диким ананасом (неандертальцами), поэтому разрушился и превратился в пустыню. Так что наша бесхозяйственность и лозунги «Покорим природу!» еще в ту пору показали себя с плохой стороны.
А в настоящее время дикий ананас завезен в Чечню боевиками-террористами, чтобы высадить его на Урале путем посева из самолета, дабы превратить в пустыню и Уральские горы. Но наши люди везде! Дикий ананас был перехвачен и теперь растет исключительно в теплицах под неусыпным контролем спецслужб. Селекционеры и ветеринарные ботаники изучили этот биологический вид на агрессивность и признали ее самой высокой по шкале Тимирязева-Вассермана. Поэтому каждую весну каждому отдельному растению делают прививки в пестик – сывороткой из вытяжки бешеного огурца пятилетней выдержки. Тогда дикий ананас становится неагрессивным и может быть использован в пищу.
Максим слушал, раскрыв от внимания пухлые губки, а конопушки на молочной (как у тети Лены) коже плясали от восторга. Его правая рука уже взяла двумя пальчиками вилку, а левая потянулась за ножом. И дядя Саша с тетей Леной уже ликовали от наступающего чувства победы, но невинный вопрос из еще недалеко ушедшего детства ударил, как сабля по женскому волосу, и рассек начисто первоначальные планы.
– А зачем? – спросил, жуя, Максим. – Зачем столько работы? Лучше взять не дикий ананас. Он вкуснее.
– Нет, – твердо сказал дядя Саша. – Весь смысл заключается в том, что именно дикий ананас обладает необыкновенными особенностями, несмотря на обыкновенные вкусовые качества. Даже у индейцев племени Сио существует пословица: «Кушай дикий ананас – и откроешь третий глаз».
– Третий глаз? – перестал жевать Максим. – А у кого? Где? И зачем?
– Да у тебя! – не удержалась тетя Лена. – В голове, чтобы ты мог видеть всех насквозь.
– Насквозь? Всех?
– Да! Да!
– Это значит, я буду видеть сердце, легкие, кишки… Не, теть Лен и дядь Саш! Я не хочу третьего глаза. Мне хватит своих двоих. И вообще, ешьте вы сами свои дикие ананасы, а мне лучше дайте кабачки.
С тех пор кабачки для Максима стали самым любимым блюдом.
Урод и Жучка
Деревянная грубо сколоченная дверь, гремя засовами и скрипя несмазанными петлями, открыла вход в мрачные сени. Мы стояли в раздумье, не смея переступить порог. Что там за ним, за этим порогом – ад или логово чудовища?
– Проходите, – такая же, как сени, мрачная женщина в коричневом пригласила нас в дом.
Робея, мы переступили. Через порог. Прогнивший под дырявым навесом.
Женщина молча повела нас в горницу. Окна здесь были закрыты глухими ставнями так, что не оставалось ни щелки, ни дырочки, откуда мог бы просочиться дневной свет. На длинном деревянном столе лежало наискось пожелтевшее полотенце с вышитым непонятным крестом. На кресте стояло железное блюдо в обрамлении горящих черных свечей, будто это корона. Пока мы привыкали к полумраку, откуда-то с другой стороны появилась человеческая фигура и села на скамью против свечей.
– Садитесь, – сказала фигура глухим голосом и указала на свободные лавки.
Мы сели, не смея обратить взора на хозяина.
– Не бойся, Пашка, – глухой голос проникал в нас как бы не через уши, а через грудь. – Выкладывай, зачем пришел.
Пашка судорожно глотнул и закашлялся.
– Не спеши. Испей воды, – хозяин протянул стакан с какой-то жидкостью.
«Какие у него длинные руки!» – невольно подумал я.
– Это точно, – засмеялся он ржавым смехом.
Пашка высадил весь стакан и обратился со словами:
– Дяденька, Вы не могли бы…
– Я тебе не дяденька, – грубо оборвал глухой голос. – Зови меня, как привык: Урод.
Я почувствовал коленями, как содрогнулся мой товарищ.
– Слабо? – засмеялся опять тот. – Тогда молчи. Пусть Малыш говорит. Он один из вас имеет право на голос.
Я удивился такой чести, и даже где-то появилась какая-то гордость. Она мне и помогла выдавить из себя то, с чем мы посмели потревожить этого страшного человека.
– Гражданин волшебник! У Пашки мать помирает. Помогите! – сказал я и стал медленно поднимать глаза. Передо мной появилось изрезанное шрамами лицо, искаженное еще и гримасой ржавого смеха.
Когда Урод перестал смеяться, лицо его резко остановилось на глубоком раздумье. По моим членам пронеслась волна ужаса.
– У больной живность есть?
– Как это? – не понял я. – Корова что ль?
– Что ль корова. Или что ль коза.
– Нет, они нищие совсем… Мать болеет. Да мы купим, соберем…
– Я тебя спрашиваю, у больной живность есть?
– Нет.
– Тогда уходите.
– Но почему?!
– Уходите, я сказал.
Я ничего не понимал. Пашка был готов потерять сознание. Все надежды его рухнули! От жалости мое сердце защемило, как десяток заноз. Урод спокойно встал и собрался уходить, откуда появился.
– Подождите! – вспомнил я. – У Пашки есть собака!
Урод вернулся и сел на прежнее место. Он оглядел нас своими птичьими глазами без век. Этот взгляд был осязаем. Он забирался к нам под рубашки и выползал через рукава, оставляя холодок.
– Долго думаешь, молодой человек. Везите. Завтра будет поздно.
… Пока Урод занимался с Пашкиной матерью, мы толпились на жаре возле его дома. Как ни старались подслушать или подсмотреть – ничего не получалось. Пашка ходил взад-вперед, то желтея, то зеленея, и за все время не проронил ни слова – только стонал. И вот настала самая удивительная минута: деревянная дверь, скрипя, распахнулась, и на пороге появилась женщина в коричневом платье рука об руку с Пашкиной матерью.
– Она еще слаба, – предупредила нас женщина, передавая руку больной.
Я взглянул сначала на Пашку, потом на его мать. И ужаснулся: в ее лице была жизнь и (самое удивительное!) – полный рассудок. Она была такой же высохшей до пергамента, как мы ее привезли, но на ногах и в своем уме! «Этого не может быть! – стучало у меня в висках. – Она год не приходила в себя и пластом лежала, парализованная, в кровати!». Этого я не могу понять и сейчас, когда прошло уже почти пятьдесят лет, когда я, хоть и не врач, но знаю, что Пашкина мать была привезена к Уроду в агонии.
… В течение двух недель исцеленная полностью вернулась в себя, как была до паралича, и даже вышла на работу. На нее приходили смотреть все жители нашего села и даже приезжали из другой области. Она сперва была доброжелательна, а потом ругалась и гнала всех со двора: «Надоели! Замучили!». Тогда те шли смотреть на Урода. Он не выходил, а женщина в коричневом платье говорила, что он отсыпается. И вот, когда Пашкина мать была уже здорова, и про нее уже начали забывать, поздно вечером забарабанил в окно нашей спаленки бледный, как полотно, Пашка:
– Померла! – запыхавшись, выдавил он.
– Мать?!!
– Нет… Жучка…
– Ну, ты, Пашка, даешь! Напугал до смерти, я думал, правда, что случилось.
– Случилось, Митька… Жучка начала болеть, как мамка стала выздоравливать. А сегодня мамка за столом говорит: «Ну, кажется, я совсем поправилась!». И вдруг из конуры раздался человеческий крик. Громкий, но слова можно было разобрать: «Ко мне!!!». Я кинулся к конуре, а это Жучка. Глядит на меня и шепчет: «Прощай, Пашка, я помираю». И померла. Ей-богу, не брешу! Вот тебе крест! Честное пионерское! Я матери все рассказал. Ну, как Урод про живность спрашивал. Она испугалась, и я тоже. Митек, схорони Жучку. Я боюсь к ней подходить. И где-нибудь подальше. Жучка сама просила.
– Ага. И как же она просила?
– Да вот… так… В глаза заглядывает и говорит: «Пусть меня Митек похоронит за несколько километров отсюда…».
Ну что я могу на это сказать? Конечно, мы все знаем, какое Пашка брехло. А с другой стороны, вижу, что ему не просто лень собаку в лес нести, а и действительно он боится. Чего ради друга не сделаешь, когда у тебя все хорошо, а у него сплошные несчастья?!
Вооружился я маленькой лопаткой, взвалил Жучку на тачку, накрыл ее пустым мешком и, дождавшись сумерек, вывез ее в лес (Пашка, гад, даже за калитку не вышел – Жучка, говорит, не велела).
Когда я спустился к реке, было уже совсем темно. Правда, я сам выбирал время ближе к ночи: чтобы никто не видал. А то наговорят всякого, смеяться будут. Но я не подумал о том, что в лесу в это время ничего не видно. И ночь безлунная, как назло. И что-то не по себе. Истории всякие вспоминаются. «А, – думаю, – закопаю здесь». И я принялся за работу. Сперва огляделся. Нет, у самой реки нельзя – размоет. Лучше ее на горку немного затащить. Затащил. Лопатку в землю воткнул. Мягкая земля. Хорошо. Стою, копаю. Вырыл в метр глубиной, Жучку положил и засыпать стал. Вдруг лопатка чиркнула по железу. Я наклонился и поднял какую-то монету. Пытался разглядеть – но темно! Спрятал в карман до дому. Закопав могилку и выдержав минуту молчания, повернул назад. Но вдруг услышал впереди себя чье-то учащенное дыхание. Я замер. А дыхание приближалось, пока я не увидел рядом с собой знакомую долговязую фигуру Урода.
– Эх, Малыш, Малыш! Что же ты наделал?! Эх я, дырявая голова, как я мог об этом не подумать!
– Вы о чем, дяденька? – пролепетал я в ответ на вопрос, который не понял.
Урод ласково похлопал меня по плечу. Затем чиркнул спичкой и зажег керосиновый фонарь, который оказался в его левой руке. Фонарь создал вокруг себя облако света. Мне сразу стало легче и теплее, несмотря на таинственность происходящего. Он поставил фонарь на траву и предложит сесть.
– Ты, Малыш, сделал непростительную дерзость, – едва справляясь с одышкой, глухо заговорил Урод, становясь неожиданно прекрасным в своем безобразии. – Знаю, не с дурными намерениями, а от невежества. А в итоге, что так, что эдак – все одно. И какой же демон тебя подстрекнул! Помешай тебе, десятью минутами раньше приди – все было бы хорошо. Но я не успел. Старый стал. И правда, Урод, как вы меня за глаза называете… Эх! Нельзя было предавать этой земле мертвое тело, тем более напитанное чужими ядами. Святое это место, парень. И святое, и лихое единовременно. Лютое. Ты думаешь, это горка простая? Э-э! Да разве горки такие в природе встречаются? Не горка это. Это холм могильный. Шаман здесь покоится. Вот уже семнадцать веков. Раньше сюда молиться ездили, с ним советоваться. Дух его вызывали и спрашивали, как поступить. А потом, когда его беспокойством одолели, он разгневался и чуму навел. Вся нечисть передохла. А потом опять расплодились, как тараканы. Ну, было то, иль не было, а то, что здесь особые дела творятся, это правда. Только вот почему-то на эти чудеса внимание никто не обращает. Вот и ты, пустоголовый, проморгал интересное-то. Что? А то, что в гору мертвечину тащил, будто пух, и то, что землю лопатой, точно сыр резал. А вот ты завтра сюда с этой лопатой – и копни. Поглядишь, как оно без чародейства копается. Но приди не один, а с шумной ватагою. Вот так и устроен простой человек, чем он и от колдуна отличается? Ничего не замечает, у себя под ногами не видит, какие чудеса кругом расхаживают. Вот сейчас: слышал гул ветра? А ветра-то и нет. А откуда ж тогда этот гул? И холодок, что волосы тебе теребит? А как объяснишь, что волосы у тебя шевелятся, а у меня нет, хоть они у меня и тоньше, и длиннее? Не видишь ты, Малыш, не видишь ты чудес, не замечаешь. А колдун видит. А мимо простых людей оно проскальзывает, как вода сквозь пальцы. Не быть тебе колдуном, Митек… Но быть тебе заживо погребенным. Непростительную глупость сделал ты. И я… Стар стал, не догадался своевременно… Значит, умирать пойду. А тебе – вся жизнь пропала. Эх, Митек, Митек! Ты же заклятие снял. Теперь опять не сможет шаман сдержать ту страсть господню, которую хранит в себе ваше село… Больше двух тысяч лет…
Урод махнул рукой и пошел прочь. В моих ушах звучал и звучал его глухой голос, растворенный в отчаянии, и роковые слова, которым предстояло превратиться в суровую правду…
Винодел
Невообразимо жаркий день упал на октябрьскую землю. Ярко-желтая разреженная листва на трезубце клена казалась вырезанной из цветной бумаги для труда, особенно на фоне широкой речки. Только в октябре бывают такие неестественные краски неба и воды. Мальчишки – целая группа, сбежавшая с уроков, побросали портфели на берегу и, раздевшись до трусиков, плескались и визжали, забыв о том, что они не слабый пол. Листья плавали в воде, как разорванные письма, а иссохшая трава обнажала белый песок.
У добротного деревянного домика с белым палисадником стояли три иномарки, приехавшие сюда издалека.
– Терентий Ефимович! Вот Вы, как народный целитель, как можете объяснить чудо святого напитка? – спросил Марик-журналист, нажав кнопочку диктофона.
– Я не народный целитель, – покачал головой дед Терентий. – Я – потомственный винодел.
– Но ведь столько существует виноделов, столько вокруг алкогольных напитков, а никакого эффекта, кроме похмелья, ни у кого не наблюдается!
– А, это все несерьезно, вот и не наблюдается. Не может заводское вино, будь оно четырежды марочное, дать настоящих сил. Вино должно, во-первых, делаться из винограду. Да не с колхозных плантациев, а чтобы у себя в саду, как домашнее животное, жило. Он должен расти в семье, к тому же – в мире и согласии. Поговорить с ним надобно, поубеждать, песенку спеть.
– Да, но грузины и молдаване испокон веков в своем хозяйстве виноградники обрабатывали!
– Вот именно, что обрабатывали, как курей в птицеферме, а я ж вам говорю: виноград должон жизнью интересной жить. Скучать он не любит, ему общество подавай. А потом ему не всё чужие байки слушать, ему и самому выговориться надо.
– А Вы, Терентий Ефимович, язык его знаете? – полюбопытствовала Лидочка.
– Знаю, дочка, знаю.
– И какой же?
– Э-э, дочка, на словах этого не объяснишь. Это понимаешь, когда с виноградником душа в душу поживешь, скажем, лет двадцать пять. Но главное все же не в этом…
– А в чем, Терентий Ефимович? В чем Ваш главный секрет?
Молодые люди замерли в ожидании, вытянув шеи. Дед Терентий оглядел их зорким взглядом и решился:
– Главный секрет, говорите? Да, во – первых, в том, что слаще нашего винограду ни на каких югах не растет, ну, а во-вторых… – он снова взглянул на ребят, – во-вторых, виноград надо своими руками давить.
– Ну, как же, Терентий Ефимович! Виноград же всегда мяли ногами?!
– Вот и плохо делали, что ногами. Обиделся виноград на это и спрятал свое чудодейство, а алкоголизм оставил. А вот когда ты каждую ягодку мякушками своих пальцев переберешь, когда он в твоих ладошках соки пустит – вот тогда через руки он чувства набирается. О чем я в тот момент переживаю, то виноградные соки в себе и записывают, о чем горячие мысли и страсти, тем буйнее напиток получается. Иной раз такое зелье закружишь – что с пол литру все раки разбегаются. А в другой – подловишь лирику – и вино, точно далекая невеста становится. Такое от щитовидки помогнёт и вспыльчивость остудит. Вот так оно и выходит, что из единого сорту лекарство от всех напастей сделать можно. Недаром вино божественным напитком в старину считали. А все эти яблочные, сливовки, да еще хуже – водка – дрянь дело. Вино – оно на то и вином называется, что из винограда, из особого растения, и это растение среди других – царь.
Олег расхаживал по дому деда (естественно, с его разрешения) и оглядывал интерьер. Всё-то у Терентия ладненько и славненько, видать, с хозяюшкой повезло. Да он и сам молодец: и на все руки мастер, и деньгу хорошую гребет. Да и какой он, к черту, дед, ему не больше шестидесяти. Это в деревнях такой мужик дедом считается, а в городах в такие годы еще на тридцатилетних женятся. И детей рожают. Надо, надо деду Терентию помочь, надо показать, какие есть прелести в бизнесе. Такие таланты пропадают, а это же – народное достояние, это зарывать нельзя! Надо поездить сюда, подкупить подарками да комплиментами и убедить в организации производства. Сколько хороших людей от болезней гибнет, всякой гадостью печенки сажают (и, главное, без толку), а тут такая фармакология! Сколько пользы можно человечеству принести! (И сколько бабок оторвать, если задуматься…). Но это дело будущего, а сейчас Олег должен выполнять свой долг, зачем, собственно говоря, организовал всю эту кампанию.
– Ой, Терентий Ефимович, какой вкус! – Лидочка уже откушала божественного напитка из темно-коричневой бутыли. – А что у меня от него будет?
– Уши вырастут, – пошутил Марик, пригубливая стопочку.
Все приложились к вину – и даже те, кто был за рулем. Только Олег отставил стаканчик.
– Извините, я потом. Я сначала должен решить деловые вопросы.
– Похвально, – поддержал его дед, – я тоже предпочитаю делу время, а потехе час.
– А все же: что это за лекарственное действие, что мы попробовали? – спросил осторожный Илюша.
– А это у кого как, – дед лукаво усмехнулся, – не всё зависит от моего снадобья, а еще и от того, с какими помыслами кто пьет. Сумма получается – из нашего и вашего.
– Ну, а Вы, что Вы вкладывали, какую эмоцию?
– Я его в прошлом месяце намял. Дождь лил, помню, а Марфутка печь истопила и картох изжарила со свежими помидорчиками. Я, помню, мну катышки-виноградинки, а у самого слюнки бегут, так аппетитно все благоухает, и тепло, и сухо. Оно, этот уют, особо замечается, когда непогода на дворе… Стало быть, на желудки должно подействовать да на здоровый быт.
– Ну, господа, пора домой! – объявил Олег, и пестрая компания, раскланиваясь, устремилась к выходу. Сам же глава мероприятия вознамерился задержаться.
– Ну, как, – сказал он деду, когда они остались один на один, – устраивает Вас мое предложение?
– Ты, Олёш, скажи мне на милость, зачем сюда газеты привез? Зачем мне вся эта церемония нужна? Ты что думаешь, меня рекламой подстегнуть можно иль боишься, что у тебя самого представительства для меня не хватит?
– Да ну, что Вы, я просто с благими намерениями, чтобы люди узнали. Все-таки средства массовой информации…
– А кому надобно и так узнают. У меня вон цепочка тянется не первый год.
– Народная реклама – это, конечно, хорошо, но ведь все-то не знают.
– А на всех-то, мил человек, я напитку не нагоню. Я тебе не ликероводочный завод. Что ты шумиху-то подымаешь? Думаешь, сейчас учеников за месячные курсы обучу, и будешь штамповать этикетки? Э, нет. Тут душу привить надобно, а не шарики катать. Мять-то виноградинки и медведь смогнет. А вот я, скольких людей перепробывал, только троих обучил. Сына старшого, что под Анной живет, да еще двоих из-под Липецка. Всё! У остальных или руки, как крюки, или в голове пусто, а до жадности густо. А бабы – так они вообще не то. Суетятся, как квочки, оно вроде быстро все получается, а вот душевные качества усвоиться не успевают. Виноделие – это чисто мужская профессия, баб виноград не понимает. Но это, правда, не говорит о том, что они ни на что не годны. Женщины, они, зато, руками лечить могут, что у нас с тобой получается, как у них с вином. Ну, ладно, Олёш, говори, да почестней, что ты надумал и что за человек твой – депутат?
– Мы, Терентий Ефимыч, – откашлялся Олег, – все в одной партии, и один – за всех и все – за одного.
– Тю? Как мушкетеры либо?
– Да, как мушкетеры, служащие своему королю.
– А король-то кто?
– Король – это господин Килькин, бывший инженер завода, депутат Думы теперь. В будущем, думаю, президентом будет. Вся элита за него.
– Господин Килькин говоришь? Постой, постой, а не его ли с алюминиевого за мелкое воровство в восемьдесят пятом выкинули и засадили на шесть лет?
– Нет, Терентий Ефимыч. Не его, а папашу его. А сын за отца не отвечает. Килькин, уж если сворует чего, то не по мелкому, причем, ворует у государства. А народу раздает, – Олег густо покраснел.
– Ага… Робин Гуд, значит. И чего ж он раздает?
– Ну, финики первого сентября в школе… Вот в газету, что сегодня у Вас была, ящик шампанского поставил.
– Хороший человек, стало быть, – призадумался дед. – И давно это у вас?
– Что? Финики?
– Да нет, дружба такая с королем-то?
– Да уже лет пять.
– И тебя, стало быть, тоже облагодетельствовал?
– Да. Он мне без процентов взаймы дает.
– Ясно. А чего он еще делает?
– За атмосферу борется. Атомную станцию хочет выкупить и разобрать, чтобы воздух не засоряли. Перестроить.
– Ага. Хорошо. Значит, печками и свечками будем обходиться? Против прогресса – за природу. Ладненько, Олёш, дальше пошли. И что у твоего Килькина за образование эдакое, что за перестройку берется? А то кое-кто кое-что уже перестроил, как бы и у Килькина что не так бы получилось…
– Да нет, Терентий Ефимович, он сам ничего такого не кончал, у него неполное высшее ветеринарное (потому и к Вашему делу неравнодушен). Но у него талантов много. Политических. И денег. А для перестройки станции с Запада наймет.
– Ага, понятно. Ну, а что ему от меня-то надо?
– Как что? – растерялся Олег. – Виноделия. Ну, если производства не получится пока, так он может у Вас систематически напитки покупать. За крупные суммы. Чтобы поправлять здоровье себе и своим политическим соратникам. Сколько запросите – столько даст. Без налогов, обещаю.
– Ага… – дед Терентий изучающе посмотрел через соболиную бровь. – А вот, Олёша, если, скажем, я возьму – и не соглашусь?
– Как? – опешил Олег.
– А вот так. Если мне, положим, не захочется твоих депутатов вином своим потчевать?
– А почему?
– А кто его, Олёш, знает. Вот не захочу – и все, душа не залежит.
Олег почему-то не был готов к такому повороту дельца. Он так был уверен в своей затее, что другого прямо так сразу и не предполагал. Вообще-то в подобных ситуациях он бывал и всегда знал, как подипломатичнее поторговаться, что сказать. В принципе, случай не нов. Но в Терентии он почувствовал такой несгибаемый стержень, просто кремень-мужик, что ни о каком мягком дипломатизме речи не могло быть. Олег тоже упрям, особенно, когда это касается его карьеры. Можно, конечно, плюнуть на всю эту дедову червивку и повернуть оглобли. Но нет! Здесь надо идти на принцип.
– Терентий Ефимович! – в голосе Олега зазвучал металл. – Вы, конечно, знаете, что официальные органы вправе требовать от каждого предпринимателя лицензию. Особенно, когда это касается спиртных напитков. Участились случаи отравлений, даже со смертельным исходом, от различных левых продуктов подобного рода. Я, как лицо заинтересованное в здоровье масс, могу, конечно, затормозить контролирующие службы. Но имею право и на противоположные действия. Так что, решайте, что Вам больше подходит: продавать нам свой нелицензированный товар и получать за это материальное вознаграждение, или, наоборот, выплачивать крупный штраф. К тому же, все Ваши виноградники будут подвергнуты уничтожению
В глазах Терентия блеснул холодный огонек и быстро погас.
– Хорошо, Олёша, – сказал он смиренно. – Я подумаю.
– Вот и чудесно, Терентий Ефимович! Я верю в Ваш здравый смысл.
…
– Господа, на этом наше заседание объявляю закрытым! Поблагодарим же господина Килькина за прекрасный доклад и друг друга – за активное участие в нашей достойной работе. А сейчас – милости просим всех в банкетный зал! – секретарь закончил, раздались аплодисменты и шум говорливой толпы, покидающей зрительские кресла.
– В зал! В банкетный зал! – у дверей перенаправляли людские потоки швейцары.
Банкетный зал (бывшая заводская столовая) был накрыт на шестьдесят персон , но так как здесь все было на халяву, желающих покушать оказалось в три раза больше. Официантки бегали туда-сюда с подносиками и взволнованно считали пирожки с бутербродами.
– Олег Борисович! На вызов! – позвал шеф-повар в свою каморку. Олег, на чьей ответственности держался весь съезд, окинул взглядом столовую, содрогнулся еще раз при виде налетающих на пирожки членов партии и не без удовольствия скрылся из помещения, только чтобы не видеть этого срамного нашествия.
– Стыд-то какой, Егорыч! – сокрушался он перед шеф-поваром. – Никогда не думал, что такие солидные люди сподобятся на такой бардак.
– Это, Олег, еще что! Вот я недавно для москвичей готовил…
Разговаривая, они зашли в кабинетик, где посреди пола стояла увесистая пластиковая бочка литров на сто.
– Егорыч, это что и откуда?
– Презент, – разулыбался Егорыч. – Тебе передали. А вот и записочка.
Олег развернул сложенный вчетверо листок: «Здравствуй, Олёша! Я обдумал хорошенько твое предложение и, наверное, соглашусь (если вы, конечно, не раздумаете). А пока отведайте вместе с делегатами вашего съезда божественный напиток из дальних погребов. Ваш Т.Е.».
– О! Дед Тереха одумался! – обрадовался Олег. – Правильно, а то кабы чего с его плантациями не получилось. А ну, Егорыч, давай чарки! Мы с тобой сейчас сливки снимем, а остальное на стол к нашим обезьянам выкатим. Пусть хлебают, а то народу много набежало, а водки мало.
– Водки всегда мало! – расплылся Егорыч в хомячиной улыбке и подставил два высоких бокала.
…
В зале стоял гам и визг. «Хорошо пошло дедово винишко». Олег уже еле держался на ногах.
– Егорыч, двинься, я тоже прилягу! – толкнул он шеф-повара, разлегшегося на целый диван. – Эй, Егорыч! Егорыч!
Егорыч не отвечал. Рот его был широко раскрыт, так что виднелся запавший к небу язык. Олег хотел вытащить из ящика зеркальце и понести его к губам, чтобы проверить, есть ли дыхание. Но вместо этого поднес свои руки к глазам: пальцы почему-то побелели, стали похожими на восковые, и их вдруг стало трудно согнуть. А потом руки повисли совсем от самых плечевых суставов. Что-то закружилось, пол поднялся и ударил Олега по голове. В глазах появилась черная сетка, а через несколько секунд погас свет. Какая-то незнакомая сила навалилась на грудь Олега, такая тяжелая, что больше невозможно было вздохнуть.
…
Дед Терентий явился, как проводник в мир иной.
– Ну, что, Олёш, как дела? О производстве еще заботишься?
Олег открыл непослушные глаза. Вокруг было все белое и какое-то утрированное, словно на все, что есть, наложили ретушь.
– Я уже умер? – прошептал он.
– Да пока нет, – ответил дед и поправил ему одеяло.
– А где все?
– Да здесь, неподалеку. Тоже отлеживаются. В себя приходят.
– Зачем ты нас отравил? Это же так жестоко… – подбородок Олега задрожал, а из глаз потекли обильные слезы.
– Да это не я вас, Олёша, а вы сами себя отравили. Помнишь высказывание древних: «Истина в вине»? Вот вы ее и получили.
– И что же нам теперь делать?
– А это, Олёш, что совесть подскажет.
– А я умру?
– А как же! Мы все когда-нибудь умрем.
…
«Странное психическое расстройство возникло у двухсот делегатов съезда партии господина Килькина. Причиной этого массового заболевания явилась, по-видимому, утечка газа, которую не обнаружили. Поражает однотипность симптомов: у подавляющего большинства наблюдалось снижение температуры тела и потеря сознания на три-десять дней. Выход из этого состояния был тоже одинаков: несмотря на, казалось бы, полное клиническое выздоровление, все, как один, пострадавшие испытывают неукротимую рвоту при упоминании в разговорах политической и коммерческой тематики.
Газета бывшего господина Килькина».
[Опечатка. Следует читать: «Бывшая газета господина Килькина». Нет. Лучше просто «Новая газета»].
Сучье вымя
… Лариска захлопнула дверь. «Опять эта чертова собака! Когда же, наконец, она подохнет. Надо попросить Николая Ивановича, чтобы застрелил ее».
Лариска прошла в комнату и села в кресло. Вокруг царил художественный беспорядок: постель не убрана, на сбитой простыни отпечаталась черная пятка, на полу – пара футболок, джинсы и дипломат с деловыми бумагами брата, частного предпринимателя по мелким торговым делам. Лариска вздохнула и принялась за уборку: джинсы ткнула в шкаф, на кровать постелила китайское покрывало (которое вытащила из-под кресла), деловые бумаги засунула поглубже в дипломат, а дипломат – поглубже под кровать. И пошла на кухню мыть вчерашнюю посуду.
– Ларисок! Открывай, это я! – раздался стук в полуголое окошко.
Снова пришел этот козел Женя. Как же он надоел!
– Чего тебе?
– Ларисок, я к тебе в гости, разговорчик есть.
Лариска открыла дверь. Козел-Женя, спотыкаясь о стоящую на пороге собаку, прошел в коридор.
– День добрый, красавица. Кофейку сообразишь?
– Ладно уж, – буркнула Лариска и поставила на огонь алюминиевую кастрюльку.
Пока она варила кофе, Козел-Женя с упоением разглядывал ее шикарный бюст, откровенно просвечивающийся через шелк восточного халата.
Грязная посуда быстро перекочевала со стола в раковину, а сам стол рука хозяйки привела в порядок роскошным махровым полотенцем (им обычно Лариска вытирала ноги), которое она затем вытряхнула в сторону и уложила на колени гостю, чтобы он не испачкал новые английские брюки.
– Вот что я хочу тебе предложить, – процедил между зубами пришелец. – Давай-ка, Лариска, мы с тобой того… соединимся нашими капиталами. Бабенка ты видная, задница круглая, сиськи большие… Гы-гы-гы… И хозяйка хорошая.
– Это ты мне, стало быть, предложение делаешь? – округлила Лариска глаза, вытирая руки о полотенце на коленях жениха.
– Ну да. Мне того… это самое… Спутница жизни требуется, во. Ребеночка родим. А то для кого я хоромы строю?
Лариска задумалась. Домик у Козла-Жени ничего. Ради такого можно и не то еще вытерпеть.
– Отчего бы и нет? Я согласна.
– Ну, тогда готовь документы, назавтра заявление подадим. Ладно, я пошел. Привет Алексею.
«Хорошая новостишка, – задумчиво стояла Лариска у окошка, глядя вслед уходящему Козлу-Жене. – Теперь бы еще братца поудачнее пристроить».
В коридоре что-то звякнуло. Вздрогнув, Лариска выпустила из рук занавеску.
– Ах, скотина, вот я тебе сейчас покажу! – Лариска метнулась за веником, но соседский кот Атас с куском колбасы успел выпорхнуть в форточку. – А ты что стоишь, дебильная морда? И зачем я тебя завела? Когда ж ты подохнешь?
Все та же собака молча стояла у двери, и ее тупая физиономия смотрела все так же мимо. Лариска пнула ее ногой и захлопнула дверь. Когда пришел брат, бедная молодая женщина была уже вне себя.
– Алеш, пристрели ее. Глаза б мои на нее не смотрели. Ведь, тварь такая. Больше месяца ничего не жрет, только воду хлыщет, а никак не помрет.
Эту собаку они завели совсем недавно. Старый пес Макс был уже совсем плох, и Николай Иванович за пузырь бормотухи его пристрелил. А дом-то свой, сторож-то нужен. Вот у этого же Николая Ивановича овчарка ощенилась ублюдками, одного из них Лариска и Алеша забрали себе. Самую толстую, самую красивую сучку. Решили с ветеринаром: как подрастет, он трубы ей перережет, чтоб не рожала, и все. А то, что дефективная она, не заметили. Так, вроде что-то странное было – хвост не подымала и по темным углам пряталась. А потом заразу подцепила. Неделю рвала и поносила кровью, ветеринар отхаживал. Вроде ничего стала, только не ест. Ветеринар сказал, что если так дальше будет, то дней через пять издохнет. А оно уже полтора месяца тянется – и ни тпру, ни ну. Вся высохла, шерстяка клоками висит. Да еще недавно обнаружилось, что она глухонемая от рождения. Вот сторож-то, зашибись! И, главное, рука не подымается прихлопнуть.
После ужина брат пошел за Николай Иванычем. Договорились часов на десять вечера. Вот пришло время, постучал Николай Иваныч, брат пошел с ним на дело. Во дворе раздался выстрел. Лариска закрыла уши и глаза. Через минуту Алексей вернулся.
– Готово, – сказал он и снял с себя резиновые перчатки. – Микола ее с маху одного – и наповал. Лорк, доставай самогону.
– Так он уже на столе, не видишь что ль.
– Ну, за упокой души. Пусть земля ей будет пухом! – Алексей жахнул полстакана самогонки и перекрестился. – О, а это чё?
На столе выросла еще бутылка шампанского.
– Еще есть повод, – Лариска поставила к шампанскому два хрустальных бокала со следами помады на краешках. – Замуж я выхожу.
– О! За кого?
– Да за Козла.
– О, это пацан крутой. Давай пузырь!
Пробка пулей вылетела в потолок.
– А-ай! – взвизгнула Лариска и оглядела облитое декольте. Шампанское намочило тонкую ткань, и халатик сделался сверху полупрозрачным.
– А классные у тебя сиськи, сестренка, – оскалился Алексей и похлопал ее по груди. – Где ж мне такую женщину найтить: одну б сиську я б под голову положил, а другой бы накрылси.
– Уди, дурак! – пыхнула Лариска. – Это все, что у меня осталось для благоверного.
– Так я ж… – Алексей застыл на месте и выпучил глаза. Лариска последовала за его взглядом своим: на пороге стояла все та же собака. Правда, перепачкалась кровью, а все остальное, как было: безмолвный взор, даже без укоризны, опущенный хвост и клочья шерсти.
– Либо с того свету… Я аж вспотел. Ну, что, опять за Миколой нестись? Иль сами?
– С-сами, – икая, выдавила из себя сестра.
Алексей взял в кладовой топор, схватил собаку за шкурку и поволок во двор. Та даже и не сопротивлялась и послушно заковыляла на эшафот.
– Зарубил? – спросила Лариска, когда тот вернулся с окровавленным топором.
– Ага, пусть крови стекут, а утром закопаем. Так, значит, замуж выходить будешь?
– Надо, Алеш, надо. Сколько можно чужих мужиков на себя примерять? Мне уже тридцать пять. Детей пока рожать не поздно. А у Козла дом – полная чаша, только за чистотой следи, а уж я это умею. И люблю. С утра до вечера только и знаю, что пылинки да соринки собираю. А уж было б у меня, как у людей, так и вовсе б все блестело. Давай еще шампанского?
– Угу. С самогончиком. Э-эх! Сладкая отрава-то! А ну, еще налей, а то не распробовал и салатику положь. Во! Эй, Лорк, а чегой-то ты музыку зажала? Давай-ка ту, что Тамарка принесла. Да не, Тамарка, ну та, Иванова подруга, что кудлатая. Во-во, ставь ее.
Магнитофон зашипел динамиками, и кухня наполнилась дующими звуками.
– Эй, Лариска! Давай потанцуем! – Алексей взял сестру под локоток и повел на середину комнаты.
Две допитые бутылки уже собрали вокруг себя несколько мошек. Магнитофон охрип и еле пиликал. Лариска сидела напротив брата и без умолку продолжала говорить о своей будущей замужней жизни. Алексей, откинувшись на спинку стула, одной рукой теребил стакан, а другая висела почти до пола.
– … две комнаты наверху – для твоих детей. Ты войдешь к нему в доверие, ему захочется иметь в своем доме еще одного мужика, иначе он от меня с ума сойдет… Да еще и дочка наша… Ну, я рожу дочку. Дочку! Сына не хочу – я плохой свекровью буду, ревновать к невестке начну. Да, Алеша! Алеш? Ты не слушаешь меня?
1
Гипертрофия – увеличение в данном случае.
2
Анамнез – история болезни, история жизни больного.
3
Аутизм – психическая отгороженность.
4
Инцест – скрещивание близких родственников.
5
Катамнез – сведения о состоянии больного после лечения через некоторое время (месяц, полгода, год, и т.д.)
6
Пубертатный период – период полового созревания.