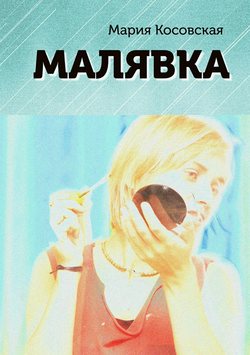Читать книгу Малявка - Мария Геннадьевна Косовская - Страница 1
ОглавлениеДворовые
– Вали отсюда, придурок! – разнесся по двору эхом хрипловато-истерический женский голос.
У двадцать первого дома уже месяц не горели фонари. Как всегда, там кто-то бухал, но теперь, из темноты, брань, звон бьющегося стекла и крики производили на округу еще более удручающее впечатление, чем обычно.
Саша боязливо оглянулась. Она узнала по голосу Верку Плотникову. В прошлую среду Плотникова, Шнырева и Кириллина пристали к ней на карьере, когда Саша шла с велосипедом к железнодорожной насыпи. Они окружили ее, и Шнырева ударила ногой по спицам переднего колеса. Сашка выронила велосипед в грязь. Потом Плотникова долго трясла Сашку за грудки и спрашивала:
– Кто ты такая? А? Я у тебя спрашиваю, мразь! Кто ты такая?
Уже после, ведя искореженный велик вдоль железной дороги, Сашка убеждала себя, что нелепо было бы отвечать «я – Саша» или «я – человек», говорить нужно было на их языке, нагло и грубо, поэтому и молчала, цепенея от ужаса.
Эти «лярвы», как называли их на районе, прикапывались к ней давно, класса с восьмого. Если Сашке приходилось идти мимо (обычно она старалась этого избежать), они орали вслед «коза драная», «ботанка задроченная» и еще кто-то там. И, разумеется, громко ржали своим прокуренными, развратными голосами.
– Че, может, по домам? – спросила Саша, глядя на Пашку Бергера. Они жили в одном подъезде, и Сашка знала, что он тайно влюблен в нее, хотя ни для кого это, конечно, тайной не было.
– Давайте еще партию в козла, – предложил Ромка Белый. – На раздевание, а, Сашок?
– Да пошел ты! Озабоченный, – Сашка раздраженно скривилась, она терпеть не могла, когда Ромка начинал эти свои пошленькие приемчики. – Вон, Еремина раздевай.
– А че я-то? Я че, крайний? – Женька Еремин поднял брови, отчего его большие прозрачные уши зашевелились.
Сашка посмотрела на круглое лицо с маленькими и тоже круглыми глазами и засмеялась.
– Ну ты и олененок, Еремин!
Сашке не хотелось идти домой. Мать и отец, судя по окнам, еще не спали. В зале работал телевизор, и его фиолетовое мерцание окрашивало тюль в космические тона. В спальне горел свет. Сестры, Анюта и Танюшка, наверное, уже уснули, а родители опять ругаются. Вернее, мать допрашивает, а отец, пьяный, лежит на диване и безразлично смотрит в телевизор. Когда он уставал от нудных маминых вопросов, то грубо обрывал ее: «Заткнись! Не твое дело!» И мама шла плакать на кухню, пила валерианку или чего покрепче, пустырник или валокордин, и, опухшая от слез, вымотанная истерикой, ложилась спать. Так было почти каждый день. Сашка это все наизусть знала. Она не переносила маминых слез. Иногда Сашка пыталась заступаться за мать, что-то сбивчиво и страстно объясняла отцу, он отмахивался: «Отвали, малявка! Не твоего ума дело». Тогда они плакали обе, сидя на кухне или в детской. Младшие тоже начинали ныть, Анюта хватала маму за руки, а Танюшка лезла на колени, хотя и была уже дылдой восьми лет. Саша много раз уговаривала мать развестись, но та только плакала, кивала, а на следующую ночь опять шла разыскивать отца по квартирам, где пили водку и играли в преферанс.
– Ладно, давайте еще партейку. Сдавай! – Сашка пододвинула колоду Ромке. – Только без раздевания.
– Давай хоть на желание. Че как маленькие?
– Ой, ой, ой! Кто-то уже вырос! – Сашка презрительно оглядела его с головы до ширинки. Она это умела – смотреть презрительно.
– Могу доказать! – он придвинулся к Сашке и потянулся рукой к ее груди.
– Ну-ну! – Пашка несильно толкнул Ромку в плечо. И Ромка смирился.
В их дворовой компании Пашка был главным, хотя и самым маленьким по росту. Где-то в седьмом классе он перестал расти, каких-то гормонов не хватало его организму. И теперь, к одиннадцатому классу, он был ниже Сашки, хотя ее считали малявкой, – чуть выше метра пятьдесят.
Пашка страшно стеснялся своего физического недостатка, и даже нахальный Ромка никогда не решался шутить на этот счет, понимал – обида будет смертельной.
Зато у Пашки был нормальный отец, каким можно гордиться. У Ромки отца не было, а его мать, еще молодая и красивая, водила в квартиру мужиков, которые поили ее шампанским, ликером «Амаретто» и воспитывали Ромку. Он этого не любил, хлопал дверью и уходил на сутки или двое, за что мать его наказывала, но никогда не могла на своем наказании настоять, забывала и отпускала гулять – лишь бы не мешался.
Ромка был красивым, в мать. Белым его прозвали за светло-пепельные волосы, брови и ресницы. Был он хоть и альбинос, но не из болезненных, с красными глазами и бледной кожей, а наоборот, загорелый и мускулисто-поджарый.
У Женьки Еремина все нормально было и с отцом, и с матерью, но он никогда не рассказывал о семье, не водил к себе никого в гости и вообще был стеснительный и скрытный. Долговязый, лопоухий, с большой головой, Женька рассказывал несмешные анекдоты и на спор шевелил ушами.
Ромка начал сдавать карты. Из темноты вальяжной, самоуверенной походочкой к их столу под фонарем шел парень. Подойдя, он одернул свою модную джинсовую куртку, откинул с лица длинную челку и по-свойски пожал руки всем – естественно, кроме Саши.
– Здорово, пацаны!
– Здорово!
– Здорово!
– Здрасьте! – Саша тоже протянула руку. В книжке по этикету она читала, что мужчина обязан пожать руку женщине, если она сама ее протягивает. Парень удивленно поднял густые брови, улыбнулся своими лучистыми глазами и насмешливо потряс ее руку за кончики пальцев. На Сашу пахнуло ванилью.
– Денис, – представился он.
– Александра, – она постаралась как можно изысканнее склонить голову набок, как французская фрейлина из романа «Анжелика».
– С гулянок? – спросил Ромка, приглаживая свои белые, даже чуть синеватые в свете фонаря, волосы. Денис кивнул, и всем остальным стало неловко от того, что они, как маленькие, тусуются возле дома, играют в «дурака», когда там, в центре города кипит какая-то неизвестная, но страшно интересная взрослая жизнь, о которой Денис даже рассказывать им не хочет.
– А ты че, рэпер что ль? – нагло спросила его Сашка.
– Почему? – добродушно усмехнулся Денис и посмотрел на нее с таким выражением, будто хотел сказать «да ладно тебе, я хороший».
– У тебя джинсы на два размера больше.
– Такой фасон, – он пожал плечами. – Посмотри бирку – какой размер? – он приподнял куртку и развернулся вполоборота. Саша увидела красивую спину, переходящую в ягодицы, и даже слегка задохнулась. Она покраснела, отвела глаза и забормотала:
– Это хорошо, что не рэпер. А то у нас тут металлисты… Рэперов бьют… И наоборот… Война и все такое…
– Мне пофигу. Я не воюю. Мэйк лав, нот вор.
– Чего? – переспросил Ромка.
– Я говорю, занимайтесь любовью, а не войной.
– А, точно! Я тоже за это, – Ромка засмеялся. И все засмеялись, каждый про себя думая, что никогда еще не занимался никакой любовью, и неизвестно, когда это произойдет. А Сашка даже подумала, что хорошо бы первый раз у нее было с Денисом, потому что она, кажется, влюбилась в него. По-настоящему, а не так, как до этого в Сизого, в Вадика Щербакова, в Сашку Назарова. С теми она встречалась просто от скуки. Они ей совсем были безразличны. С ними и поговорить было не о чем. А Денис… И в области сердца у Саши сладко и нежно заныло.
– Ну ладно, пошел я, – сказал он.
– Давай! – ребята опять пожали ему руку.
– Александра, – Денис с улыбочкой сжал Саше пальцы, улыбнулся и блатной походкой направился к их дому.
– Он че, в нашем подъезде живет? – не сдерживая радости, спросила Саша.
– Месяц как переехали, – сказал Пашка Бергер, чуть привставая на цыпочки, чтобы стряхнуть с Сашкиной головы жука-пожарника.
– Они с этого, как его, с Сахалина. У него батя там работал. Большую деньгу зашибал, – мечтательно сказал Ромка.
– Купили квартиру бабки Тони, – объяснил Пашка, протягивая руку и стараясь пригладить волосы на голове Сашки. – Та ж умерла.
– Напротив тебя что ль живут? – Саша, машинально увернувшись от него, посмотрела с таким восторгом, что Пашка нахмурился.
– Ну да. А че?
– Да не, ниче. Удивилась просто. Мы в карты-то будем играть?
Ромка снова начал сдавать. Со стороны школы послышался топот.
– Опять что ль металлисты? – спросил Женька и от испуга так наморщил лоб, что его уши шевельнулись.
– Один человек, вроде, – сказал Пашка.
Из-за дома появился лысый, небритый мужчина в грязной одежде. Искаженное злостью лицо его заплыло от синяков и о пьянства. В руках он держал что-то длинное.
– Обрез! – закричал Ромка. И мужик сразу же направил ствол на них.
– Стоять! – заорал он. – Суки! Стоять на месте!
Ребята замерли. Саша чувствовала, как кровь отхлынула от ее лица и тело похолодело, будто жизненная сила вжалась в позвоночник. Пьяные глаза мужика дико шарили по ним около минуты. Обрез угрожающе покачивался в вытянутой руке. Саша, напрягши все душеные силы так, что к горлу подкатила тошнота, старалась сделать их невидимыми, незаметными для сумасшедшего мужика. Кажется, это получилось, он опустил обрез и резко, будто выплюнул изо рта сгусток крови, спросил:
– Где они?
– Мы не знаем, – виновато, сорвавшись на какой-то почти писк, сказал Женька и опустил глаза.
– Где, я спрашиваю, эти суки? – заорал мужик.
– Туда побежали, – показал Ромка в сторону Северного.
Мужик медленно, как Терминатор, положил обрез на плечо и пошел в указанную сторону. Ребята с облегчением переглянулись, но мужик будто почувствовал, обернулся и с каким-то диким, звериным рыком потряс над головой оружием. Но это не было обращено лично к ним, угроза относилась вообще ко всему в целом. Потом мужик устало ссутулился и побрел в темноту, в которой вскоре полностью растворился. Ребята не двигались. И тут Ромка громко заржал.
– Это нервное, – сказала Саша. – Я про такое читала.
Ромка Белый, вытирая слезы, закашлялся и, показывая в темноту пальцем, давясь словами, пытался выговорить:
– Вы ви… Нет, вы ви… видели… это… этого упыря… Это же… реально вурдалак был…
– Ты как? – спросил Пашка, обращаясь к Сашке.
– На меня еще никогда оружие не направляли, – ответила она. – Страшно.
– Пойдемте-ка домой, – благоразумно предложил Пашка. – Кто его знает – еще вернется…
Они попрощались и разошлись по своим подъездам: Ромка – в пятый, Женек – в четвертый, а Сашка и Пашка Бергер – в третий. На первом этаже Пашка чуть задержался, глядя, как перескакивает через ступеньки Сашка, как подпрыгивает легкий плиссированный подол ее юбки, вздохнул и вошел в незапертую специально для него дверь.
Подруга
– Слышала, Плотникова Антоновскую избила, – сказала Ленка Доронина, извлекая из-под кухонного стола табуретку с дерматиновым сиденьем.
– Ого! Когда? – спросила Сашка.
– На прошлой дискотеке в «Ручейке», – табуретка как-то вывернулась из рук и упала Ленке на ногу. Она выругалась.
– Больно? – Сашка с сочувствием посмотрела под стол.
– Нормально, – Доронина, потирая ступню, вдарила по табуретке кулаком. – У, скотиняка!
На плите начал подсвистывать чайник.
– А Ващенко че, даже не заступилась? – Саша ковырнула алюминиевой вилкой от куска нуги с карамелью, который лежал в большом эмалированном тазу.
– Че она, дура что ли, за Антоновскую впрягаться?
Свист чайника набрал силу.
– Да заткнись ты! – Ленка раздраженно выкрутила конфорку, и чайник замолчал. Она двигалась размашисто, как бы давая понять, кто здесь главный. Ленка разлила в разнокалиберные кружки заварку, затем кипяток, так что на Сашку попала пара горячих капель, и сама плюхнулась на табуретку.
– Они же подруги, – морщась и потирая руку, сказала Сашка.
– Здоровье дороже, – Ленка ловко отковыряла и положила в рот большой кусок нуги и, не переставая жевать, спросила: – Ты знаешь эту, как ее, Полякову?
– На год нас старше?
– Ага. Помнишь, в том году ее в реанимацию из школы отвезли? Это ее Плотникова избила. За волосы об унитаз.
– Ужас! И что, Плотниковой ничего не было?
– А че ей будет?
Саша сидела хмурая и задумчивая.
– Ну а Антоновская чем Плотниковой помешала? – через некоторое время спросила она.
– Какого-то парня отбила.
– У Плотниковой?
– Да не! Ты че! За это ее бы убили. У другой какой-то девки, которая с Плотниковой дружит.
– Ясно. На эти дискотеки лучше не ходить.
– Да ладно тебе, не боись! – Ленка улыбнулась. – Ты же со мной.
– Ой, а то ты прям сила.
– А то! – и она как-то плотоядно улыбнулась.
Подруги не виделись все лето. На каникулах Ленка жила на другом конце города у бабушки в маленьком, кривом, просевшем бараке. За железной дорогой сохранились две улицы таких домиков, огороженных собранными из чего попало заборами. Там бегали куры, брехали собаки, мычали коровы и хрюкали поросята. Это был кусочек другой, немного деревенской, по-барачному неряшливой жизни. Район так и называли – бараки. Там Ленка тусовалась со взрослыми подругами, которые жирно обводили черным карандашом глаза, начесывали высветленные до желтизны волосы плотным шаром, носили косухи в заклепках и терпеть не могли Сашку. Поэтому летом Доронина с Сашкой не дружила, да и неудобно было дружить через весь город.
Ленка Доронина громко и быстро выхлебала чай и встала, чтобы налить новый. Была она широка в кости, с полными бедрами, но тонкая в талии, а ее шея переходила прямо в плечи так, что почти не было никаких углов. «Наверное, это и называется «покатые», – думала Сашка, рассматривая Ленкину фигуру. Если самой себе Саша казалась похожей на вешалку, то Ленка Доронина напоминала бутылку с вином «Молоко любимой женщины». Она даже походила с распущенными волосами на Деву Марию с этикетки. Темно-русые, слегка вьющиеся, они, как покрывало, обрамляли овальное Ленкино лицо с маленьким носиком, веснушками и карими глазами.
– Скажи, а если Плотникова меня будет бить, заступишься? – Сашка еще не до конца растопила в себе обиду за то, что Ленка за лето ни разу не позвонила.
– Че я, дура что ль? – по-простецки сказала Ленка. Саша горько вздохнула и набила рот нугой.
– Слушай, – сказала она, когда удалось разлепить рот. – А ты не боишься, что эту нугу с карамелью не просто так выкинули? Может, они радиоактивные.
– Кто ж знает! – флегматично сказала Ленка. – Говорят, сбой в производстве. Моя мать два рюкзака приперла. Вот скотиняка ломовая!
– А откуда их прут-то?
– Из Ступино. Там на свалке две кучи: в одной – «Сникерс», в другой – «Марс».
– И не охраняется?
– Даже с собаками! Но кого ж это остановит? Да че ты все спрашиваешь? Сама съезди и посмотри.
– Мать запретила.
Они молча допили чай, Ленка начала мыть посуду, а Сашка ерзала на неудобной табуретке и набиралась решимости заговорить о Денисе.
– Ты че, летом у этого, у грека работала? У дяди Георгиса? – спросила Ленка. – Видела тебя на рынке пару раз.
– Чего не подошла?
– Да как-то некогда было, – Ленка сделала вид, что не понимает Сашкиной обиды. – Ну и че, много заработала?
– Не напоминай!
– Ты ж масло растительное продавала?
– Ага.
– И мало заработала?
– Ну так… Не очень…
– Сколько?
– Сто пятьдесят тысяч.
– Мало, – Ленка удовлетворенно отвернулась.
– Только неделю работала.
– Не понравилось?
– Ну, как сказать, – Саша, ссутулившись, стала отковыривать от стола декоративную боковую полоску. – Дядя Георгис меня изнасиловать пытался.
– Да ты что?! – Ленка села на табурет и вперилась в Сашку. – Стол-то мне только не порти.
– Никому, ладно? – Сашка спрятала руки между колен.
– Блин буду!
Ленка требовательно, с ожиданием смотрела на Сашку, слегка приоткрыв маленький рот. Сашка молчала.
– Рассказывай.
– Че рассказывать-то? – Сашка вздохнула и потерла руками лицо. – Ой! Я же накрашена. Размазала?
– Ты мне зубы-то не заговаривай. Сказала гоп, давай прыгай.
Сашка посмотрела на Ленку с выражением муки на лице, под обоими глазами синели темные пятна туши.
– Мне Армен гирей в голову попал, – начала она.
– Как гирей в голову? – перебила Ленка.
– Я наклонилась масло наливать, а они гирю на два килограмма друг другу перебрасывали. Гиви с Арменом.
– Зачем?
– Ну, у них одна на двоих была, – нетерпеливо пояснила Сашка. – Мне кожу на лбу рассекло. Кровь потекла. А дядя Георгис приехал товар забирать. Я тебя, говорит, до дома должен довезти, у тебя производственная травма.
– А Гиви с Арменом че? Их же за это под суд!
– Гиви с Арменом фруктов мне надарили, арбуз дали. И дядя Георгис меня повез, значит. Возле дома высаживает и говорит: «Я тебе премию за геройство хочу выписать. Только ты ко мне за ней вечером приди». Я и пошла.
– И че, даже не догадалась?
– О чем? Ты же знаешь, как у нас с деньгами.
– Ну и дальше-то что?
– Прихожу к нему. У него дом свой на Новой улице.
– И че? Че? – Ленке не терпелось.
– Стол накрыт. Дядя Георгис шампусик открыл, угощайся, говорит. Я выпила – рюмку одну, конфетой заела. «Рафаэлло» – мои любимые. А он спрашивает: «Сколько тебе надо?» Я говорю, не знаю, сколько дадите. А он – зависит от тебя. И ширинку расстегивает.
– Афигеть! И че?
– Я – бежать. Дверь заперта. Давай вокруг стола бегать. Он за мной. Я тебя поймаю, говорит, моя козочка. А у самого елда красная из штанов торчит.
– Че, большая?
– Огромная!
– Ужас! Ну и че?
– Он стол к стене придвинул, поймал меня, на кровать бросил. Сам сверху навалился, и вдруг как-то задергался, глаза закатились, и слюна изо рта потекла. Прямо мне на лицо.
– Кошмар!
– Скорую, хрипит, вызови. Я его столкнула, ключ у него из кармана вытащила и сбежала. Пока бежала, думала, вызывать скорую или не вызывать.
– И че?
– Вызвала, – Сашка опустила глаза.
– Фуф! Вот ужас! Ну а че с ним-то?
– Да кто его знает. Приступ, может, сердечный. Откачали. Видела на рынке. Какой он мерзкий! Жирный! Губы вывернутые, вечно слюнявые. Ненавижу!
– Тебя прям бог уберег, – сказала Ленка слегка дрожащим голосом.
– Я в бога не верю, но знаешь, мне кажется, есть какая-то сила, которая меня оберегает. Просто мне такое унижение не пережить, понимаешь? Если бы это случилось, я бы…
– Матери не рассказывала? – перебила Ленка.
–Не. Ты че! Она с ума сойдет.
Ленка встала, решившись что-то сделать, но задела под столом ногой бутылку с черной жидкостью. Густая жижа начала вытекать на пол, завоняло керосином.
– Мать убьет, – испугалась Ленка. Схватив с раковины серую тряпку, она подняла бутылку и усердно начала затирать пятно. Сашка молчала и пялилась по сторонам, разглядывая кухню.
Жили Доронины плохо, даже хуже, чем Сашкина семья. Ленкина мать зачем-то собирала в квартире всякий хлам. Везде стояли и лежали разные предметы: банки, чашки, пустые или чем-то заполненные бутылки, старые перечницы, солонки, кастрюли, плошки, тазы. В дырки между предметами были распиханы целлофановые пакеты, несколько штук сушилось на веревке, растянутой через кухню. На полу стояли ведра, бидоны, пыльные картонные коробки, старый поломанный пылесос. Все на кухне было покрыто грязно-коричневым, липким слоем. Сейчас Саша снова все это заметила, и ей захотелось уйти отсюда на улицу, на свежий воздух. И она решилась начать нужный ей разговор:
– Ты знаешь Дениса Жигулина, который переехал в наш дом?
– Кто же его не знает? Красавчик.
– Тебе он нравится?
– Мне – нет, у меня же есть парень – Леха Блатной.
– Ничего себе! Че же ты молчала? – подавляя сожаление, спросила Сашка. – Ну и как? Уже целовались?
– И не только, – Ленка жеманно улыбнулась. – Он мне целку порвал.
– Правда?! – спросила Саша, понимая, что после такого признания вернуть разговор к Денису будет сложно.
– Ага.
– Ну и как?
– Да как-как, нормально.
– Ну ты даешь! Я даже целоваться еще не умею. А ты уже – женщина. Больно было?
– Да так. Нормально.
– Че ты все «нормально» да «нормально»! Терпеть не могу это слово. Это все равно, что вообще ничего не сказать.
– Ну а если нормально было, че я еще скажу?
– Ладно, – Сашка примирительно вздохнула. – Ну и че теперь?
– Женится на мне! – Ленка встала и по-хозяйски швырнула грязную тряпку в переполненное мусорное ведро под раковиной. – А пока ходим.
– Ааа, – Сашка сделала вид, что ей все понятно.
– Он раньше со Светкой Моисеевой ходил, но она ему не давала. Вот он ее и бросил. Кстати, с ней теперь Денис ходит.
– С Моисеевой? – от этой новости у Сашки что-то задрожало внутри. – Она красивая.
– Ну и что, что красивая. Никому не дает. И Денис ее скоро бросит. Че ему канителиться? На него, говорят, целый список желающих.
Целый список. Саша, осознавая несбыточность своих мечтаний, тоскливо отковырнула ореховой нуги.
– А ты Блатного любишь? – меланхолично спросила она.
– Фиг знает. Вроде люблю.
– А он тебя?
– Он меня любит! – Ленка вздохнула, сладкая улыбочка появилась на ее лице, и она уставилась куда-то в окно, повыше выставленных на подоконнике майонезных банок с луковицами. Раздался резкий скрежет ключа в замке, затем нетерпеливая повторяющаяся трель звонка.
– Мать пришла, – встрепенулась Ленка и кинулась открывать так поспешно, что ее неустойчивая табуретка грохнулась на пол.
– Да возьми ты сумки, корова! – послышался из коридора голос Ленкиной матери. Тетя Рая показалась в коридоре.
– А, гости, – одергивая старомодный бархатный пиджачок и глядя мимо Сашки, недовольно сказала она.
– Здравствуйте!
– Здрасти-здрасти, – тетя Рая скрылась в комнате. Ленка тащила в кухню две набитых продуктовых сумки. Саша встала. Пора было уходить.
Сашка не любила тетю Раю, грубую и скандальную женщину. Была какая-то история между ней и отцом Саши, еще когда тот был директором завода. Вроде бы он уволил ее за сплетни или за потасовку, Саша точно не знала. Отец не терпел даже упоминаний о Ленке и ее матери. Но Саша дружила с Леной, и других подруг у нее не было.
– Я пойду, – сказала Саша.
– Погоди. Она при тебе не так ругается.
– Почему?
– Стесняется. Ты же из интеллигентной семьи.
Сашка села обратно на табурет, взяла алюминиевую вилку и с тоской посмотрела на гору нуги с карамелью.
– Ты пол мыла? – послышалось из комнаты.
– Да! – крикнула с кухни Ленка.
– Иди, посмотри, как ты мыла! Жопа с ручками! Не мыла – так и скажи.
– Да мыла я! – Ленка раздраженно кинула на стол вытащенный из продуктовой сумки батон и бросилась в комнату на разборки.
– Где ты мыла? – кричала тетя Рая. – Носом тебя в эту пыль ткнуть? Как кота в дерьмо? Шлындала опять где-нибудь весь день! Шалава малолетняя.
– На себя посмотри!
– Ты на мать голос не поднимай. А то плюну и разотру.
– Ты на пол лучше плюнь и разотри! Ты же обычно так и моешь!
– Что? Ах ты мразь желторотая! Ну, получишь ты у меня сапоги на зиму! Будешь голая в школу ходить!
Ленка смолчала. То ли испугалась угрозы, то ли придумывала контраргумент. Саше хотелось исчезнуть, испариться, дематериализоваться и появиться сразу в подъезде. Жаль, что еще не изобрели телепортатор. В своем воображении Саша уже не раз пользовалась им.
В комнате продолжалось препирательство.
– И пыль не вытирала!
– Да вытирала я, – в Ленкином голосе было отчаяние.
– Опять врешь! Я же вижу! Глаза у меня еще видят, слава богу.
– Не вру я.
– Суп сварила? Отец скоро придет, а жрать нечего.
– Сварила.
Тетя Рая, одетая в синий прямой халат, шла на кухню, за ней семенила Ленка. Лицо тети Раи было усталым и злым. Некрасивое, с высоким от залысины лбом, длинным заостренным носом, кожистыми складками век без ресниц и совершенно выщипанными, а затем нарисованными карандашом бровями. Милое Ленкино личико, даже в красных пятнах от скандала, рядом с ним казалось невероятно красивым, и трудно было поверить, что тетя Рая – Ленкина мать.
Сашка встала, желая протиснуться в коридор. Твердокаменная тетя Рая стояла на пути, как гора.
– Разрешите, – пискнула Саша.
Тетя Рая отодвинулась, не взглянув на Сашу.
– Подруг водишь, – продолжала она ругать дочь. – А просьбы матери родной выполнить не можешь! Так ты, значит, мразь неблагодарная, ко мне поворачиваешься? Жопой своей мне в нос тыкаешь? Я тебе тыкну! Я тебе тыкну! – и она ткнула Ленке в лицо большую огрубевшую фигу.
Сашка обувалась. Ленка громко шептала, не особо таясь:
– Как с цепи сорвалась.
– Может, из-за меня?
– Кто ее знает… – у Ленки на глазах были слезы. Саша обняла ее.
– Держись.
– Да ладно. Привыкла.
– Ну, пока, – Сашка вышла в подъезд, в который раз прочла рядом с дверью в Ленкину квартиру надпись «Ленка – честная давалка», затем, под гнутыми, черными от гари почтовыми ящиками скользнула взглядом по объявлению «Даю в рот и по морде» с подписью «доброжелатель» и вышла на улицу.
Дежурство
Сашка размазывала шваброй воду по полу и думала, зачем было застилать пол в школе таким дурацким линолеумом? Весь 10-й «А» каждую среду после уроков драил его щетками, губками, чистящими порошками, но через неделю он опять становился серым от въевшейся грязи. Все из-за этих противных выщерблинок в форме маленьких червей. Как будто опарышей вывалили на еще жидкий линолеум и оставили подыхать, чтобы остались эти художественные узоры в виде отпечатков их тел.
Потом Саша подумала о своем одиночестве. Почему-то ей никак не удавалось прибиться ни к одной из школьных группировок, которые хоть и не дружили между собой, но соблюдали какую-то негласную иерархию. Никто не трогал друг друга без повода и приставали только к тем, кто слабей.
Если бы Сашка смогла примкнуть хотя бы к какой-нибудь группе, ей не приходилось бы ходить в столовую по второму и третьему этажу. Крутые чувихи тусовались на первом, напротив входа в школу, и чмырили всех, кто им не нравился. Особенно на большой перемене, на которую приходился обед. После четвертого и пятого уроков никого уже не было, но Сашка на всякий случай сначала выглядывала с лестницы, и если было свободно – быстро шла по коридору к раздевалке. Если же было три урока, как в прошлой четверти по средам, когда отменили физику, ей приходилось ждать или как-то просачиваться, прячась за спины. Не то чтобы Сашка была трусихой, ей просто не хотелось нарываться, ведь на унижение придется реагировать, что-то делать. Ей было очевидно, что в драке она не победит. Остается бежать и прятаться.
Сашка стала думать про яблоневый сад, который был за школой. Она обожала Городенцы. Когда ей было семь, она испытала в саду одно необычное состояние, которое часто потом пыталась в себе вызвать. В своем уме Сашка видела это так: она идет по протоптанной в густой зеленой траве тропинке, смотрит под ноги и зачем-то спрашивает у самой себя: «Что такое бесконечность? Как это понять?» Она поднимает глаза и видит рядом с собой яблони, а за ними еще и еще. И ее восприятие как бы расширяется во все стороны, сначала насколько хватит глаз, а потом дальше. И вот она вмещает в себя весь мир, который оказывается бесконечным яблоневым садом. И это внутри нее – гомон из стрекота кузнечиков, гула самолетов, щебетания трясогузок и отдаленных, едва слышных голосов людей. Внутри нее этот свежий, душистый ветер. Внутри нее щекочущее копошение всех живых существ.
Да, она часто вспоминала тот момент, пыталась пережить его снова. Но такой отчетливости не удавалось достичь, а может это было уже и не нужно, потому что само знание о слитности ее с миром как-то постепенно затерлось волнениями и перипетиями сложной подростковой жизни.
Сашка подумала про свою яблоню, которую звала Зеброй за полосатый от старости, разветвленный, удобный для сидения в развилке, ствол. Теперь на ней, наверное, созрели яблоки. Яблоня была поздней. Сашка вспомнила, что давно не навещала ее. Раньше она каждый день после уроков сидела на ветке, в темно-зеленой восковой листве и подслушивала разговоры прохожих (прямо под яблоней шла тропинка). А еще раньше, классе в пятом, когда Сашка пересказала всем дворовым «Оцеола, вождь семинолов», они играли под этой яблоней в индейцев. Сашка была шаманом, а Пашка – вождем. Однажды, когда все ушли обедать и оставили ее одну, пришли незнакомые дети и хотели разжечь под яблоней костер. Сашка сидела на дереве, обхватив ствол руками, и отказывалась слезать, а они кидались в нее палками и банками с краской, которые притащили с мусорки. Два раза попали по ногам, оставив кровавые ссадины, но она все равно не слезла, не предала Зебру. Теперь это казалось странным, а тогда было понятным и почему-то важным.
А сегодня? Что важно для Сашки сейчас?
Сашка вспомнила классный час. Еленушка зачитывала из какого-то журнала, прикрывая обложку газетой, статью про секc. «Вы, – говорила она, – должны знать это, вам уже пора». «Я про это в пять лет знала, – думала Сашка, – а она нам в шестнадцать рассказывает. Вот хочется нам сказки слушать про то, что сексом без любви заниматься нельзя. Господи, ну и дура! В нашем классе уже больше половины им занимаются, по всякому, и по любви, и по пьяни. И не скажешь же, что смешно это. Растрындится… Вы – эгоистические натуры! А нам все это нахрен не нужно!»
Сашка сняла со швабры склизкую тряпку, окунула ее в ведро с грязной водой, распрямилась и замерла. На нее навалилось одно из самых постыдных в ее жизни воспоминаний, которое часто всплывало вдруг, без причины и заставляло каменеть от тяжелых, накатывающих дурнотой, чувств. Событие само по себе было довольно пустое и глупое (так сказала ей мама), но Еленушка раздула драму, настоящую трагедию в духе разоблачений врага народа. Было это два года назад, в восьмом классе.
Саша любила училку английского языка – Ларису Викторовну, та напоминала ей маму, такая же мягкая, женственная, так же задумывалась о чем-то своем, слушая их корявые английские пересказы. «London – is the capital of the Great Britain. This is one of the greatest cities in the world». А она витает где-то, улыбается и кивает. Лариса Викторовна разрешала Саше рассказывать свои собственные истории на английском, а не скучные учебные тексты. Тогда она выпускала класс, и Сашке хотелось, чтобы Лариса Викторовна стала их классной руководительницей.
– А возьмите нас, – сказала она в конце урока, после того, как Лариса Викторовна поделилась опасениями, что, наверное, тяжело будет снова брать малышей.
– Как же я вас возьму? Вы – класс Елены Дмитриевны. Жены директора.
Прозвенел звонок, все начали складывать в портфели учебники и тетрадки. Лариса Викторовна вышла за дверь, и Саша кое-что сказала в шутку. А может, и всерьез. Хотя, конечно, не думала о том, чтобы осуществить это. Она вообще не думала, просто сказала:
– А давайте доведем нашу Еленушку. Она от нас откажется, и Лариса Викторовна нас возьмет.
Некоторые посмеялись, но как-то вяло, без энтузиазма. А Женька Казак пошутил:
– Или исключат всех из школы!
Сашку не исключили, но из-за сказанной глупости ей пришлось пережить нечто настолько постыдное, что при воспоминании об этом глаза ее всегда становились мокрыми.
Сашка знала, что Ващенко не любит ее, но не придавала этому значения. Что-то такое эти трое самых высоких и рано развившихся девочек – Ващенко, Антоновская и Таранник имели против нее, малявки, стоящей второй с конца строя на физкультуре. После отмены школьной формы они, одетые во все дорогое и модное (их родители были богаты в Сашкином представлении), насмехались над ее убогой плиссированной юбкой, фиолетовыми лосинами и свитером с розой из люрекса. Сашка носила их бессменно, тогда как они меняли наряды каждый день, особенно Антоновская, длинноногая, большегрудая, с тонкой талией. Именно Антоновскую Сашка считала главным своим врагом, наверное, потому, что Сашке она нравилась, нравилась до зависти, до молчаливого восхищения, и вдвойне Сашке было обидно, что в начальных классах они дружили. Но потом Антоновская стала сторониться ее, а классе в шестом возник этот тройственный союз, в котором именно она, Антоновская, в открытую, конфликтовала с Сашкой. Это она приклеила к ней грубое «Козлиха», называла ее так при всем классе, она всегда первая и громче всех говорила что-то обидное в ее адрес. Ващенко и Таранник молчали и высокомерно посмеивались. И Сашка не обращала внимания ни на Таранник, самую высокую, худую девочку класса, с длинным хвостом гладких светлых волос, ни на неприятную ей Ващенко, вытянутое лицо которой, с крупными, сильно навыкате глазами, всегда имело брезгливое, неприятное выражение. И вот без всякого предупреждения, вероломно, как написано в учебнике истории про нападение фашистов, Ващенко заложила ее. Кончался еженедельный классный час. Еленушка спросила:
– Какие-нибудь вопросы?
Ващенко скромно подняла руку.
– Что ты хотела, Наташа?
Ващенко встала и, выговаривая слова так, будто она не хочет это произносить, но понимает, что не может поступить иначе, сказала:
– А Саша Козлова вчера сказала, что давайте Елену Дмитриевну доведем и она от нас откажется.
Елена Дмитриевна поощряла стукачество, называя это пионерской сознательностью. Кто пинал по кабинету истории кактус? Кто запер в подсобке уборщицу? Кто курил в туалете? Каждую среду после уроков она делала из них «честных товарищей и сознательных пионеров», уверяла, что доносчик останется анонимным, надо просто написать печатными буквами имя виновника, свернуть и бросить в коробку у нее на столе. Это долг каждого советского человека. Но никто никогда не сдавал ни Женьку Казака, ни Кольку Шаманского, ни заядлого курильщика Ромку Овдеева. Класс сопротивлялся давлению тем сильнее, чем Еленушка на него давила. И вдруг Ващенко без всяких требований и поощрений, как бы сама решила выполнить долг и заложила Сашку.
– А Саша Козлова вчера сказала…
И Саша, сидя на задней парте, подняла от каракулей в тетради глаза и испуганно посмотрела на Ващенко.
– Давайте доведем Елену Дмитриевну…
Что-то тяжелое и жаркое подкатилось к Сашкиному горлу.
– Она от нас откажется…
Саша чувствовала, как медленно заливается лицо жгучим алым цветом.
То же самое происходило с лицом Еленушки. Оно стало пунцовым, и Сашки показалось, что щеки ее затряслись.
– Все должны встать и высказать свое осуждение мерзкому поступку, который совершила Козлова Саша. А ты, – она перевела взгляд на Сашу, но смотрела как-то сквозь нее, – выйди к доске и слушай, что скажут тебе твои одноклассники.
И все сказали. Это бессовестно. Невообразимо. Отличница не должна так поступать. Давайте исключим ее из совета отряда, из пионеров, из школы. Только Славка Луканский, тоже отличник, несмело предположил:
– Может, простим? Она ж пошутила.
– Пошутила?! Пошутила! Как можно так шутить? – негодовала Еленушка.
А Сашка растерянно смотрела в окно, на бегающих двухкилометровый кросс старшеклассников, на низкое серое небо и почти голые ветки рябины. Саше действительно было стыдно, потому что она, сама того не замечая, оказалась эгоистичным, плохим человеком, и ей нельзя дальше жить. Потому что такие подлые, как она, люди, не имеют на это права.
После нескольких часов рыдания дома Саша уже почти решилась на самоубийство и, вытащив из плотного конвертика сменную бритву для папиного станка, пока без нажима проводила ею по жилам на запястье. Она пыталась набраться смелости, чтобы резануть глубоко. Сестры, напуганные ее рыданиями, сидели в детской, каждая за своим столом, и делали вид, что занимаются уроками. Но едва послышался поворот ключа в замке, они бросились в коридор, навстречу маме, и наперебой рассказывали, что Саша, как пришла из школы, все время плачет, а теперь заперлась в ванной. Мама негромко постучала в дверь:
– Сашенька, милая.
Сашка, которая так и не решилась перерезать вены, задумчиво убрала бритву на верхнюю полку шкафчика.
– Александра, открой дверь.
Сашка посмотрела на свое опухшее от слез лицо, вздохнула и открыла дверь.
– Что случилось? – спросила мама, заглядывая ей в глаза и стараясь взять ее за руки. Саша потянулась к ней, прижалась к пахнущей духами маминой блузе и, захлебываясь, рассказала все. А мама почему-то ее не ругала.
– Какая ерунда и чушь! Ваша Елена Дмитриевна как ребенок! – мягко сказала она и, прижимая к себе Сашку, погладила ее по голове.
– Мама! Меня исключат из школы. Я – плохая.
– Ну что ты! Ты – хорошая и умная. Сказала не подумав. С кем не бывает?
Саша доверяла маме. И стало легче. Снова можно было жить, хоть и стыдно, но все же можно. Даже когда Еленушка пришла к ним домой и заперлась с мамой на кухне, Сашка уже не боялась и почти перестала винить себя, она повторяла про себя слова мамы: «Наша классная раздула из мухи слона».
И вопрос замялся как-то сам собой. Даже Елена Дмитриевна как будто простила и больше никогда не вспоминала об этом. Только вот Ващенко из противников скрытых стала заклятым врагом, и об этом знали теперь все в классе.
– Ну, что ты тут, закончила? – Доронина вернулась в класс с выстиранными от мела тряпками. – А то меня уже ждут.
– Блатной, что ли?
– Кто ж еще? – гордо сказала Ленка. – Че-то ты долго моешь. Раз-два и готово.
– Остался второй и третий ряды.
– Короче, больше половины. Может, я пойду, а ты домоешь?
– Но в следующее дежурство моешь ты!
– Ладно.
– Ты обещала сегодня учить меня целоваться.
– Вот это не знаю. Я, наверно, до ночи с Блатным буду. Да и че там учить? Просто рот приоткрываешь и все, – Ленка открыла рот и сделала томное лицо. Сашка засмеялась.
– Дурацкий у тебя вид.
– Да ну тебя! – Ленка схватила свою сумку с парты.
– Можешь ответить мне на один вопрос? – серьезно сказала Саша. – Почему меня ненавидят Ващенко и Антоновская?
– Завидуют, – беззаботно сказала Ленка и хлопнула дверью.
– Чему завидовать? – сама себя спросила Саша и снова начала размазывать по линолеуму грязь.
У Фадея
Фадей подошел к столику во дворе еще засветло. Был он на удивление трезв, но весел.
– Сашка, а у тебя паень есть? – спросил он после приветствия.
– Паень? – переспросила Сашка. – Это кто?
– Ну, паень? С котойм ходишь?
– Фадей тебе с ним встречаться предлагает, – заржал Ромка.
Фадей смущенно замялся, щеки, покрытые редкими тонкими волосками, порозовели.
– Я пьосто спьясить.
– А у тебя дома есть кто-нибудь? – Сашка мерзла и глубже запахивала тонкую ветровку. – Может, к тебе? Посидим, чайку попьем?
– Пошли, – с важным равнодушием согласился Фадей.
Откуда взялся Фадей в их доме, точно никто не знал. Где-то он жил раньше, до совершеннолетия. Может, в детдоме, может – у родственников. А в квартире на первом этаже в седьмом подъезде жила древняя бабка. Она торчала целыми днями из открытой фрамуги застекленного, вылинявшего до серого цвета, балкона, встречала и провожала прохожих таким непонятным бормотанием и пугающим взглядом, что все дети (а они были тогда детьми) боялись ее до жути. Про нее рассказывали страшилки. В одном черном-черном городе жила черная-черная старуха… Саша думала, что она ворует детей, и каждый раз, проходя мимо, складывала в карманах фиги, чтобы не дай бог… А однажды Саша искала пропавшего котенка и кричала в маленькие подвальные окошки: «Кис – кис – кис», и бабка то ли харкнула на нее сверху, то ли чихнула: «А ну кыш! Прочь!» И Саша, с перепугу и со всей страстностью, на которую способна детская душа, пожелала старухе смерти. И действительно, бабка вскоре умерла, а вместо нее появился единственный ее наследничек – малахольный Фадей.
Сергей Фадеев, как звали его на самом деле, не был ни дурачком, ни больным, а просто недотепой. Высокий, худой, с крупным горбатым носом, слезливыми черными глазами и детским, всегда почему-то приоткрытым ртом. Был он беспомощным и жалким. И этой его беспомощностью пользовались все. Старшие пацаны без спросу приходили к нему бухать или просто перекантоваться на хате. Дворовые ребята, Пашка, Ромка, Сашка и Женек, хоть и были младше Фадея на два– три года, беззлобно издевались над ним, над его «фефектом речи», хотя и не гнушались его безвольным, безответным гостеприимством.
– Фадей, скажи «стратосфера», – Саша сидела на коленях у Пашки Бергера.
Стульев в грязной пустой кухоньке с изрисованными неприличными картинками обоями было только четыре. Все расположились за старым фанерным столом и чего-то ждали.
– Стъя-тос-фея, – лицо Фадея, и так худое и длинное, вытягивалось еще сильней от усилий.
– В натуре, фея! – сказал Ромка Белый. – Фадей, ты – фея блат-хаты.
– Блат-хат-фея, – уточнил Женек, прикуривая сигарету.
– Есть домовой, а ты блатовой, – пошутил Пашка.
– Какой он блатовой? Посмотрите на него, – Сашка пригладила торчавшую вихрастую челку Фадея. – Он у нас маленький. Даже вон, картавит.
– Да идите вы! – Фадей дернулся в сторону от Сашкиной руки и обиженно вывернул свои пухлые цыганские губы. – Я вас позвал, а вы издеваетесь.
– Ой, ой, ой, он, кажется, сейчас заплачет.
– Знаете, что? Уходите отсюда.
– Да ладно тебе, не обижайся, Фадей! Мы же шутя, – сказал Пашка Бергер, и Саше, как всегда, стало немного стыдно, что она издевается над Фадеем, но в то же время приятно вот так по-взрослому сидеть на коленях у парня и чувствовать себя королевой, пусть и среди дворовых парней.
– Хотите, анекдот расскажу? – сказал Женек, и, не дожидаясь ответа, стал рассказывать. – Вопрос: может ли вегетарианец полюбить женщину? Ответ: может, если женщина ни рыба, ни мясо.
Никто не засмеялся. Женька смутился и стал собирать пальцем какие-то крошки на столе.
– Фадей, может, я поесть приготовлю? – примирительно спросила Саша.
– У меня только веймишель.
– Давай вермишель. Ребят, вы есть хотите?
– Не, спасибо. Мы дома поели.
Фадей достал из единственного, висящего посередине стены, как скворечник, ящика пачку вермишели и поставил на газ черную железную сковородку.
– Ты че, в сковородке будешь варить? – спросила Саша.
– Я их жайить буду.
– Прям так, не отваривая.
– Пйам так.
– Давай я по-нормальному сделаю, сварю, обжарю на масле, – Саша выхватила у него пакет. – Кто ж сухие макароны ест? Совсем с дуба рухнул?
– Это ты с дуба йухнула. Это веймишель. И я знаю, как надо. Отдай.
– Не отдам, – Саша, смеясь, начала бегать от Фадея между стульями. Ромка Белый поймал ее и держал, пока Фадей разжимал пальцы. Это было весело, и все смеялись, но когда вермишель уже была у Фадея, а Ромка все продолжал Сашку держать, стало как-то неловко.
– Руки убери! – строго попросила Саша.
– А то что?
– Белый! Она кому сказала! – Пашка поочередно расцепил пальцы Белого у Сашки на животе.
– Ладно, ладно, – Ромка, глупо посмеиваясь, разжал руки.
Раздался глухой стук в дверь, от которого жалобно задребезжали разболтанные дверные петли. Все замерли.
– Кто это? – шепотом спросила Саша.
– Не знаю, – сказал Фадей, и из пакета высыпались на раскаленную сковородку тонкие вермишельки.
– Открывай, Фадей! – послышался мужской голос.
– Фадей, открывай, – повторил женский.
– Это Ленка, – обрадовалась Сашка. – Наверное, она с Блатным. Я открою?
– Откъивай, – смирился Фадей.
И в квартиру ввалилась розовощекая Ленка, одетая в длинное пальто и цветастый платок. За ней проталкивался в дверь Леха по кличке Блатной, в ватнике нараспашку, широко улыбаясь щербатым ртом. И совсем сзади, как-то скромно и нехотя, шел Денис. Когда он прошел мимо Сашки, на нее пахнуло ванилью. Боясь встретиться с ним глазами и обращаясь к одной Ленке, Сашка затараторила:
– Классно, что пришли. Вы откуда? С города? Или с Северного?
– Да отстань ты, дай хоть раздеться, – отмахивалась Ленка.
– Случайно встретились у дома. Решили зайти, – как бы оправдывался Денис.
Все прошли на кухню.
– Опачки! – сказал Блатной, доставая из рукава ватника пол-литровую бутылку водки.
– Нифига себе! – пацаны повскакивали со стульев, радостно блестя глазами, потянулись здороваться.
– Фадей, закусь есть? – деловито располагаясь, спросил Блатной.
Фадей показал сковородку с вермишелью, которая уже начала местами коричневеть.
– Свои глисты жаришь? – усмехнулся Блатной. Все с готовностью заржали.
– Это веймишель, жаеная веймишель, вкусно,– обиженно скулил Фадей, но его никто не слушал.
– Пацаны, организуете закуску? Хлебушек, колбаску, сальце. Что есть.
Пашка кивнул, а Женек начал мяться:
– Дома родаки. Я не знаю.
– Ладно, не гунди, – отмахнулся от него Блатной.
– Запивка есть, – и Ромка Белый достал из кармана куртки два пакетика «Зукко».
– Молоток! – похвалил Блатной.
А Денис добавил:
– Ты как пионер, всегда готов.
Пашка и Женька ушли искать закуску.
Блатной сидел на стуле, широко расставив колени. Он притянул к себе Ленку, по-хозяйски усадил ее. Ромка Белый, глядя на Сашку, тоже постучал по коленке, но она покачала отрицательно головой и села на свободный стул. Фадей размашисто, по большой дуге, будто давая всем возможность рассмотреть блюдо, поставил сковородку на середину стола.
– Пьебуйте! – объявил Фадей. – Пальчики оближешь!
– Не позорься, а! – попросил Блатной.
– Нет, нет! Вы попьебуйте, – просил Фадей. Но никто почему-то не хотел пробовать.
– Убери эту гадость, – раздражаясь, приказал Блатной. – Лучше рюмки и запивку организуй. Ленок, помоги парню. А то он как неродной.
Пока Ленка наливала в полуторалитровую бутылку воду из-под крана, пока насыпала в нее порошок, Сашка, Денис и Блатной молча переглядывались. Все были как-то скованны, как бывает всегда, когда мало знакомые люди сидят трезвыми за одним столом. Блатной вызывающе осмотрел Сашку. Убедившись, что она – ничего, подмигнул ей. Она ответила ему тем же. На Дениса Сашка только раз украдкой глянула, обожглась, покраснела, опустила глаза. Наконец она не выдержала и спросила:
– Ну че, будем пить?
Ленка поставила на стол бутылку с ярко-оранжевым напитком, ревниво глядя на Сашу, уселась на коленку к Блатному и по-хозяйски обвила его шею руками. Но он высвободился и потянулся к бутылке.
– Где стаканы? – пнул он Фадея, который ел у плиты. Вермишель разлетелась по полу, Фадей заныл, но поставил на стол три стакана и серую эмалированную кружку.
– Наливай! – сказал Блатной Денису, откидываясь на спинку стула.
Саша напилась быстро, с первого полстакана. Когда вернулись Пашка Бергер и Женек, водки уже не было. Но они добросовестно сидели, ожидая чего-то, а Сашка делала бутерброды, и почему-то это было смешно. Сашка громко хохотала, прикалывалась над Фадеем, уворачивалась от Белого, но делала все исключительно для Дениса. Тот улыбался как-то замученно, без интереса, и посматривал на часы.
Ленка Доронина и Блатной начали целоваться на кухне, а потом ушли в комнату. Пьяный Фадей уговаривал всех попробовать свое блюдо. Он подносил к Сашке полную ложку коричневой вермишели, но она отпихивала и смеялась.
А потом появились местные завсегдатаи: Дрон и Михон. С ними был незнакомый парень невысокого роста, с маленьким и невыразительным лицом. Дрон и Михон звали его Слямзя. Он только что вернулся из армии и, чтобы отметить это принес литровую бутылку спирта «Рояль». Пока спорили, в какой пропорции разводить, появились девки: Натаха Кирилина и Светка Шнырева.
Дальше Сашка помнила какими-то вспышками. Вот она распахивает туалет, там, стоя на четвереньках, рыгает Белый. Сильно размякшее и какое-то незнакомое Пашкино лицо приближается и говорит: «Давай уйдем». Но Сашка не хочет, потому что здесь Денис, которого она любит. Но на кухне его нет. Сашка ищет по комнатам. В них темно, только шевелятся какие-то тени. Вот одна из них оглядывается. Сашка видит лицо, пьяное, возбужденное, с алыми, будто накрашенными, губами. И вязкий женский голос: «Ну, ты чего?» Пятясь и держась за стены, Сашка возвращается на кухню. Здесь какие-то незнакомые мужики. Фадей сидит на полу и плачет. Провал.
На морозном ночном воздухе Сашке стало лучше. Тот маленький, с неприметным лицом, довел ее до подъезда. Мягко и, казалось, заботливо он шептал:
– Что же ты так напилась? Такая маленькая. Такая красивая.
– Как тебя зовут? – спросила Саша и сфокусировала взгляд на его лице. Оно оказалось даже приятное, улыбчивое, с мелкими, подвижными чертами, как у обезьянки.
– Андрей, – сказал он. – Андрей Слямзин.
– Здорово, Андрей. Я – Саша. Проводишь меня?
– Я уже.
– Действительно. Мой подъезд, – размашисто показала Саша и оглянулась. – Ну, поцелуй меня, раз привел.
И он подхватил ее на руки, поднял на ступеньку и поцеловал, прижимая к двери подъезда и шаря по ней руками.
– Эй! Стоп, стоп! Я же не умею целоваться.
– Пошли в подъезд, я тебя научу, – жарко проговорил он. И она послушалась.
Облокотив ее на батарею, он настойчиво целовал. Сашке было приятно, что его горячие, мягкие, почти женские руки, залезли ей под свитер, что губы щекочут шею. Она даже позволила расстегнуть лифчик, и он мял по очереди ее груди, и лепетал каким-то безумным, диким шепотом:
– А ты, оказывается, совсем большая! Мммм, какая хорошая девочка, – и его рука все настойчивее упиралась в кромку ее брюк. Вдруг неожиданно и юрко она проскользнула к ней в трусы. Сашка дернулась и резко его отпихнула.
– Ты что делаешь?
– Я хочу тебя, малышка. Иди ко мне, – он тянулся к ней губами, приоткрыв мокрый рот и закатывая глаза. Сашка испугалась.
– Я тебя даже не знаю.
– Узнаешь!
– Ты – никто мне! Ты даже не мой парень!
– Если хочешь, я буду им, – и он схватил ее руку и исступленно начал облизывать кончики пальцев.
– Успокойся! Если ты мой парень, тогда до завтра. На сегодня хватит. Ты меня проводил. Уходи!
– Как же так? Ты меня возбудила! Это нечестно.
– До свидания.
– Постой. Ты что, девочка?
Она едва заметно кивнула.
– Тогда понятно. Ладно, я пошел. Завтра зайду. Ты в какой квартире?
– В тридцать пятой.
Саша осторожно открыла своим ключом дверь. По глазам неожиданно резануло светом. Саша сняла сапоги, куртку, прошла на кухню. За столом сидел отец. Он был бледен и необычно трезв. Лицо его, опухшее за неделю запоя, теперь как-то опало и казалось старым.
– Где мама? – спросила Саша.
– Маму увезла «скорая».
– Что случилось?
– Ничего страшного, – папа отвел взгляд. – Просто она устала. Иди спать. Я девчонок только что уложил. Постарайся не разбудить.
Не волнуясь за маму, почти не думая о ней, Саша проскользнула в ванную. Она была рада, что папа не заметил ее нетрезвость. И еще Саша очень хотела спать.
Петелино
Чтобы навестить маму, взяли дедушкину машину. Это было странно, потому что дедушка никогда раньше ее не давал. Белый, приятно пахнувший внутри бензином «Москвич» был для деда предметом поклонения, самой важной вещью в его жизни, которую никак нельзя доверить пьянице-сынку. Так думала Саша, и была поражена тем, что болезнь мамы что-то изменила. Вообще, в ней было много странного: маму положили не в городскую больницу, а в какую-то под Тулой, в неизвестном Петелино. И почему-то целую неделю ее нельзя было навещать. Хотя девчонки легко с этим смирились, даже повеселели от того, что папа рано приходил с работы, варил невкусные мучные супы, а однажды испек жесткий, несъедобный маковый рулет. Все это он старательно готовил по старой кулинарной книге, которой мама никогда не пользовалась. Но он смешил Анюту и Танюшку, превращая готовку в игру. Мама так не делала.
К концу недели отцу надоело играть в хозяйку, он вернулся к привычному образу жизни. И девчонки ели гречневую и пшенную кашу, которую умели варить сами. А в выходные Саша испекла торт, половину которого они теперь везли маме.
По дороге девчонки спали, навалившись на Сашу, во сне легонько сопели, в их дыхании смешивались приятный детский запах и легкая вонь плохо чищенных зубов.
«Если маму сегодня не выпишут, – думала Саша, разглядывая по дороге унылые и бескрайние поля, – придется самой одежду стирать и гладить, носить уже нечего». Стирка в доме всегда была целым событием. Нужно было вывалить из корзины всю грязную одежду на пол, рассортировать по цветам, а потом долго крутить в стиральной машине «Сибирь» сначала на стирке, а потом, переложив в центрифугу, на отжиме. А после полоскать в ванной в холодной воде. И повсюду вода, а машинка бьется током, и нужно следить, чтобы сестры не зашли в ванную босиком, и самой не наступить в лужу. Много суеты, нервов, усилий. Нет. Саша это не любила. Она любила сидеть в кресле или лежать на втором этаже двухъярусной кровати с книгой. Сашка обожала читать. «Анжелика, маркиза ангелов» или «Вероника, любовница короля». Впрочем, в последнее время ее увлекала эротическая литература. Одну из таких книжонок, на серой бумаге, с плохо пропечатанными картинками голых женщин с томно приоткрытыми ртами, подсунул ей Слямзя. И теперь Сашка с волнением думала о том, как вернется и будет ее читать.
Со Слямзей они встречались уже неделю, каждый вечер пили у Фадея, а потом подолгу целовались в подъезде или на лавочке, если на улице было тепло. Всю неделю Сашка прожила в каком-то сладостном и мутном угаре. Ему не было выхода, не было избавления от него. На нее вдруг обрушилось незнакомое раньше чувство страсти. Оно не было направлено ни на кого-то конкретно, просто Слямзя в ней его включил, и теперь, вместо геометрии или истории, на уроках ее занимали фантазии о разных, в основном – выдуманных мужчинах. Представлять настоящих, даже того же Слямзина, который все больше казался Сашке жалким глупеньким пьянчужкой, она не могла, потому что вместо эротических включались совсем другие переживания. Да и скучно уже становилось со Слямзей. Даже целоваться или позволять трогать себя Сашке надоело, а зайти дальше она не могла из принципиальных соображений, первый раз обязательно нужно по любви.
Они подъехали к трехэтажному особняку с облезлой, местами отвалившейся, оголившей красный кирпич, штукатуркой. На воротах Саша прочла вывеску: «ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 1».
– Пап, а мама че, в психушке лежит? – с изумлением спросила Саша.
– Не отвлекай меня, – папа сделал вид, что занят рулем, который он сильно выворачивал, петляя по заваленным яркими кленовыми листьями тротуарам. Саша поняла, что он не хочет об этом говорить.
– Я пойду, узнаю. Вы пока посидите, – и он громко хлопнул дверью, как всегда не рассчитав силу. Девчонки проснулись, начали потягиваться, кряхтеть:
– Мы приехали?
– А где мама? – спросила Танюшка.
– Сейчас папа вернется, и мы все к ней пойдем, – сказала Саша.
– Я хочу писать, – канючила Танюшка.
– А есть че-нибудь поесть? – поинтересовалась Анюта.
– Сейчас, – Саша нашарила в сумке у себя в ногах бутерброды с подсолнечным маслом и сахаром, которые сделала в дорогу.
Они опоздали, время для посещений закончилось полчаса назад, но папа как-то договорился, и их пустили. Они поднимались по лестнице, потом шли по узкому, белому коридору.
– Мама, – хором закричали Анюта и Танюшка и побежали вперед. Сзади шли Сашка и отец.
Мама сидела на кушетке возле окна. У Сашки вдруг защемило сердце. Против света был виден лишь мамин силуэт, знакомый, трогательно– хрупкий, но какой-то другой, будто лишенный чего-то маминого. Она казалась окаменевшей и отрешенной от всего.
Когда Саша подошла, мама обнималась с девчонками. Они примостились слева и справа, прижались к ней и затихли.
– Привет, мамульчик! – Саша наклонилась, поцеловала ее в пахнущую лекарствами щеку. – Как ты тут?
Мама вяло, равнодушно улыбнулась.
– Ничего, доченька, все хорошо.
– Мам, а что с тобой? – спросила Саша.
– Ничего, все нормально. Осенний авитаминоз.
Саша села перед ней на корточки и взяла за руки.
– Что это? – спросила она, глядя на перебинтованные запястья обеих рук.
– Это? – мама растерянно посмотрела на Сашу, сжала губы, и ее подбородок задрожал.
– Мамочка, мамульчик. Только не плачь, – Саша обняла колени матери.
– Не плачь, мамочка, не плачь, – заныли Анюта с Танюшкой.
– Я больше не буду. Девочки мои! Я уже успокоилась, – мама старалась улыбнуться сквозь слезы, стоящие в глазах. – Лучше расскажите, как у вас дела? Как в школе?
– У меня хорошо, – сказал Аня.
– Я по природоведению получила пятерку. За гербарий, – похвасталась Танюшка.
– Не волнуйся, мам, мы хорошо. Ты только поскорей выздоравливай.
К ним подошла высокая сухая женщина в белом халате:
– Хватит на сегодня, – строго сказала она. – Ее нельзя беспокоить.
– Вы идите, я догоню, – сказал папа.
На обратном пути Саша думала только о маме. Она все поняла. Это он довел ее, он виноват в том, что мама лежит в психушке, что она такая заторможенная, неживая. Саше хотелось сказать это отцу, и она, сжимая от злости кулаки и челюсти, представляла, как говорит это. «Мама могла умереть!» – с ужасом думала Сашка, и эта мысль причиняла ей такую сильную, непереносимую боль, что хотелось ударить со всей силы кулаком по окну машины, чтобы разбить его и порезаться о стекло. «Тогда… тогда, – сдерживая щиплющие в носу слезы, думала Сашка, – я бы тоже покончила с собой. Я бы не смогла жить без мамы!»
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу