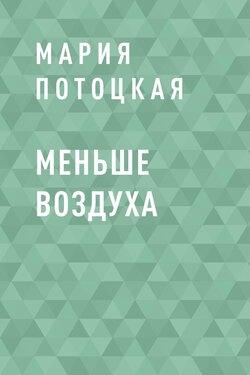Читать книгу Меньше воздуха - Мария Потоцкая - Страница 1
ОглавлениеПролог
Раньше я хотел плюнуть в лицо бабушке, чтобы показать, каким успешным смог стать в будущем. Довольно скоро я перестал питать какие-либо надежды на свой счет и просто хотел плюнуть бабушке в лицо из хулиганских побуждений. Потом я смирился и даже начал уважать ее, поэтому слово «бабушка» тоже отпало из этой фразы. Вышло так: я хотел плюнуть в лицо. Итак, сегодня я выступал перед огромной аудиторией, которой собирался рассказать, что я – Иисус Христос.
Глава 1. Что-то в груди
В возрасте одиннадцати лет больше всего на свете я хотел велосипед. Все мои одноклассники имели колеса – избранным повезло обладать собственным великом, другие гоняли на старых отцовских или втихаря забирали у своих братьев. Счастливчиком я еще тогда не стал, а ни братьев, ни сестер, ни даже отца у меня не имелось. Была мама, в нашем коридоре лежало несколько пар ее коньков, но велосипед там никогда не стоял. Даже у соседей по коммуналке его не было, и я думал, что моя судьба – это черная безвелосипедная дыра, которая медленно затягивала меня в пешеходную жизнь навсегда. Медленно – потому что без велосипеда все было так.
Мама работала тренером по фигурному катанию, она сама – одиночница, чемпионка Василевска семьдесят третьего года. В семьдесят пятом у нее появился я, и с тех пор она только тренировала. Поэтому у меня самого были коньки всех размеров, через которые прошла моя нога в процессе развития, хотя мама и не питала больших надежд на мое будущее в спорте с тех пор, как поставила меня на лед. Тогда я упал и ждал, пока меня поднимут, не предпринимая никаких попыток что-либо сделать самостоятельно. Я с обидой смотрел на все эти маленькие коньки, ведь если бы мама не тратила на них деньги, она могла бы купить мне велосипед.
Но однажды она это сделала, не продавая свои воспоминания о моих неуклюжих попытках изобразить ласточку. Отец ее ученицы с совершенно противоположными мне ценностями практически за так продавал свой велосипед, чтобы купить дочери новую форму. До моего дня рождения оставалось еще несколько месяцев, но мама с боем забрала его прямо перед носом у другого покупателя, пока была возможность. В коммунальной квартире не нашлось места, куда бы она могла спрятать его до праздника, поэтому мама торжественно приволокла велосипед мне сразу после покупки.
– Гришка, иди помогай, я тебе коня угнала, – послышался мамин голос из прихожей. Она, гремя сумками с продуктами, толкала дверь ногой, чтобы дать дорогу моему велосипеду. Он больше походил на покореженную проводку, чем на коня, но для меня он стал вмиг милее всего на свете. У него была высокая, по-настоящему мужская рама и даже не скрученный звоночек на руле. Велосипед был выкрашен в подъездно-зеленый цвет, и я уже представлял, как прилеплю на его раму переводилку с гитарой, которая хранилась в коробке под кроватью для этого случая.
– Это ты для меня? Это ты мне подаришь?
Я выхватил из маминых рук велосипед и втащил его в коридор, хотя уже знал, что через несколько минут я буду снова вывозить своего нового друга на лестницу.
– Не-а, бабе Зине на восьмидесятилетие.
Баба Зина за стенкой громко цокнула, к ее возрасту у нее сломался каждый орган в теле, кроме ушей с молоточками и наковальнями внутри головы.
Я забрал сумки и бегом отнес их на кухню, будто боялся, что, если я буду недостаточно хорошим сыном, мама действительно отдаст мой подарок кому-то другому.
– Спасибо, спасибо, мама! Вот я вырасту и куплю тебе тоже велосипед. Нет, лучше даже каток, целый спортивный комплекс и назову его в твою честь.
– Это ж кем ты собираешься стать? Королем неземного государства?
Неземное государство было маминой выдумкой, хотя у меня и появлялись предположения, что не одной ей приходили такие идеи. Когда она читала мне сказки, то за всеми некоторыми царствами шли вполне конкретные неземные государства, а стоило мне отвлечься, она говорила, что я витаю вовсе не в облаках, а все в том же неземном государстве.
– Нет, я после школы в техникум не пойду, а пойду сразу работать на завод паять балки, как дед, чтобы раньше начать откладывать деньги тебе на стадион.
– Твой дедуля по тюрьмам всю жизнь бегает, так что балки паял он за все время от силы полгода.
Я помнил, что дед занимается далеко не честным трудом, но я также знал, что мама любит при любой возможности словом опустить своего отца.
– А ты мне его на день рождения подаришь? Можно я разок прокачусь, а потом до дня рождения он будет стоять?
– Ну, – мама сделала вид, что серьезно задумалась, – Разок прокатись.
Она потрепала меня по волосам и довольно улыбнулась. Мама и сама была счастлива, что смогла достать для меня этот велосипед без чьей-либо помощи.
– Только возвращайся до темноты! – крикнула мама мне вслед, когда я уже выезжал на лестницу.
Друзья со двора научили меня кататься, и, хотя я вряд ли бы таким же искусным ездоком, как они, я смог сразу поехать, только поставив ноги на педали. Во дворе промелькнули несколько знакомых лиц, но, прежде чем хвастаться, мне хотелось самому насладиться своим новым другом. Я помчался в сторону центра Василевска, все быстрее и быстрее набирая скорость. Однотипные облезлые многоэтажки водили вокруг меня хороводы, сливались в одну линию. Я даже не мог сразу сообразить, по какой улице я ехал, пока не наткнулся на массивный памятник Ленину и не понял, что нахожусь на одноименной. Мимо меня пулями пронеслись наш кинотеатр «Союз», краеведческий музей, театр имени Фонвизина, рынок и последовательно Большой парк, а за ним Малый. Я летел так быстро, что только по воле судьбы не сбил ни одного пешехода.
Я остановился лишь тогда, когда у моего ново-старого велосипеда слетела цепь. Пока я поправлял ее, я красочно представлял, как попрошу у Колькиного папы машинное масло, чтобы смазать ее, и уже ощущал въедливый запах и сальность рук после него. Остановка меня отрезвила. Несмотря на то, что я мог бы кататься до тех пор, пока не стер бы все шины в порошок, я вспомнил, что дома меня ждут недоделанные упражнения по русскому языку. В другой ситуации я дописал бы их на перемене в школе, но в этот день я действительно хотел порадовать маму. Я представлял, как я получу пятерку, и она скажет: Гришка, не зря я тебе купила велик.
В нашей комнате у нас не было места, а в коридоре я боялся оставлять свое сокровище, поэтому я решил убрать велосипед в подвал. Ключик от нашего уголка под домом у меня был с собой, и я знал, что в нем много места. Мама хранила там по большей части только банки с соленьями и вареньем, переданные нам бабушкой. Я еще подумал, а вдруг мыши погрызут шины, но решил, что лучше потерять их, чей целый велосипед.
Закрыв подвал на тяжелый рыжий замок, я вбежал на наш этаж. За стеной разносилась музыка из радиоприемника, а значит, мама была там. Я тихонько притворил дверь и стал свидетелем таинства, в которое меня не должны были посвятить. Мама стояла ко мне спиной с расстегнутой рубашкой, а напротив нее маячила тетя Ира, ее лучшая подруга, и сосредоточено всматривалась во что-то.
– Что-то в груди, чувствуешь?
Мама потрогала себя сама, а потом положила руку тети Иры на свою грудь, чтобы та что-то прощупала.
– Какое-то уплотнение, – согласилась тетя Ира, хмуря брови, – И сосок будто немного в сторону.
Если бы я остался дальше, это обернулось бы для меня катастрофой. Я тихонько притворил дверь в надежде, что голос Макаревича из динамика заглушит шум, и побежал на кухню. Уже оказавшись там, я здорово пожалел, что выбрал этот путь, а не направился к выходу из квартиры. Мама могла в любой момент прийти, чтобы согреть чай для тети Иры, и мне уже было не выбраться. Идти назад и снова проходить мимо двери казалось невозможным. Я чувствовал зубодробящий стыд, как мороз, сковавший изнутри, будто бы меня застукали за тем, как я в деталях рассматриваю, что под хвостом у мертвой кошки.
Я тогда подумал о маминых женских тайнах, которые очень хотелось узнать, но спрашивать о них будто бы было не положено. Тогда я больше ничего не подумал, вязкое стыдливое ощущение от этой сцены я не воспринял как сигнал предстоящей беды.
Все время, пока тетя Ира слушали с мамой радио, я просидел на кухне. Приходили ужинать соседи, молодая пара, которая все равно для меня состояла из дяди и тети, оба счастливые, в них чувствовалось биение жизни. Оно и правда, жизнь трепыхалась внутри тети Нади, и они только сегодня узнали об этом наверняка. Мои молодые соседи не верили приметам, поэтому рассказали мне эту новость и угостили тортом. В моей голове быстро родилась ложь, что я скажу маме, будто бы засиделся на кухне из-за неожиданного чаепития. Когда она вышла, я уже полчаса размазывал по тарелке последний кусочек.
Мама, как орел, заметивший мышку, стремительно метнулась к столу и выхватила его из моей ложки.
– Как покатался, ковбой?
– Супер, мы с Даней проехали весь центр, это правда самый лучший подарок, я теперь буду самым быстрым в классе.
В моей лжи не было абсолютно никакого смысла, я мог без смущения сказать, что катался один, но я уже настроил себя скрывать правду, поэтому не удержался.
Мама подняла указательный палец:
– Запомни, сынок, главное – не скорость, а качество, – она сама посмеялась над шуткой, думая, что, кроме нее, ее здесь никто не оценил.
– Так что будь осторожнее на дорогах, – добавила она серьезно.
– Сама будь, я слишком быстрый, чтобы меня успела сбить машина.
– А я и коньком по капоту могу врезать, так что не надо мне тут.
Мама любила поиграться, начиная со мной дурашливый спор. Иногда она так заводилась, что даже обзывала меня, в такие моменты она казалась моей ровесницей. Впрочем, она всегда утверждала, что не критично старше меня, девятнадцать лет – не такая уж большая разница. Но сейчас ни в ее интонации, ни в ее глазах не блистал огонек.
Я попробовал его разжечь:
– Кстати, я уже быстрее тебя, до меня сплетни про соседей доходят первыми.
– Да? – сказала она без настоящего удивления, – Тогда пойдем-ка в комнату, расскажешь мне.
Мамина растерянность длилась всего вечер. На следующий день она уже снова стала бодрой и цепкой ко всем словам. Я знал, что мама несколько раз была в районной поликлинике, но ее это не особенно сильно беспокоило, поэтому и я переключил все свое внимание на то, чтобы прыгать с ребятами с гаража на гараж.
Как-то я подслушал мамин телефонный разговор. Ее голос был тихим, но крайне возмущенным, поэтому я остановился узнать, что ее так беспокоит.
Она говорила в трубку:
– Мне уже пунктировали кисту, а она опять растет! Да, я схожу еще раз, пусть потыкает в меня иголкой снова, но если она в который раз наполнится, то я попробую поискать другого врача. Игнатьев с нашего выпуска вроде бы работает в больнице.
Я не знал, что такое киста, но отчего-то в голове у меня всплывали ассоциации с белыми слюнявыми гусеницами. Я надеялся ошибиться, потому что вовсе не хотел, чтобы моей маме «пунктировали» этих гусениц, даже если они были не настоящими, а лишь отдаленно напоминали их. Я поспрашивал у друзей об этом, и Мишка сказал, что у его дяди от пьянства надулось огромное пузо, в котором скопилось много воды, и врачи протыкали его большим шприцом, чтобы откачать ее. Это и называлось пункцией. Мама была спортсменкой, и живот у нее казался плоским и твердым, то есть совсем в ином агрегатном состоянии, чем вода. Я умел проводить аналогии и понимал, что болезненная жидкость может скрываться где угодно в ее организме.
Но я все равно продолжал прыгать по крышам, кататься на велосипеде, ссориться и снова мириться с друзьями и слушать «Аквариум». Но по ночам перед сном в мыслях всплывали непонятные жидкости, иголки и гусеницы, и я еще долго смотрел на мамин бутылочный силуэт на соседней кровати. Иногда я начинал бояться, случайно наткнувшись взглядом на гнилые листья, пустые банки, выдернутые из земли корешки. Один раз Мишка плевал в грязную вязкую лужу, ее болотную гладь постепенно покрывали белые пузырьки. У меня не нашлось бы внятного объяснения, зачем он это делал, но я почти был уверен, что Мишка бы и сам мне не ответил. От такой картины меня затошнило, зашатало улицу перед моими глазами, будто бы я был девчонкой из прошлого (не того, где они ложились под танки вместе с мужчинами, а из более далекого, дореволюционного и светского), а в луже плавала не слюна, а вырванные глаза или щенячьи лапки.
Я соврал Мишке, что пообещал маме помочь вымыть окно, и побежал домой. Сине-зеленый от тошноты, я сидел в комнате и ждал ее. Я не пытался успокоить себя, наоборот, придумывал еще более отвратительные образы, чтобы не сгладить свой эмоциональный заряд и решиться спросить обо всем у самой мамы.
Она пришла с тренировки вся какая-то расхлябанная, не держала осанку и все терла левое плечо.
– Гришка, слазь на шкаф и поставь коньки в коробку, – сказала она, подталкивая стул ногой. Мне это не составляло никакого труда, но раньше мама всегда делала подобные вещи сама, шкаф не казался высоким, ей достаточно было протянуть руку.
– А то я, кажись, повредила мышцу на тренировке. Она уже давно побаливает, подмышку тянет при нагрузках, но сегодня совсем разболелась. Мне кажется, она даже немного опухла.
Мамино пояснение дало мне надежду, что все мои гусеницы и грязные лужи – лишь моя глупая фантазия. В поврежденной мышце на руке не могло быть ничего страшного.
– Значит, ты заболела растянутой мышцей? Так и болеешь ею, да?
– Я же тебе не доктор, чтобы все знать. Может, растянула, может, разорвала, а может быть, это даже разорватус мускулис вульгарис.
Когда мама хотела обозначить что-то заумным термином, она переходила на свой выдуманный латинский. К каждому слову мама добавляла прилагательное «вульгарис», и я уже понимал, что оно обозначает «обыкновенный».
Я не знал, пунктируют ли растянутые мышцы и бывают ли у них кисты, но, видимо, оно было так. С маминой профессией подобные повреждения не казались новинкой. Страшные образы оставили меня и приходили только от периодической бессонницы.
Как-то к нам в гости приехала баба Тася. Она редко навещала нас, да и сама мама ездила в соседний городок Зарницкий из своего прошлого только по праздникам и в сезон посадки огорода. У мамы были прохладные отношения с бабушкой, хотя откровенных конфликтов я припомнить не мог.
Баба Тася с порога сказала:
– Еще больше похудела! И бледная как моль сидишь.
Я посмотрел на маму и увидел то, что не замечал весь этот час: баба Тася была права.
Мама с бабой Тасей целую неделю куда-то ходили вместе. Я не любил это время, потому что мне пришлось уступить свою кровать и спать на раскладушке. Зато тревожился меньше, чем если бы самостоятельно осознал мамину бледность: теперь она находилась под хмурым бабушкиным крылом.
В тот вечер, когда мы должны были проводить бабу Тасю на остановку до Зарницкого, она сказала маме:
– Нужно собирать деньги.
Мама отмахнулась от нее рукой.
– Какие деньги, мам? Я просто обследуюсь, меня государство вылечит за свой счет.
– Тамара, если будут оперировать, нужно собирать деньги, – упрямо повторила бабушка.
Когда мы шли с мамой вдвоем от остановки, я надеялся, что она заговорит о щекотливой теме сама. Наш путь лежал через аллею, и каждый раз, когда мама выплывала из-за ребристых теней от деревьев на свет, мне казалось, что она должна заговорить серьезно. Но отчего-то мама все болтала только о чемпионате по волейболу, а она ведь даже никогда не играла в него, и я вообще не мог припомнить, чтобы она раньше испытывала какой-либо интерес к этому спорту.
Я прервал ее, когда она рассказывала про казахскую команду.
– Тебя будут оперировать? Это все из-за анемии?
Я прочитал в газете: если ты бледный, это значит, что у тебя анемия. Хотя, возможно, связь была и обратной. Статья призывала к тому, что стоит об этом задуматься.
– Да какая операция, а?! – воскликнула мама, будто разозлившись на меня. Но она быстро смягчилась. – Да, лягу ненадолго, просто обследуюсь, ведь в больнице же это проще и надежнее сделать, чем по поликлиникам ходить. Но не буду скрывать, анемия у меня таки есть.
Но она все равно скрывала.
Мама обогнала меня, видимо, не хотела продолжать разговор. Она всегда смотрелась тонкой, но в ее худобе не было субтильности, ее мышцы крепко скрепляли косточки, фигура выглядела подтянутой и рельефной без вмешательства жирка. Теперь казалось, что сила ее мышц тает, она стала хрупкой и слабой, как многие другие красивые женщины. Лужицы и гусеницы будто искореняли из нее индивидуальность, и она терялась среди прочих, сделавших такие вещи со своим телом практически по собственной воле. Тем не менее это не убивало ее, а лишь притушивало. Поэтому когда вдали показался наш дом, мама остановилась и сказала:
– Кто быстрее до подъезда?
Пока мама была в больнице, я отчего-то жил у тети Иры. Я не мог понять, почему бы бабе Тасе снова просто бы не приехать в нашу комнату. Она все равно сидела на пенсии, и делать ей было нечего. Однажды я даже спросил об этом у тети Иры.
– А действительно… – задумчиво протянула она.
Жить у нее было тягостно, у тети Иры росли две дочери, шести и восьми лет. Они были младше и совершенно меня не интересовали. К сожалению, они не разделяли мою позицию и везде таскались за мной хвостиком. Иногда, чтобы занять себя и их, я рассказывал им свои истории, в которых не говорилось ни слова правды. Но они были слишком маленькими, чтобы это понять, поэтому даже поверили, будто я однажды откусил змее голову. Тетя Ира мне не открывала завесу маминой тайны, хотя я выпрашивал по-всякому.
Возраст мне тоже не позволял делать многое. Например, навестить маму в отделении. Когда я катался на велосипеде один, я доезжал до больницы и ездил вокруг территории, думая, а вдруг случится чудо и маму выпустят погулять именно в этот момент. Я не дежурил там день и ночь, у меня имелись и свои дела, просто если уж я куда-то ехал, то туда.
Мама вернулась из больницы, когда я был в школе. Придя домой, я обнаружил на столе записку, в которой она звала меня вечером на каток. Якобы в это время там никого нет, весь лед будет наш. Я знал это и без того, даже если бы на катке занимались другие люди, весь лед все равно был бы нашим. Когда мы приходили на детскую площадку, она вся становилась наша, как и магазины, автобусы и даже чужие квартиры. Мы с мамой умели замыкаться в собственном мирке и не обращать внимания на окружающую обстановку.
Я добежал до стадиона, когда мама уже шнуровала коньки. Хотя она и выглядела болезной, но не больше, чем до больницы. Может быть, в своей спортивной форме на любимом льду она казалась даже чуточку здоровее. Я думал, мне тоже придется кататься, но она не предложила мне выйти на лед.
– Обследовала руку? Вылечила?
– Вруби-ка музыку. Там должна лежать кассета «Led Zeppelin».
Несколько песен мама разогревалась, ездила по льду, разминала шею и руки, словно готовилась к бою. Движения у нее стали более резкими, нервными, будто ей приходилось преодолевать какое-то сопротивление, и от разгона инерция периодически уносила ее вперед. Несколько раз мама спотыкалась, резала лед коньками, а один раз даже упала, но тут же поднялась, будто бы продолжала выступление, хотя движения ее были разрозненными и не складывались в общий танец. Мне хотелось сказать, что она устала, что нельзя танцевать после больницы, но отчего-то я понял, что это бы обидело ее. Она же уже была взрослая, в тридцать лет она должна знать, как это правильно.
– Гришка, найди «Babe I'm Gonna Leave You», – у мамы был ужасный русский акцент, она даже не старалась, – Мы с девчонками начинали ставить танец под эту песню, они бы просто всех порвали. Сейчас это смешно, что под эту песню, да?
Я не понимал, почему это смешно, поэтому даже не кивнул ей в ответ. Тревога нарастала будто бы не изнутри, а окружала меня снаружи, забирала мой воздух, и мне становилось душно в пустом ледяном стадионе. Я молча домотал до нужной песни и снова прижался к бортику.
Заиграла музыка, и мама собралась, выпрямила спину, вздернула подбородок и плавно поплыла по льду. Ее движения были стремительными в начале, но почти всегда заканчивались воскообразно протяжно. Она вскидывала руки с силой, будто бы собиралась что-то поймать, а опускала так, словно это что-то оказалось полупрозрачным маленьким перышком, медленно парящим вниз, за которое не так легко ухватиться. Мама выпрыгивала, крутилась в воздухе, будто заводная, и я знал, что назвать лутцом, а что акселем. Прыжки шли друг за другом, она не давала себе передохнуть, и каждый раз, когда она приземлялась одной ногой на лед, мое сердце вставало на месте. Под конец песни мама долго крутилась волчком, вытянув свободную ногу вперед и прижавшись к ней лбом, как птица прячет голову в крыльях. Остановив вращение, она впервые за весь танец оступилась. Казалось, что если она выполняла такие прыжки, она не могла упасть на ровном месте.
Мама подъехала к бортику и прижалась к нему с другой стороны.
– У меня рак, – сказала она.
Это мама правда сообщила мне, что умрет? Это жутко, это смертельно, я это знал и в одиннадцать, это заболевание уже стало страшилкой. Я смотрел на маму и не знал, что сказать. У нее тоже не было слов, губы ее болезненно сжались, и она качала головой. Я думал, что если скажу что-то не так, она расплачется, хотя сейчас глаза, несмотря на все несчастье в них, казались сухими.
Но я все-таки сказал не так.
– И ты умрешь?
И мама все-таки заплакала, по ее щекам на ветровку стекали крупные слезы.
– Нет, нет, не умру. Нужно чуть-чуть собрать денег, и мне сделают операцию и вырежут опухоль. Она, правда, большая будет, много отрежут, грудь и вокруг ткани, но после нее все станет хорошо.
То, что маму порежут на кусочки, не было хорошо, и я тоже заплакал, смотря на ее слезы.
После этого я возненавидел свой велосипед, если бы мама не купила его мне, у нее осталось бы больше денег. Я все говорил, давай его продадим, и кассеты мои продадим, и мои кроссовки, и пластиковых животных, и даже мою кровать, но мама в ответ качала головой.
– Я же хочу, чтобы ты у меня был самым быстрым, так что не выпендривайся.
А я был готов и себя по кусочкам продать, чтобы кусочков мамы оставили побольше. Я спрашивал всех своих друзей, не хотят ли они купить мой велосипед, но ни у кого из них не хватало денег даже на звоночек. И у их взрослых в основном не находилось средств на него, да они и не заинтересовывались. Мне удалось продать только несколько наклеек и мяч, это было стыдно, и мама приняла мои деньги не потому, что они бы ей сделали погоду, а лишь только бы не обидеть меня. Парочку раз я помогал одному дядьке из соседнего двора чинить машину, но я ничего особенно не умел, поэтому за то, что я подавал ему инструменты, он заплатил мне не больше, чем вышла моя выручка от наклеек.
После того танца мама больше не поднималась, с каждым часом она сникала все больше. Она перестала ходить на работу, хотя целыми днями где-то пропадала. А возвращалась домой усталая, слушала музыку и рассказывала мне истории из своего детства. Раньше она не была такой сентиментальной, но через пару недель я уже знал по именам не только ее одноклассников, но и всех ее любимых дворовых собак, которых она подкармливала.
Однажды мама покрасила свои светлые русые волосы, передавшиеся мне, в яркий рыжий цвет.
– Зачем? – только и спросил я. Когда она сушила голову полотенцем, на котором оставались рыжие разводы.
– С пятнадцати лет хотела, но все откладывала. Думала, поседею, точно буду краситься. Круто, а?
Но она не поседела. Передо мной сидела незнакомая женщина с исхудавшим лицом, тусклыми глазами и с кричащими неестественными волосами.
Одним вечером мама объявила мне, что на следующее утро поедет в больницу. Я так и не понял, собрала ли она деньги или подошла ее очередь, но в любом случае мама подавала это событие как свою победу. Она улыбалась, и мне казалось, что даже ее зубы потускнели. Мне не удавалось воспринимать это как хорошую новость – завтра маму положат резать. А это значило что? Что так она не умрет? У меня не получалось произнести это как утверждение, хотя мама говорила без вопросительных интонаций. Мне казалось, что мама на самом деле тоже не может обрадоваться тому, что завтра ей отрежут грудь и мягкие ткани вокруг нее, чтобы что-то там не случилось. Я не знал, что это за ткани, может быть, мягкими они были потому, что не были жесткими, не были костями. Иногда я представлял, что их просто вырежут большими ножницами, оставив на маме квадратную дырку, но все не мог понять, какого она должна быть размера. Может, как ее грудь, а может, углы будут заходить на шею, живот и даже руки. А иногда у меня появлялась совершенно дурацкая и страшная фантазия, что раз эти ткани такие мягкие, хирург возьмет валик и будет вертеть его в ране, вытягивая одну мягкую ткань за другой, как мороженое.
Сказав эту новость, мама еще долго стояла и крутилась перед зеркалом, бабушкиным подарком на ее двадцатипятилетние. Она, не стесняясь меня, выпячивала вперед грудь, натягивала на ней кофту, сжимала губы в мультяшном поцелуе и подмигивала отражению.
– Как ты думаешь, я красивая? – зачем-то спросила она, развернувшись ко мне.
Я закивал, в последнее время слова постоянно куда-то пропадали. Я не знал, что сказать, не мог придумать шутку, похвалить ее или даже просто что-то наболтать, как я делал всегда, если у меня не выходило четкого ответа. Молчуном я никогда не был, но сейчас казалось, будто бы все тропки разговоров завалило камнями, и я знал, что они где-то есть, но не мог на них даже посмотреть.
– Ну и хорошо. Пойдем зайдем к Наде и Кириллу, предупредим на всякий. Я завтра провожу тебя в школу, и, скорее всего, Ирка заглянет вечером и заберет тебя к себе, пока я буду в больнице. Я еще не предупреждала ее, но сейчас дойду до ее дома.
– Ты вещи собирай, а я на велике сгоняю быстро.
Мама посмотрела на меня холодно, и я испугался, что зря упомянул свой дурацкий велосипед.
– Я сама в состоянии.
Мы зашли в соседскую комнату. Тетя Надя и дядя Кирилл смотрели «Клуб путешественников» по телевизору. Ее живот арбузом возвышался над диваном, и иногда я думал, вдруг они просто не знают, и на самом деле у нее там тоже опухоль, а никакой не ребенок.
– О, Тома, привет-привет, – они оба как-то растерялись. Дядя Кирилл встал с дивана, закрыв собой тетю Надю. И я как-то сразу понял, что он сделал это не по случайности и не из невежества. Он загородил своим телом жену от моей мамы и беды, растущей в ней. Рак не был заразным – это не чума и даже не простуда, но от него все равно хотелось бежать.
Тетя Надя не попыталась вылезти из-за спины мужа, она только виновато улыбнулась. Мамин взгляд остановился на ее животе, ее лицо вдруг ожесточилось.
– Я завтра уезжаю, Ира может заходить в комнату, – холодно сказала она.
– Э-э-э… далеко? – Кирилл чесал затылок, он чувствовал себя неловко, и он, очевидно, хотел задать более конкретный вопрос.
– Гриша, пойдем.
Мама схватила меня за руку неожиданно сильно для ее слабеющего тела. Она потащила меня в коридор, видимо, даже не замечая, сколько сил отдала в свой кулак. Оказывается, мама решила повести нас на улицу, она на ходу влезла в туфли, и я, лишенный одной руки и времени, кое-как надел сандалии, не застегнув их, и с болтающимися задниками засеменил за ней. Мамино внезапное дело казалось срочным, но в то же время она недостаточно торопилась, потому что отчего-то не стала дожидаться лифта, а потащила меня за собой на лестницу. Может быть, она обнаружила в себе нераскрытый запас энергии, который захотела потратить на движение.
– Мама, а куда мы идем? – спросил я, когда мы уже были на улице и распугали всех дворовых котов своей стремительностью.
– К тете Ире, – ответила она тихим, совершенно не интонируемым голосом.
Уже несколько лет мама не водила меня за руку, этот возраст прошел, я вырос. В одиннадцать такие жесты с родителями казались сюсюканьем, позором, но я и не подумал отпустить ее ладонь, даже когда мы проходили через двор с моими друзьями. Отчего-то мне было тревожно, будто мама вела нас на расстрел, не зная об этом сама. На этаж тети Иры мы тоже взбежали по лестнице, к вершине которой моя мама-спортсменка тяжело дышала.
Дверь нам открыл муж тети Иры, и мама с порога выдала ему, что я завтра приду к ним после школы, так как она будет в больнице. Мама смотрела на него так, что если бы он отказал, она ударила бы его коленом в живот. Но он и не думал не соглашаться, он все сразу понял и был готов помогать. Его положительность немного смягчила маму, и когда он закрыл дверь, она наконец отпустила мою руку.
Мои пальцы покраснели, и я чувствовал, как будто расправляются косточки в руке.
Мы спустились по лестнице и встали в пролете между этажами. Воняло мусоропроводом, но мама почему-то здесь остановилась и заглянула в окно, между рамами которого засохли мухи. И правильно, что погибли, скоро тепло постепенно оставит наш кусочек света, наступят осенние, а потом и зимние холода. Мама постучала по стеклу, и одна из мух, болтающаяся на паутинке, упала вниз.
– Знаешь, Гришка, если тебе будет что-то не нравиться в твоей жизни, посылай их всех смело на… – она тяжело вздохнула, – на все четыре стороны.
Мама всегда так и делала. Когда ей было комфортно, она казалась смешной, дружелюбной и даже милой, но стоило задеть ее хоть пальчиком, она отважным голодным медведем после спячки бросалась на обидчика. Это сегодня мама расстроилась, разозлилась и сбежала. Может быть, когда она боролась с такой великой вещью, как рак, побеждать небольшие обиды было не столь важно.
– Прямо туда и посылать? – я хотел спросить это таким тоном, чтобы мама поняла, что я знаю, куда это туда посылать, но вышло как-то тускло, как ее кожа.
– Посылай, – мама махнула рукой. Ее ладошка тоже до сих пор казалась красной. Она слабо улыбнулась. – Хотела сказать, «когда тебя еще в проекте не было», но в планах и проектах тебя никогда у меня не было, но не принимай близко к сердцу. Короче, как только я только узнала о том, что ты у меня появился и начал жить внутри живота, я была немного обескуражена. Моя тренерша сказала мне, что девятнадцать лет – это уже не возраст начала моей карьеры, если я оставлю спорт на время беременности, кормления и прочих радостей, то обратно мне не вернуться. И несмотря на то, что мои успехи были только на уровне нашей области, она все равно уговаривала меня остаться в спорте и сделать… это с моей беременностью. И она это преподносила так, будто выбор очевиден, понимаешь? А мне нравилось кататься, но я знала, что все равно через несколько лет я стану тренером. И я послала всех в задницу и ни капельки не пожалела.
– Понятно.
Были в ее интонации и отчаяние и гордость. Она будто бы с вызовом посмотрела на мне в глаза, ждала моей реакции, а у меня и не вертелось никаких мыслей. Будь мама в форме, она, наверняка бы добавила что-то едкое, например, будто она ни капельки не пожалела, кроме того случая, когда я объелся малиной и меня вырвало на ее куртку. Никакой шутки я так и не дождался, она с шумом выдохнула через нос и погладила меня по голове.
Мы вышли на улицу, и у нашего подъезда к маме подошел какой-то дядька. Он, видимо, видел ее не так часто, потому что сразу отвесил комплимент ее волосам. Затем он нехорошо осмотрел ее, будто искал, сколько вещества из ее тела вымыла болезнь. Мама отправила меня домой, а сама осталась поболтать с этим дядькой.
Сначала я решил почитать, открыл «Голову профессора Доуэля», но тема разрезанных людей меня сейчас не только не прельщала, а даже немного пугала. По сути профессора тоже лишили кусочков тела, просто ну очень больших. Поэтому я от скуки пошел к окну, чтобы посмотреть, что мама там делает.
Она лежала на скамейке на боку, будто бы вдруг стала бомжом. Дядька ходил вокруг лавочки с сигаретой, люди, шедшие мимо, останавливались и смотрели. Мне в голову не пришла ни одна разумная мысль, я подумал, что поганая киста могла лопнуть и грязная жидкость все заполнила, или с ней что-то сделала ее анемия или даже сам рак. Издалека я заметил машину скорой помощи и ринулся вниз на улицу, едва не потеряв свои тапки у подъезда.
Когда я выбежал, я успел увидеть только ее ноги в туфлях, которые исчезли за дверями машины. Это было дурным знаком, я знал, что покойников выносят ногами вперед, и хотя в скорую ее погружали вперед головой, мне все равно это казалось предвестником беды.
Мамин дядька уложил ее и остался снаружи.
– Стойте, не увозите, это моя мама, – я думал, что я это крикнул, но вместо этого послышался только шепот. Я встал рядом с дядькой, и мы оба смотрели вслед скорой помощи, которая увозила ее.
– Что случилось? – спросил я у него.
– Судороги, – ответил он, не взглянув на меня. Кое-что я знал, но не наверняка, мне виделись сжатые зубы, пена изо рта, изогнутые тела, словно доктор Франкенштейн пропустил через них ток. Я понимал, что я могу представлять все не так, от этого я чувствовал себя безмерно бессильным, ведь даже не знал, что там с ней происходит. И может, оно было хорошо, потому что так картина, которую я вообразил себе, мне совсем не нравилось. Мне казалась и непонятной связь, как ее опухоль в груди связана с судорогами, должен же быть какой-то определенный механизм, по которому ломался организм, не могла же она просто «болеть».
– Не думал, что у нее судороги могут быть, – сказал дядька. Выходит, и он, взрослый, не смог бы дать мне ответ. Я посмотрел на него, пытаясь разглядеть получше. На нем была кепка, похожая на картуз, козырек которой бросал тень на лицо, и у меня не выходило хорошенько рассмотреть его. Он был мужественным, большим, может, даже принцем, которого помотала жизнь.
Я подумал, а вдруг это он?
– А вы случайно не Илья?
– Олег.
Мое отчество было Ильич, но ни одного Ильи в окружении мамы я так и не видел за всю свою жизнь. Вот я и подумал, что раз ее кладут в больницу, то это самое благоприятное время, чтобы появиться перед своим сыном. Но так как он не был Ильей, то пускай катится на все четыре стороны.
Я растерялся, не понимал, что нужно делать, поэтому поднялся в нашу квартиру. Состояние мамы меня пугало, но я знал, что не должен беспокоиться особенно сильно, ведь ее уже забрали врачи, это самое главное. Сейчас я никак не мог ей помочь. Может быть, стоило сходить до тети Иры, но мы там уже были. Или я должен был позвонить бабе Тасе, но мне не хотелось с ней разговаривать. Поэтому я пошел на кухню, налил себе чай и стал макать в него сухарик. Главное – довести маму до больницы, я знал такое по фильмам, а там уже ей помогут, я мог расслабиться, но у меня не выходило. Чай был темным как лужа, и мне расхотелось его пить. Сухарики тоже не лезли в горло, поэтому я просто обмакивал их и облизывал.
Потом на кухню вышла баба Зина. Она стала жарить себе кабачки, периодически кидая на меня недовольные взгляды, будто если бы она отвернулась, я мог слизать ее кабачки со сковороды.
– И чего мы здесь сидим? Где мама? – наконец проворчала она, когда поняла, что взгляды ее бесполезны.
– В больнице она.
– Давно?
– Да только недавно, вот за полчаса до твоего прихода забрали.
Баба Зина молча выключила плиту и куда-то делась. Вскоре за мной пришла тетя Ира и забрала к себе.
Ночь я провел у нее дома, потом приехала бабушка. Прежде чем передать меня ей, тетя Ира сказала:
– Если вам сейчас тяжело, я могу присмотреть за Гришей пока. Мы с ним хорошо ладим.
Она была грустной женщиной все время, что я ее помнил, не только когда мама заболела. С ней все хорошо ладили, она не создавала конфликтов, а если кто-то другой провоцировал ее, она смотрела на обидчика своими оленьими грустными глазами, и агрессия растворялась сама собой. Мне тетя Ира нравилась, к тому же и самому не хотелось ее расстраивать, поэтому с ней я вел себя исключительно хорошо.
Мне думалось, а чего это моей бабушке тяжело? Я проблем не доставлял, за мной не надо было ухаживать. Ну готовить еду, но ведь она и для себя ее делала. Ей могло быть грустно из-за болезни своей дочери, но пока я ни разу не видел, чтобы она плакала. Может быть, баба Тася тоже болела, это казалось бы логичным и даже немного правильным, она же была старше моей мамы больше, чем на целую жизнь. Да и пусть бы болела, две беды в семье не случилось бы, а если одна должна была наступить, то лучше бы не с мамой.
Когда мы с бабой Тасей вошли в нашу комнату, я сразу побежал на мамину кровать, чтобы занять ее. Пускай она спит на моем месте, баба Тася привыкла забирать его у меня, и я капитулировал перед ее старостью, но за мамину постель я был готов бороться. Баба Тася ничего не сказала мне, потому что она вообще не отличалась особой разговорчивостью, но еще долгим тоскливым взглядом смотрела на мамину подушку.
Бабка и тетя Ира стали будто бы тоже лучшими подругами. Они часто перезванивались, иногда тетя Ира заходила к нам, приносила пирожки, а лично для меня леденцы. Они обе постоянно навещали маму и обсуждали ее. Меня к маме сначала не пускали, все говорили, что я схожу попозже, поэтому я продолжал кружить на велосипеде вокруг больницы. Я пытался подслушать их разговоры и замечал, какими тихими становились их голоса, когда в беседе эхом звучало зловещее слово «метастазы».
Однажды я все-таки увидел бабу Тасю по-настоящему грустной. Слезы лились у нее из глаз бесшумным ручьем, тетя Ира беспокойными руками отсчитывала капли корвалола.
– Не видит одним глазом почти, – провозгласила баба Тася.
– Может, это какой-то спазм, – неуверенно ответила тетя Ира.
Раньше бабы Таси дома как раз жила одноглазая кошка, и она представляла жалкое зрелище. А тут они говорили о моей маме, кошка давно умерла, и вряд ли бы баба Тася сейчас вдруг вспомнила о ней.
Тогда я твердо решил, что завтра поеду с ними в больницу. Словно прочитав мои мысли, тетя Ира сказала:
– Тома все-таки который день говорит привести Гришу с собой.
Баба Тася закивала.
На следующее утро я наврал, что после третьего урока у нас вневременный субботник перед холодами, который перенесли с выходных, потому что по прогнозам как раз тогда должен был выпасть первый снег. О нем я тоже наврал, так как понятия не имел, какая будет погода. С субботника меня якобы отпустили, поэтому я рано примчался домой, чтобы собраться в больницу. Мне хотелось взять из дома что-то для мамы, чтобы порадовать ее в палате. Я долго перебирал ее вещи, вспоминая, что она любила, и в итоге взял ее золотую медаль и рижские духи.
Отчего-то я ожидал, что мама будет в очках, раз у нее почти пропало зрение с одной стороны. Но ей почему-то не дали их, она лежала, прикрыв один глаз, а другой щурила совсем не своим жестом. То ли она успела исхудать еще больше, то ли в больничных стенах это казалось для меня заметнее. Руки ее казались тоньше моих.
Когда я зашел, она не стала подниматься, но довольно бодро постучала по стулу рядом с собой.
– Моя радость ко мне пришла. Как ты?
Мама никогда меня так не называла, может быть, только так давно, что я этого уже не помнил. Я пожал плечами, дело было вовсе не во мне.
– Мам, я уже так соскучился!
– И я соскучилась, Гришенька, так бы никогда тебя не отпускала бы, – она протянула ко мне руки, и я ее обнял. Мама казалась хрупкой и костистой, как птица. От нее странно пахло больницей, будто бы та пустила в внутрь свои корни. Хорошо, что я прихватил с собой ее духи. Я протянул ей флакон с медовой жидкостью, а за ней и медаль.
– Не французские, но мои любимые, – мама заулыбалась, – И моя победа.
Она повертела медальку в руках, а потом без лишнего сожаления вложила мне в руку.
– Это тоже тебе, сохрани ее, Гришенька.
Я не понимал, почему тоже, ведь она ничего больше не вручала. Мне было жутко, то, о чем все знали, думали, но не говорили вслух, стало доходить и до меня. Я посмотрел на мамин халат, казалось, что ее грудь осталась на месте. Операции не было, ведь иначе это бы прозвучало хотя бы раз в беседе тети Иры и бабы Таси.
Все время, что мне позволили остаться с мамой в больнице, она говорила, как она любит меня, рассказывала про свое детство и гладила по голове. Я сидел на стуле рядом, и ножки его постоянно скрипели, потому что я пытался податься к ней все ближе. Несколько раз медсестра говорила, что мне пора уходить, но мама меня отвоевывала. Но в конце концов мне все-таки пришлось проститься с ней. Когда я выходил из палаты, мама улыбалась.
Ночью я неподвижно лежал на маминой подушке, которая уже вся пропахла мной. У меня будто бы исчезли мысли из головы, но в то же время я не мог не только уснуть, но и закрыть глаза. Уже когда рассвело, мои мысли снова стали набирать обороты. Я подумал, а вдруг они ошибаются? Все, даже мама. Никакой это не рак, нет никаких метастазов, и даже судороги – это всего-навсего дрожь. Что-то там в груди – просто ее особенность, потеря зрения – это конъюнктивит, слабость и худоба – это от стресса, а анемия – это просто набор букв? Не могло же такое случиться с нами, я всегда был только с ней, бабка не вмешивалась в нашу жизнь особенно сильно, с тетей Ирой они просто вместе веселились, даже для них у нас не было достаточно места, не говоря уже о болезни. И ведь если это случилось с ней, значит, что-то должно было произойти и со мной.
Я хотел поделиться этими мыслями с бабкой, но она вставала ни свет ни заря и уже покинула комнату, когда я все это надумал. Обычно баба Тася готовила мне кашу и уходила гулять вокруг дома. В этом было что-то от умалишенности, но, может быть, так она поддерживала себя в физической форме и справлялась с рассветной тревожностью. Школу я собирался пропустить: мама санкционировала это решение, чтобы я пришел к ней снова. Мне нужно было дождаться бабу Тасю, чтобы позавтракать с ней, а потом дождаться одиннадцати, чтобы вместе отправиться в больницу.
Когда дверь стала открываться, я даже с радостью подумал о том, что вернулась бабушка. Но это оказались дядя Кирилл и тетя Надя. В руках они держали белый сверток с ребенком. Он тонул в завязанном вокруг него одеяле, как моя мама в подушках. За эти дни тетю Надю увезли в больницу, из которой вернулась не только она, но еще и новый человек. Это же на два больше, чем, все думали, вернется из маминой больницы. Я вдруг возненавидел их молодое семейство. Их счастье было мне также некстати, как и им наше горе.
– Знакомься, у нас в доме новый человечек, – счастливым шепотом сказал дядя Кирилл.
– А что, мало у нас людей живет? Пусть вам теперь ЖЭК квартиру выдаст, а то втроем в комнате уже перебор жить. И баба Зина любит тишину, плач детей она не любит. А у моего деда вообще туберкулез, вот он выйдет, приедет к нам с мамой в гости, и все. Это очень опасное заболевание, а младенцы быстро начинают болеть, потом вообще умирают.
Тетя Надя ахнула и стала тыкаться носом в верхушку свертка, а дядя Кирилл уставился на меня так, будто бы как минимум увидел спящего алкоголика в своей новой машине. Постепенно его лицо стало вытягиваться, до него начало доходить, что он взрослый и может всыпать мне хотя бы словами, но из-за обрушившихся на его голову трех килограммов счастья он не мог быстро найти в себе агрессию.
Он так ничего и не успел сказать. В незакрытую дверь влетела тетя Ира. Горлышко ее свитера промокло от слез, она даже не пыталась их вытирать. Она бесцеремонно протолкнулась между тетей Надей и дядей Кириллом, но когда увидела меня остановилась, будто бы ее застукали за чем-то нехорошим, и сейчас ей будет стыдно.
– Твоя бабушка дошла утром до регистратуры и узнала,– она снова залилась слезами, спрятав лицо в рукава. Потом, словно спохватившись, она обняла меня.
Я не верил в реинкарнацию даже в одиннадцать лет, поэтому у меня не возникли мысли, что ребенок тети Нади и дяди Кирилла хранил душу моей мамы, тем более, его только привезли в этот день домой, а родился он раньше. Но если бы я обладал хотя бы частичкой паранормальных способностей, экстрасенсам бы пришлось снимать проклятие с этого ни в чем не виноватого передо мной ребенка соседей, появившемся в нашем доме в день смерти моей мамы.
Глава 2. Зорька в картонной коробке
Время тогда творило невообразимые вещи. Вроде бы детство стремительно пролетало, но в то же время дни тянулись тягуче долго, я просыпался и думал, скорее бы снова посмотреть сновидения. Ночи были беспокойные, я часто пробуждался, от этого сны лезли мне в голову один за одним. Нередко мне снились кошмары, будто бы я снова в больнице или мне самому под кожу заползают гусеницы. Но иногда я видел что-то хорошее или даже смешное. Однажды мне снилась и мама, мы стояли с ней в очереди за овощами, а нам взвесили шоколадные конфеты, и она отдала их все мне, только фантики облизала.
Баба Тася на похоронах все говорила – «она же спортсменкой была, как это могло-то выйти?». Мне становилось вдвойне обиднее, раз спортсмены в глазах бабы Таси были почти бессмертными, то у мамы оставалось еще меньше шансов заболеть. Когда баба Тася вопрошала это несколько раз подряд, она начинала выть, и даже взрослые не знали, что делать. Это был не плач и не совсем крик, а какая-то особенная женская, даже не старушеская печаль. Собралось много пьяных маминых подруг, у них покраснели носы, и они качали хмельными головами каждый раз, когда пытались что-то сказать о ней. Дядьки держались спокойнее, цокали языками, вспоминая о том, что ее больше нет с нами, и всех вокруг утешали. Мне не хотелось это признавать, но сам я был жутко напуган в день похорон, плакал будто бы не от горя, а как маленький, от страха. Все вокруг меня утешали, хвалили мою бабку, говорили, что с ней мне будет хорошо, но никто из них не выглядел достаточно доверительно, чтобы я согласился с искренностью его слов.
Когда передо мной склонилась непонятно откуда-то взявшаяся мамина кузина, я уже был уставшим от суеты вокруг. Мне хотелось пойти в кровать, я совсем не знал, что делать на этих поминках, но уж точно не хотелось говорить с малознакомыми людьми.
– Это период, пойми. Когда-нибудь все наладится.
На ней была черная шляпа с полями и перламутровые малиновые губы.
– Это кто тебе сказал? – мой голос прозвучал резко, но мне это понравилось. Мамина кузина, я не помнил ее имя, смутилась, может быть, она не ожидала, что и я обращусь к ней на «ты».
– Это само собой разумеющееся. Это и не надо говорить.
– Вот и не надо.
Я тогда вдруг обнаружил, что взрослым можно хамить, когда у тебя горе. Детям нет, им в основном наплевать на твою жизнь за пределами ваших границ пересечения. Но я больше этого не делал. У меня не хватало сил сидеть здесь и думать о маме, она же все равно больше придет на этот праздник в ее честь. Поэтому я отвернулся от других и никому не отвечал до тех пор, пока ко мне не подошла тетя Ира.
– Душно тут. Прогуляешься со мной?
Я медленно поднялся, как будто мне совсем неохота с ней идти, хотя это было совсем не так. Просто движения мои словно замедлились вровень бесконечно текущему дню.
Выпал первый не растаявший снег, лужи покрывались нежной пленкой. Наступало мамино холодное время, когда она могла танцевать не только на стадионе.
Плечи тети Иры поверх пальто накрывал черный платок, он был траурным, но я все равно на него смотрел, на нем оседали красивые снежинки. Их скопилось целое звездное небо, мне хотелось об этом сказать, но я постеснялся. Вместо этого я спросил:
– А заберешь меня к себе жить?
Тетя Ира вздрогнула, как будто бы испугалась гудка машины, незаметно оказавшейся за ее спиной.
– Я что, буду жить в той квартире один? С бабой Тасей я не хочу.
Хотя дни перед похоронами я жил у бабки в Зарницком, где маму и закопали, я воспринимал это как временную меру.
– Ты не можешь жить со мной, а тем более один. У тебя есть бабушка, я могу помочь тебе только со сборами вещей.
Слова взрослых воспринимались всерьез: раз не может, значит, тут ничего и не попишешь. Конечно, не всех, утверждения многих я ставил под сомнения не задумываясь, просто потому что они мне не нравились, но тетя Ира, наоборот, была мне симпатичнее других. Иногда хотелось, чтобы она меня обнимала.
Она сдержала свое обещание, и мы вместе собрали вещи. А потом я окончательно переехал к бабушке из Василевска в Зарницкий.
Баба Тася жила в двушке в девятиэтажном доме. Она отдала мне комнату деда, ему оставалось еще несколько лет отсидеть в тюрьме, прежде чем он сможет заявить на нее свои права. Мама рассказывала, что она сама в детстве редко его видела: он выходил на свободу, расправлял плечи, набирал побольше здорового воздуха и шел обратно на зону глотать туберкулез. На самом деле ему это нравилось, он намеренно вел себя нагло, совершая очередное воровство. В тюрьме у него имелся свой статус, лучше, чем был бы на свободе. Все его пальцы были изрисованы чернилами, и мама, смеясь над чем-то своим, предлагала мне спросить его об их значении, если я увижу когда-нибудь деда.
Теперь мне приходилось спать на кресле-раскладушке с вонючими вспотевшими подушками. Баба Тася обещала, что, когда выглянет солнце, она вытащит их прожариться на улицу. Мне казалось, что если они нагреются, то будут пахнуть только отвратительнее. Я ненавидел каждый день за то, что мне приходится по утрам собирать кровать, несколько раз я пытался забыть это сделать, но баба Тася новый день начинала с проверки.
Мебель в доме была все лакированная, полы покрашены в отвратительный оранжево-коричневый цвет, а все поверхности увязаны бабушкиными салфетками. Под потолком болталась крохотная люстра с цветочным буктиком, и иногда я кидал в нее сжеванными листочками, в надежде сдвинуть эту легкую конструкцию.
Каждый раз, когда бабы Таси не было дома, я лазил во множественные картонные коробки со старыми вещами. Из одной из них я достал кусочек ткани с вышитой птицей с оранжевой грудкой. Я сразу понял, кто это, птичка-зорька. Мама рассказывала мне, как ей хотелось для выступления на льду яркий костюм, и моя бабушка вышила ей зорьку на платье. Мама тут же полюбила эту одежду, и, когда форма стала ей мала, она вырезала птичку прямо с груди. Мама брала ее с собой на соревнования, потому что ей отчего-то почудилось, будто зорька приносит удачу. Много лет после, когда мама перестала заниматься спортом, она постепенно забросила талисман в картонную коробку к ненужным вещам. Она и забыла о нем, но птичка не улетела, чтобы я тоже смог ее увидеть.
Я выбежал с кусочком ткани к бабушке и стал выпрашивать, где у нее инструменты для того, чтобы я мог сделать рамку для зорьки. Она сначала нахмурилась, озадачилась, а потом похвалила меня за инициативу и нашла доску и гвозди.
На следующий день я расправился с рамкой, повесил зорьку над своей кроватью, ожидая удачи, и окончательно заскучал.
Птичка висела над моей подушкой, и я не находил себе занятий, кроме как смотреть на нее. Иногда мне нравилось послушать по радио «Пионерскую зорьку», потому что меня смешило, что мою и мамину птичку зовут так же, а еще из-за того, что там дети рассказывали истории и я чувствовал будто бы свою причастность к ним. По факту я не был одинок, ведь я ездил в школу аж в сам Василевск, но от моих одноклассников я оказался в отрыве. Мне приходилось вставать на целую вечность раньше и нескончаемо долго ехать на автобусе до города, из-за этого я уже приезжал на учебу усталым. Даня и Мишка оставались гулять после учебы, а мне приходилось идти на остановку до Зарницкого, и наша дружба потихоньку растворялась. Другие одноклассники мне стали совсем неинтересны. К тому же я знал, что после Нового года меня переведут в Зарницкую школу.
Несколько раз я выходил из автобуса в Василевске, и, отбившись от толпы, бежал что есть мочи в Малый парк и скрывался там среди елей до конца школьного дня. Но это было холодно и небезопасно, люди могли меня заметить и рассказать моим учителям, всем стало бы очевидно, что я пропускаю занятия, поэтому я прогуливал только пару раз.
Мне совсем не хотелось изучать ни сам город, ни людей Зарницкого. Баба Тася часто мне говорила пойти поиграть во дворе с ребятами, но я только смотрел на них в окно: незнакомые мальчишки чудились мне какими-то дурацкими, а к девчонкам я стеснялся подойти сам. На велосипедах дети здесь не катались и казались мне существами с другой планеты. Когда я сообщил об этом бабе Тасе, она посмотрела на меня так, будто бы я сам с Луны свалился.
– Зима же, Гришка, – сказала она и покачала головой.
Но с одним обитателем Зарницкого я все-таки познакомился, его звали Толик-Алкоголик. Как-то я возвращался из школы и увидел около нашего подъезда инвалида. Он сидел в коляске весь красный от холода. Он казался тощим, как моя мама, только страшным и жалким. Черты его лица размылись, подпухали, несмотря на истощенность его тела.
– Здравствуйте, – сказал я, хотя мы и не были знакомы.
– Здрасьте-мордасьте, – ответил колясочник Я удивился такому приветствию, мне казалось, что инвалиды – грустные люди. Однажды я с другими тимуровцами ходил к одному дедку с палкой, он еле передвигался, и в нем мне не виделось ничего веселого. Мужик покосился на мой портфель.
– Что же, дядя, ты стоишь, смотришь как чужой, не несешь ни дров, ни книг школе трудовой.
Я не нашелся, что ему ответить.
– Вам нужна помощь? Помочь подняться в дом или спуститься на улицу?
– Жрать мне неси!
– Вы кушать хотите?
– Ясен пень, жрать давай!
У меня с собой не было еды. Слабым нужно помогать, но я не ожидал, что немощные люди могут быть такими требовательными.
– Сейчас я спрошу у бабушки.
– Это правильно! Это ты верно подметил!
Я вообще ничего не понял, поэтому, кивнув ему напоследок, понесся к бабе Тасе.
– Ба, там дядька в инвалидном кресле, он есть просит!
– Это Толик сидит, не связывайся с ним.
– Какой еще Толик?
– Алкоголик. Это брат Виталика, который живет на нашем этаже напротив. Его, спившегося, нашли в соседнем селе, от водки он всю память потерял, деньги все пропил и так истощился, что на ногах не держится теперь. Виталик с женой забрали его к себе жить. Они утром его выставят во двор и уходят на работу, а вечером забирают. Он поселился у них только этой весной, поэтому еще не понятно, станут ли они выводить его на улицу, когда придет настоящая зима.
Бабушка обычно не рассказывала мне истории, соседская сплетня оказалась одной из первых. Она даже отложила кухонное полотенце, которым вытирала чашки. Баба Тася была той еще чистюлей, ее взгляд лишался человечности каждый раз, когда она видела, как я забрасываю брюки на постель, приходя из школы.
– Да как не кормить, он же помрет.
– Конечно, помрет. Алкоголик проклятый.
– Так чего, ему не помогать что ли?
– Не всем можно помочь. Кто нуждается, тот пусть помощь и получает, а таким безнадежным – что об стенку биться.
До меня начинало доходить.
– Он что, умалишенный?
– Мозги все пропил.
Это, конечно, меня раззадорило, и я, прихватив баранок, побежал вниз снова. Толика-Алкоголика еще не увезли. Я сунул ему баранки
– Меня кстати Гриша зовут.
Он не растерялся и сразу выдал:
– Хрен до колен у Гриши, плакали бабищи.
Видимо, в его разрушающемся разуме оставались какие-то разорванные фразы, которые мозг выплевывал каждый раз, когда находил крючочек, за который можно зацепиться.
– А вас как зовут?
– Анатолий Викторович Богданов. А-на-то-лий Бо-гда-нов. Прописан в Московской области, в городе Зарницкий, улица Свободная, дом три, квартира пятьдесят четыре.
Он говорил намеренно четко, будто бы это была самая важная информация, которую я собирался ее записать. Мы с ним еще совершенно бессвязно поговорили, пока меня не начало одолевать беспокойство, что Толик-Алкоголик тут замерзнет. Зорька принесла мне удачу, так как вскоре появился дядя Виталик и завез его в квартиру. Бабушка не знала всей истории до конца: они забирали его не сразу после работы, ведь Виталик выходил из дома.
Когда я поднялся, бабка вышла ко мне с постным лицом.
– Сказала тебе, не связываться с ним.
– И чего?
– Слушаться меня надо.
Я махнул рукой и ушел в комнату. Баба Тася меня не пугала. Вскоре она зашла ко мне, и я сначала подумал, что она все-таки хочет развить конфликт. Но баба Тася сказала:
– Завтра бы нам в церковь сходить. Свечки поставить.
Я так и не понял, спрашивает ли она меня, предлагает или безапелляционно утверждает необходимость.
– Пионеры по церквям не ходят.
– Тогда не надевай галстук.
Я никогда не заходил внутрь церкви, видел только издалека купола и кресты. Я так и не понял, была ли моя мама коммунисткой в сердце, но по священникам она не ходила и икон не держала. Бабушкина Зарницкая церковь была белокаменной, гладенькой, как выбеленный потолок после ремонта. Ее украшало пять черных широких куполов, напоминавших мне изысканные блюда с огромными круглыми крышками из мультфильмов, которые повар горделиво снимал при подаче второго. А сверху, конечно, возвышались кресты, уводившие от гастрономических ассоциаций к мыслям о смерти и похоронах.
Внутри церкви меня сразу ударило запахом ладана, от него становилось душно, как в бане. Огонечки на свечах дрожали, посмотришь на них – и все плывет перед глазами. Со стен глядели грустноглазые иконы с некрасивыми людьми. Мы купили тоненькие свечечки, я хотел быстрее сунуть свою в нужный угол и пойти. Таинства меня не завлекали, хотя все располагало к ним. Моя тихая бабушка стала еще незаметнее, она будто исчезла перед величием Бога. Да и другие люди в церкви не казались таким уж значимыми.
Когда мы вышли, я подумал, что в церкви я и сам весь скукожился, будто бы из меня выкачали всю воду, только вот не из тела, а из самой моей сути. Все там блестело, золотилось внутри, это должно было вызвать у меня ассоциации с праздниками или дворцами, и я попробовал представить в стенах церкви веселого короля. Но и он в моем воображении, оказавшись внутри, становился хмурым.
– Понравилось в церкви? – спросила баба Тася.
– Не-а, сложно там как-то, – честно сказал я.
– А я сама ничего не понимаю. Мне как-то давали Библию почитать, но я мало запомнила. Хожу туда и не всегда знаю, кто на иконе изображен. Я и молюсь по-своему, но чувствую, что он слышит и защищает меня.
– А чего только тебя?
У спокойной и хмурой бабы Таси промелькнули вдруг живые резвые эмоции, она раздражилась.
– Всех защищает. А ты еще маленький, чтобы понять.
А я был и слишком маленьким, чтобы маму терять, это меня обидело, и я убежал вперед от бабы Таси, и, пока она доковыляла до дома, я уже слушал музыку по нашему с мамой магнитофону.
Она зашла ко мне в комнату.
– Включи потише.
Я сначала делал вид, что не слышу ее, но она продолжала стоять и смотреть на меня, поэтому я сдался и убавил громкость.
– Радио любишь?
– Это магнитофон.
На следующий день она принесла мне стопку журналов «Юный техник», среди которых были номера позапрошлого года и один самый новенький.
– Сходи в двадцать третью квартиру, там живет Екатерина Ивановна, у нее сын увлекался радиотехникой. Потом пошел в армию, погиб в Афганистане. У него осталось много деталей и старых приемников, она тебе их даст.
Мало мне было смерти вокруг, но я все равно сходил. Екатерина Ивановна до сих пор имела траурное лицо, но она не стала нагружать меня воспоминаниями и отдала детальки от своего сына. Я высыпал их перед собой, это был целый конструктор, и в первый вечер мне даже хотелось разобраться во всем этом. Я листал журналы с яркими обложками и желтеющей бумагой, рассматривал схемы, но когда я вчитывался, у меня не выходило вникнуть. Вскоре они мне наскучили, и я их забросил. Еще какое-то время я прикручивал одни детальки к другим, разбирал и заново складывал старые приемники, но и их я отложил.
Баба Тася записала меня в местную библиотеку, она казалась куда меньше, чем в Василевске, но из-за этого казалось, будто в ней хранится множество тайн. Я подумал, что было бы здорово походить тут между стеллажами и заглянуть в самые пыльные уголки, но делать это сразу мне не захотелось. Поэтому я взял книгу по совету тетеньки в толстых очках, работавшей там. Это был сборник рассказов про собак под названием «Эльбрус находит след». У женщины, написавшей его, была смешная для тематики книги фамилия – Волк. Я любил животных, но читалось не очень-то охотно. На всякий случай я спросил у бабы Таси, не можем ли мы позволить себе щенка, но она сразу отказала мне и принялась поправлять многочисленные связанные ей коврики и настоящие цветастые ковры, будто бы только одно упоминание собаки могло их замочить.
– Тебе нужно найти занятие по душе, отвлечься, а то кем ты вырастешь, – говорила мне баба Тася, когда заставала меня лежащем на кровати под зорькой или прыгающим в такт музыке.
В Василевске я посещал туристический кружок, и иногда мама подумывала, не записать ли меня на футбольную секцию, когда видела, как я гоняю мяч по двору с друзьями, но у нас постоянно что-то не складывалось, тренер то болел, то уволился, а то мы с мамой забывали. Я думал, обрадовалась бы мама, что я хотя бы в Зарницком записался в секцию, но быстро решил для себя, что ничего от нее не осталось, чтобы гордиться мной. А если воображать то, что было бы, то всем известно, что от этого во рту могли вырасти грибы. Поэтому я не рассказал бабе Тасе ни про футбольную секцию, ни про кружок, о котором она могла вспомнить сама – мы с мамой рассказывали ей о моих походах, но эта информация не сохранилась в ее памяти.
Как-то утром, пока баба Тася гуляла вокруг дома, я лежал в кровати, задрав ноги на стену, и смотрел на мамин символ удачи на ней. Тогда у меня появилась идея, я решил словить настоящую птичку зорьку и поселить у себя.
Был выходной день, поэтому я до обеда ушел гулять в лес на ее поиски, прихватив с собой картонную коробку и хлебные крошки. Лес уже запорошило снегом, деревья казались одинокими без листвы, но это было мне только на руку. Оранжевое пятнышко должно было разглядываться легче, но мне попадались лишь гроздья рябины, которые я каждый раз издалека принимал за зорьку. От бабки я узнал, что второе ее название малиновка, поэтому я все пытался найти кусты малины, но не мог их опознать без листьев. Сугробы намелись еще хлипкие, я старался ходить только по тропинкам, но все равно набрал полные сапоги снега, ноги заиндевели, и мне пришлось возвращаться домой, не добившись никакого результата. Тогда я решил вечером пойти в библиотеку и поискать книгу про птиц, чтобы лучше изучить зорьку и понять, где она обитает.
Мне хотелось найти свои следы и по ним выйти из леса, но в выходной день их уже успели затоптать, поэтому я шел по тропинкам, вспоминая, где повернул. Когда из-за деревьев стали виднеться дома, мне вдруг в лицо ударился плотный комок снега. Я поднял взгляд от своих мнимых следов и увидел, что прямо на меня бежит девочка примерно моего возраста. Она казалась на треть головы выше меня, ее темно-русые кудрявые волосы растрепались и вылезали из-под вязаной шапки, а лицо раскраснелось от движения и холода. Сзади меня раздался смех, я обернулся и увидел, что там стояла еще одна девочка со снежком в толстых варежках, для которой, видимо, и предназначался этот удар.
Растрепанная девочка добежала до меня и тоже залилась смехом.
– Я не в тебя хотела, – сказала она и выставила вперед локоть, будто бы я сам собирался ответить ей снежком в нос. Из-за локтя в красной куртке я едва мог разглядеть ее лицо, но смог отметить блеск в ее зеленых глазках и трещинку на кукольных губах.
Девочка немного нахмурилась и спросила:
– А ты из какой школы?
– Номер четыре в Василевске.
– О, кто пожаловал в нашу глушь.
Она сорвалась с места и побежала дальше к своей подружке. Если бы я ответил ей и кинул в нее снежок, я мог бы познакомиться с ними. Девочка мне понравилась, я уже готов был набрать в руки боеприпасов, чтобы атаковать ее со спины, но она успела добежать до своей подружки и они вместе смеялись, наверное, надо мной, поэтому я не стал делать этого.
– Наденька, ну осторожнее же надо! – услышал я мужской голос. Неподалеку стоял дядька в нелепом лыжном костюме, который запоздало спохватился о том, что его дочка швырнула в меня снегом. Он замер посреди сугроба недалеко от тропинки, чтобы не мешать никому пройти. Мужик был совершенно нелепого вида, мялся с ноги на ногу и, когда я на него посмотрел, виновато мне улыбнулся, будто бы среди нас двоих взрослым был я.
С именем Надя у меня остались неприятные ассоциации, но они не испортили впечатление об этой девочке. Я думал о ней весь вечер и жалел, что не успел рассмотреть как следует ее лицо. Вот если бы у меня получилось разозлиться на нее в тот момент, я мог бы повалить ее в снег, пускай она даже бы посчитала меня чокнутым. В Зарницком жило около восьми тысяч человек, это казалось много, но в то же время я знал, что не так уж, и, скорее всего, я встречу ее снова. Тем более она, должно быть, жила неподалеку.
Еще несколько дней я гулял около леса, вглядываясь в прохожих, но ни Надя, ни ее подруга, ни даже ее папа мне не встречались. Поэтому я вернулся к своему первоначальному плану и пошел в библиотеку узнавать про зорьку. За книжками я просидел весь день, у меня даже заболели глаза. Это была какая-то странная боль, картинки в моем поле зрения покрылись размытыми пятнами, будто бы экран телевизора облили водой. Голова разболелась, но через четверть часа все закончилось.
В библиотеке я успел выяснить, что зорька имела несколько имен. Кроме малиновки, она носила еще и свое официальное название – зарянка. На зиму она улетала в теплые страны, а это означало, что до весны мне было совсем нечем заняться.
Глава 3. Метка дьявола
Новый год прошел неинтересно, мы отмечали у подруги бабы Таси, тоже бабки. К ней на праздник приехали сын, сноха и их ребенок, но ему было пятнадцать, и он не хотел со мной общаться. Он пальцем нарисовал на моей тарелке в майонезе слово «додик». В каникулы баба Тася все гнала меня на улицу, говорила, что мне нужно двигаться и дышать воздухом, но я не понимал зачем. Я же не собирался становиться спортсменом. Иногда меня веселил Толик-Алкоголик, я совсем перестал его бояться и периодически намеренно к нему подходил с какой-нибудь совершенно бессмысленной фразой в ожидании того, как он за нее зацепится. Особенно я любил, когда он матерился или сыпал пошлости. Немногие взрослые позволяли себе подобное при мне.
Например, однажды, когда уже стемнело, а дядя Виталик все не забирал его, я спросил:
– Тебя, наверное, в подъезд завести нужно?
– Скажем дружно: «Нахер нужно!», – тут же ответил он, правда еще более невежливо. Это фраза запомнилась мне, и каждый раз, когда баба Тася говорила, что мне нужно погулять или съесть суп, я мысленно повторял ее, хотя еще не решался произносить вслух. Я был в восторге от Толика-Алкоголика, мне казалось, что он больше всех в мире знает присказок и прибауток. У меня появилось ощущение, что мы с ним подружились, хотя я не был до конца уверен, что он узнает меня.
Со старой школой и друзьями я простился легко. От моей жизни в Василевске и так ничего не осталось, я ни за что оттуда не держался. Скучал я разве что по тете Ире.
В каникулы баба Тася водила познакомить меня с учительницей, я знал, куда мне идти, поэтому она не стала провожать меня. Когда я спустился вниз, Толика-Алкоголика уже вывезли на улицу. Вокруг никого не было видно, но на всякий случай я решил оглядеться, чтобы убедиться в этом, и смело перекинуться с моим другом-колясочником парочкой фраз. Вдруг я увидел, что около ступенек чуть лежит зажигалка, заметенная снегом. Мне стало интересно, и я поднял ее. Она оказалась бензиновой, уже потертой, но с виду рабочей. На ее корпусе были нарисованы олимпийские круги. Такими вещами не разбрасываются, ее явно кто-то обронил, доставая ключи. Я чиркнул пальцем по колесику, и появился огонек с чуточку масляным запахом.
– Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось, – сказал Толик-Алкоголик, будто бы узнав о моих намерениях. Я положил зажигалку в карман. Когда я обернулся, он уже снова требовал принести ему «жрать» и никаких жизненных советов мне не давал.
В школе учительница сразу представила меня классу. Она говорила, будто бы тут я найду себе не только друзей, но еще и поддержку, поэтому я понял, что она уже все заранее разузнала про мою жизнь. Ее звали Марина Васильевна, ее волосы походили на парик, и одевалась она как бабка, хотя и не казалась старой. Она рассказала всем, что у меня скоро день рождения и пожелала, чтобы к этому времени я уже успел найти себе друзей, которых бы пригласил в гости. Каждый в классе вставал и представлялся мне, но их было слишком много, поэтому я никого не запоминал. Все они странно на меня смотрели, и никто мне не приглянулся.
На перемене ко мне подошел Зубков, высокий мальчик с обиженным лицом.
– А что это у тебя? – он ткнул розовым пальцем мне в щеку. Я сразу понял, о чем он спрашивает, хотя уже давно не вспоминал о родинках на моем лице. В Василевске у меня редко появлялись новые знакомые, а все старые уже давным-давно спросили о них. Мою левую щеку украшали четыре симметричных родинки, каждая из них была не больше спичечной головки, но они все равно привлекали внимание своим расположением, вместе они будто бы ложились по углам ромба или креста. Как-то мы с Даней даже мерили линейкой расстояние между родинками, выходила погрешность в несколько миллиметров, но все равно результаты казались чудесными. Из-за них в моей прошлой школе у меня была кличка Четверка, и каждый раз, когда мне ставили аналогичную оценку, весь класс хихикал.
– Родинки, – остроумный ответ не лез мне в голову.
– Да ты пятнистый.
– Как оспа.
Несколько ребят посмеялись, а некоторые посмотрели на меня с неодобрением.
– А ты что, болел ею? – послышался новый хиленький голос, и я не смог распознать, смеялся он надо мной или правда был глуповатым.
– Не болел он, – авторитетно сказала девочка, чью фамилию я сразу запомнил – Лабода.
Она понизила голос до шепота:
– Может быть, у него метка дьявола. Я слышала, он может оставлять свои отметины.
– Какая чушь, – возмутилась девочка с толстой косой.
– Это что, он печать свою ставит, что ли? – залился смехом мальчик, чью фамилию я тоже не запомнил.
– Помолчи, Гончаров. Это следы его когтистой руки. Или даже копыта.
Мне казалось, что большинству не понравилась фантазия Лабоды, однако вскоре ко мне прицепилось новое прозвище – Меченый. Я все боялся, что оно может незаметно трансформироваться в Моченого.
Потом меня звали покидать мяч после уроков в зале, просили больше рассказать о себе, спрашивали, какие песни я слышал. Я не волновался насчет нашего знакомства, но вся перспектива общения с ними казалась мне тусклой и бессмысленной, поэтому я не принимал приглашения, а о себе говорил неохотно. У меня сложился образ любимого бабушкиного внука, потому что я всем повторял, будто мне нужно ей помочь, а большинство историй сводил к ней, никому не хотелось долго слушать про стариков.
За день привыкнув к раздражающему вниманию, я вообразил, что кто-то обязательно захочет пройтись со мной, потому что мой дом мог оказаться кому-то по пути. Но это вышло не так, из трехэтажного мокрого кирпичного здания я вышел один. Школа походила на старый форт или остатки крепости. Вокруг она была обнесена металлическим забором из спаянных прутьев, он вызывал у меня ассоциации с коваными воротами замков. Поэтому вместо коробки ржавого цвета с потрескавшимся асфальтом вокруг я смог представить нечто сказочное. Мне даже захотелось с кем-то поделиться моим видением, но была опасность, что мой рассказ не пройдет бесследно, и я мог оказаться вовлеченным в дружбу с этими незнакомыми людьми.
Я пошел по направлению к своему дому. Взглядом я наткнулся на разбросанные окурки под козырьком подъезда. Видимо, вчера около него сидела пьяная компания, либо кто-то один очень сильно нервничал, ожидая чего-то у дома. Козырек подъезда защищал их от моросящего снега. Рядом с ним никого не было, я несколько раз оглянулся по сторонам, подбежал и сгреб охапку бесхозных бычков. Я выбрал самый большой среди них и поджег его своей новой находкой. После первой затяжки по телу пробежала дрожь, все сосудики напряглись.
Издалека я увидел, как со стороны школы идет мальчик с рюкзаком. Он вел пальцем по заборчику вдоль дома и сметал с него небольшие сугробики. Снег скопился на его меховой шапке и слепил волоски воротника зеленого пальто. Я не стал тушить сигарету, мы были с ним одного возраста, хотя он мог и рассказать учительнице, если бы оказался из моего класса. Он все приближался, шел будто намеренно ко мне, но я до последнего успокаивал себя, что он просто живет в этом подъезде. Но мальчик остановился, смотря прямо на меня.
– О, так это ты, Меченый, а я тебя в куртке не узнал. А ты меня узнал, да?
Его лицо казалось мне знакомым, но за день в школе я не успел выучить весь класс достаточно хорошо, чтобы определить, кто это, в уличной одежде. Его бледное лицо и в январе было усыпано веснушками, я подумал, что он рыжий, но заметил клок черных волос, вылезающих из-под шапки. Темные глаза казались смешливыми, хотя он и не улыбался, а по-дебильному трогал языком дырку между передними зубами.
– Я тебя не узнал, и меня зовут Гриша.
– Да, мне не нравится, что тебя Меченым прозвали, просто мы сейчас как раз с чуваками после школы обсуждали тебя, и все так называли, и приелось. В общем, короче, у меня есть друг, то есть у моего брата, его называют Арбалетчиком. Так это потому, что у парня реально есть арбалет и он из него стреляет по мишеням. Это понятно, да, откуда такое погонялово, это прикольно, нормально. А у меня в началке был позывной Синяк, так это из-за фамилии дали, но это же тупо по фамилии только, да? Я даже дрался, чтобы меня так не называли, что тогда вообще стебно вышло, типа из-за этого мне реально можно было такое погонялово дать, когда мне вмазывали и оставляли синяки. Но потом не называли. И вот Меченый – это тоже дебилоидно, только по родинкам, ладно бы шрамы там, и ты их сам поставил.
Я немного оцепенел от потока слов, который он выдал о моей кличке, даже я столько не надумал. Иногда мне нравилось зацепиться языками с кем-то, нести околесицу, но в последнее время мысли стопорились и не успевали развиться.
– Вы обсуждали меня после школы, и ты мне про это говоришь?
– Так не всем же классом, не собрание какое-то. Это типа вообще случайно получилось, типа в раздевалке нас было много, а ты уже ушел, и вот мы и говорили. А чего ты сам, что ли, не стал бы обсуждать, да?
– Ты так и не сказал, как тебя зовут.
– А, так я же фамилию свою сказал вроде, когда тебе говорил про погонялово.
– Не сказал. Синяков, что ли?
– Не, такая не существует, наверное. Синюгин Боря. Твоя фамилия Нещадный, странно как звучит, типа как Горький.
– Нещадимов, она не похожа на писательскую.
– А почему не похожа, мог бы быть такой Григорий Нещадимов, поэт, значит, какой-нибудь. У меня сестра поэзию любит, все читает, учит стихи наизусть. Мамка говорит математику подтягивать, она девятый класс заканчивает, скоро поступать, а та хочет только всякую лирику сочинять. А ты не боишься гепатитом заразиться?
Бычок давно догорел, но я все еще сжимал в пальцах, приподняв руку, будто собираясь кинуться им в Борю. Но пока не хотелось этого делать: несмотря на свою говорливость, он мне скорее понравился.
– Через сигарету не заразишься. Тем более она с фильтром.
Я знал, что фильтр не имеет никакого отношения к тому, может ли сигарета стать разносчиком инфекции или нет, скорее мне хотелось проверить его.
– Думаешь, нормально? У моего деда и дяди просто гепатит был, правда, из-за того, что они много пили.
Он взял еще один бычок с земли, который не попал мне в руку. Я по-настоящему, по-взрослому поднес зажигалку к его сигарете и от того же огня поджег себе новый.
– Это что, «Зиппо»? Охренеть, откуда у тебя? У нас машина есть, можно будет бензином наполнять.
– А мне мой папа подарил. Сказал, уже можно, – моя ложь вышла как-то само собой, и я приготовил себя к тому, что теперь мне придется придумывать своего отца. Тем более мне казалось, что было бы здорово, если бы у меня оказался папа, который бы считал меня уже достаточно взрослым. Боря явно впечатлился.
– Ладно, пойдем ко мне, у меня брат сейчас на работе, а потом просмотр будет устраивать, так что вернется поздно и пьяный, может не заметить пропажу пачки.
Мы докурили до фильтров и двинулись в сторону его дома. Оказалось, что это был не его подъезд, он намеренно шел ко мне. Когда мы уже прошли поворот к моему дому, я вдруг понял, что не планировал дружить с одноклассниками, но раз это само собой выходило, я решил ничего не менять.
– А что это еще за просмотр, на который пойдет твой брат? Это далеко?
– Не, у них тут сквот на краю города. Короче, у моего брата, его Дима зовут, свое дело есть. Они типа копили деньги с друзьями, скинулись и купили видеомагнитофон, прикинь. И они по вечерам показывают за деньги фильмы по кассетам, соответственно, подбухивают под кино и с девочками общаются. Но это не всегда, иногда даже у них все цивильно проходит, смотря кого приведут. Сам он комса, но это он чтобы на работе легче было, а то он на наш завод пашет. Но никто его не палит, да, всем кино нравится.
В Василевске я часто рассматривал кассеты в магазине электроники, поэтому я теперь окончательно не жалел, что пошел.
– И ты тоже смотрел фильмы по кассетам?
– В их гадюшник он меня не пускает, но как-то Дима принес магнитофон к нам. Обычно он хранится у его друга, но тот уезжал куда-то на пару дней, а видак, как ты понимаешь, стремно оставлять в квартире с престарелыми родителями, поэтому Дима взял подержать его у нас. И тогда он показывал фильмы мне и нашим сестрам, похвастаться хотел, видать. Он вообще помешался на магнитофоне, ездит в город, все ищет новые кассеты. Он столько денег в них вгрохал, и я теперь не уверен, что просмотры их окупают. А может, и есть выгода, не знаю.
– А чего, у тебя и брат и сестры есть?
– Два брата и две сестры, нас всего пятеро. Хотя Даша говорит, что у нее был брат-близнец, погибший типа в роддоме, но я думаю, она врет, чтобы казаться загадочнее. Значит, Дима, ему девятнадцать, это который с видеомагнитофоном, он все обещает съехать от нас, но не делает, хотя часто ночует у друзей. Мы с ним в одной комнате живем, еще там Ваня, но ему семь, он самый младший у нас, только в первый класс пошел. С ним я нормально общаюсь, он резвый такой, но на место можно поставить. И две сестры, Даша, ей пятнадцать, она должна школу закончить в этом году, но думает пойти в десятый класс, она дура, конечно, немного. И Наташа, ей девять лет, она картавит жутко капец, может, у нее что-то неправильно с зубами, не знаю, только она картавит. А, ну и мама с папой, они оба тоже на заводе работают.
Боря жил в таком же девятиэтажном здании, как я, и тоже на седьмом этаже, только в другой стороне. Квартира у него была трехкомнатная, но не очень большая. В прихожей нас встретила собака, спаниель с черными ушами и каким-то обалделым взглядом, будто бы она впервые попала в эту квартиру.
– Привет-привет, Сабина, соскучилась, моя девочка. Это Гриша, не сожри его, – Боря стал гладить ее по висячим ушам и хлопать по спине. Собака была суетливой и будто несчастной, поэтому мне не показалось, что она может меня сожрать.
Из комнаты к нам вылетела девочка на несколько лет старше нас в черных леггинсах, которые блестели на ней, как шкурка тюленя.
– Борис! Это почему я отводила Ваню в бассейн после школы?! Это ты сегодня должен был его вести! У меня сочинение на завтра!
– Да у тебя все каникулы были, чтобы написать это сочинение, я, что ли, виноват, что ты его сегодня пишешь, а?
– Все каникулы я книгу читала, чтобы его написать!
С кухни с чашкой в руках вышла еще одна девочка, похожая на свою сестру, у них у обеих свисали черные пушистые волосы и длинные носы, только вторая была значительно младше.
– А я слышала, как мама сказала Даше вести Ваню, так что и правильно, что он не повел! – девочка действительно ужасно картавила, видимо, это была Наташа.
– Вот! Слышала, да?! Я вот тоже это с утра слышал, тебе она сказала, так что нечего гундеть!
– Обалдела, что ли?! – взвизгнула Даша, – Я тебе с математикой помогала перед Новым годом, а ты теперь не на моей стороне?
– А как ты ей помогала, если у тебя у самой тройка и по алгебре, и по геометрии, а?
– Я просто слышала, вот и говорю!
– Страна тебе этого не забудет!
Борис взял чашку из рук Наташи и сделал большой глоток. Ее глаза округлились, и она принялась отбирать ее у него обратно, но тот без боя вернул тару уже пустой.
– Проболел половину каникул, а теперь пьешь из кружки Наташи, обалдел совсем! – Даша вступила в новый бой.
– Я вообще все маме расскажу! И то, что ты Ваньку не отвел, тоже!
– Так сама же говорила, что слышала, что это Даха должна была вести!
– Еще раз так меня назовешь, и полжизни по врачам будешь ходить!
Никто из них совершенно не обращал на меня внимания. Я не почувствовал себя лишним, мне нравилось смотреть за этим спектаклем, хотя и чудилось, что и я мог запросто стать его участником. Но я решил попробовать прервать их.
– Привет, меня Гриша зовут, я одноклассник его.
– А, да, это мой друг.
Только тогда обе девочки сфокусировали на мне взгляд. Даша глянула на мою левую щеку и отвернулась, а Наташа посмотрела мне ровно в глаза.
– Добрый совет тебе, Гриша: найди себе другого друга, – сказала Даша и ушла обратно в комнату.
– А я только чай грела, там чайник горячий, налей себе, – голос Наташи снова смягчился, видимо, она росла меньшей стервой, чем старшая сестра, и если бы Борис не атаковал ее кружку, она бы продолжала бы быть милой.
– Отличненько! А теперь иди в комнату, уроки делай или в куклы играй, не знаю, чем ты там занимаешься.
– Я не играю в куклы, – авторитетно заявила Наташа и ушла вслед за Дашей.
Мы налили себе чай в когда-то белые кружки, керамика которых со временем приняла сероватый оттенок, и пошли в его комнату. Собака заметалась по коридору между дверьми и в итоге зашла вместе с нами.
Все кровати были завалены вещами, но по стопкам учебников на тумбочке я понял, какая принадлежала кому. Боря стал рыться в карманах одежды на чужой кровати и вытащил из джинсов пачку сигарет.
– Пошли на балкон, и папа, и мама курят прямо дома, так что можно тут.
Балкон оказался не застекленным, но он все равно был захламлен вещами, которые мог завалить снег без ущерба. Я протиснулся в свободный уголок и оперся на стопку банок, прикрытых старой клеенкой. Куртку я оставил в прихожей, мне было холодно, но казалось, что Боре совсем нет, поэтому и я постарался расправить плечи.
– Нормальные сигареты, мне Дима в семь лет дал попробовать, постебался надо мной так, а с тех пор больше не дает.
Этот его брат заранее пугал меня, и я испытывал перед ним трепетное уважение.
– Надеюсь, он правда не заметит пачку.
– Да все равно на него. Ему вообще, может, и не жалко. А что, у тебя отец в разводе был? Нам училка сказала, ты с бабкой живешь, чего не с ним?
Боря выдохнул дым прямо мне в лицо, я думал, он смеется надо мной, но его взгляд оказался кристально чистым и внимательным. Я молчал, а он ждал, несмотря на его говорливость, он это умел. Мне нужно было придумать своего отца, это не должно было составлять труда, но мои мысли застопорились.
– На самом деле зажигалку я нашел, – зачем-то во всем сознался я. Честно признаться, это был один из последних случаев в моей жизни, когда я обличал свою ложь, не будучи застуканным на ней. Знал бы – использовал этот прием с большим умом на более значимые вещи.
– И чего? С отцом-то что?
Казалось, его не волновало, врал я или нет, ему хотелось докопаться до сути моей истории.
– Я не знаю, – честно признался я, – У меня его нет. Мое отчество Ильич, у мамы какая-то своя шутка была, она говорила, что мой отец – отец всему пролетариату. Короче, в честь Ленина у меня отчество, а может, и правда его Илья звали. Я не видел отца никогда. Поэтому и с бабой Тасей живу. Еще у меня есть дед, но он сидит за воровство, а остальные родственники дальние. Про то, что он в тюрьме, баба Тася сказала не говорить никому лишнему, но ведь это так и есть.
– Фига себе, в тюрьме прямо. Моего отца только в ОВД за пьянство возили. Он, короче, много бухает, но не слишком. Это он там сваркой на заводе занимается, а мама – она инженер там, и короче он один раз напился и порвал ее чертежи. А она в милицию позвонила, вот смеху было. Его, значит, забрали, но затем отпустили на следующий день. Потом они вдвоем с мамой сидели над этими чертежами каждый вечер после работы. А потом, как закончили, оба так ужрались. А как умерла твоя мама?
Боря будто бы вовсе не боялся слов. Он живо рассказывал про свою семью, будто не сомневался, что мне может быть это неинтересно или я могу осудить его родителей, его не ставили в замешательство и личные вопросы.
– Не знаю, как точно, в больнице. У нее рак был. Хотя она умерла не старой. Но я не знаю, прямо как на самом деле. То есть мне не сказали, только то, что умерла. Как от него умирают, сердце, что ли, останавливается? Там еще метастазы были, вроде в мозге, я слышал. Но там с головой правда что-то было. Судороги, они от мозга идут. Может, из-за мозга и умерла. Я не знаю, можно же как-то это сделать?
Горло постепенно наполнялось ватой, а голос дрожал, он казался мне каким-то девчачьим, и я очень боялся расплакаться.
– Инсульт, может.
– Может. Ну или просто от рака, от него же умирают. Может, все перестает работать в какой-то момент. В общем, она в больнице была, с ней там никого не было. А мне, может, надо было быть. Можно же было бы как-то пробраться в больницу, так наверняка кто-то делал. То есть, когда я накануне вечером с ней говорил, она не казалась мне прямо умирающей, понимаешь?
Вата в горле, в глазах, будто бы даже под кожей щек все-таки намокла и прорвалась, и я действительно расплакался. Когда я не смог себя сдерживать, я неожиданно перестал переживать о том, что подумает обо мне мой новый друг. Боря достал еще сигарету, вынул из моего кармана зажигалку и подкурил. Когда ее кончик заблестел огоньком, он передал ее мне. Я плакал и выдыхал дым, и даже сквозь свою боль я успевал подумать, какой я взрослый. Вот моего горя хватало на то, чтобы я не переживал о мнении малознакомого, но понравившегося мне одноклассника, а мысли о внешней зрелости все-таки просачивались.
Боря пытался меня утешить, говорил о сочувствии и рассказывал истории о своих родственниках, я слушал его вполуха. Когда я уже начал успокаиваться, сидя на холодном полу, Боря стоял и скидывал пепел со своей сигареты на улицу. Он смотрел куда-то вдаль между домами, рыскал взглядом по многоэтажкам. Вдруг он вздрогнул, затушил сигарету и резко присел рядом со мной.
– Димка идет.
Это меня отрезвило, отчего-то я тут же представил, как этот Димка спускает меня, нежеланного гостя в своей комнате, прямо с седьмого этажа. Мы ползком выбрались с балкона, Боря всунул мне начатую пачку, дал время надеть ботинки и открыл передо мной дверь. Куртку и шапку я натягивал уже в лифте.
У подъезда я встретил Димку. Его длинные волосы прятались под шарфом, за такую прическу в Василевске его могли и побить. Рядом с ним терлась девица без шапки и в тонких колготках. У меня не было сомнений, что это он, так как я успел услышать отрывок из разговора.
– Сабину возьмем и вернемся. Она будет тебя согревать во время просмотра. Да не стесняйся, пойдем вместе зайдем, там только мелкие, выпьешь чаю или кофе, и сразу вернемся.
Они еще над чем-то смеялись, хотя вроде бы ничего веселого и не говорили. Я пробежал мимо них, будто бы они тоже могли меня узнать, и направился к дому. По пути я мучился, что баба Тася учует запах сигарет, и все думал, как бы от него избавиться. Иногда Толику-Алкоголику на улицу давали с собой еду в железной эмалированной миске, как хорошему песику. Обычно он съедал ее в первые полчаса, но я понадеялся на удачу, так как других вариантов у меня не было. Но она оказалась не на моей стороне, сегодня его забрали рано, я еще видел следы от коляски на налетевшем под крышу подъезда снегу. Мне не хотелось, чтобы баба Тася ругалась, но это волновало меня не слишком сильно. Поэтому я не стал думать дальше над решением своей проблемы, поел немного снега, подождал, пока он растает в моем рту, чтобы прополоскать горло, и пошел в дом.
Пока я снимал куртку, она прошла мимо с тазом с мокрым бельем в руках. Я понадеялся, что баба Тася пройдёт на балкон, но она замерла возле меня.
– Сигаретами пахнет, – утвердила она.
Я пошел в комнату, и когда баба Тася возвращалась с балкона, она остановилась в дверях.
– Можно влиться в новую компанию, и не поддаваясь дурному влиянию.
Она покачала головой и пошла дальше. Никакого дурного влияния на меня не оказывали, это все была воля случая и немного моя. Я даже не чувствовал облегчения от ее ухода, потому что ожидал большей нервотрепки. Но во время ужина она все-таки снова вернулась к этой теме. Она только доела гречку с сосисками, и когда ее тарелка осталась пустой, она с читаемым драматизмом положила в нее вилку.
– Спортом никаким не занимаешься. В той школе учился тяп-ляп. Всего двенадцать лет, а уже сигареты куришь. Разве так можно вырасти приличным человеком?
Утром я слушал, как по радио девочка рассказывала про своего деда, ветерана войны. Он был настоящим героем. И она не упоминала, кем он слыл в школе. Я вот тоже, может быть, мог бы защищать родину, без лишней гордости я бы видел себя обезвреживающим мины. Или летящим на Марс. Казалось, что во мне есть потенциал совершить поступок с риском для жизни и благими намерениями. Я не знал, какой конкретно, но я представлял, как обо мне станут говорить по радио, может быть, не только дети, но и взрослые, а баба Тася будет слушать это и жалеть о своих словах, что из меня не вырастет ничего приличного.
Самое интересное для меня было то, что я никогда и не считал себя особенно плохим.
На следующий день в школе я боялся, что Боря засмеет меня за вчерашние слезы. Было обидно, оттого как я так раскис, мы могли бы стать хорошими друзьями. Мне не хотелось разговаривать с ним перед уроком, поэтому я гулял по холлу, дожидаясь, когда останется одна минута до звонка. Вдоль стены стояли шкафы со стеклянными дверями, за которыми прятались у всех на виду дипломы, медали и даже кубки отличившихся учеников школы номер два города Зарницкого. В городе их всего числилось две, и «вторая» в этом случае означало «последняя».
К одной из витрин, самой скучной, где были только грамоты и никакого золота и серебра, подошли учительница и темноволосая девочка в очках. Я ее сразу узнал, несмотря на то, что там, в лесу, Надя была без очков и в шапке. Казалось, будто бы она снова попала снежком мне в лицо, потому что я весь словно онемел.
– Папа достал для меня книгу про русскую живопись. Когда я буду взрослой, я хочу изучать искусство и работать в Третьяковской галерее.
Учительница растерянно кивала ей, открывая дверцу витрины, будто бы не понимала, как реагировать на речь настолько образцового ребенка.
– Думаете, то, что я пишу хорошо сочинения, может мне пригодиться в этом?
– Конечно, ты – большая умница.
Надя напрашивалась на похвалу, она внимательно смотрела на учительницу, будто ожидая продолжения. Она водрузила грамоту на полку, женщина потрепала ее по плечу, и они обе направились в сторону классных кабинетов. Я подбежал к витрине и на дипломе с поздравлением в победе на конкурсе сочинений прочитал ее данные – Ларионова Надежда, шестой «А». Несмотря на то, что было не так много вариантов школ, в которых она могла бы учиться, мне это казалось невероятным совпадением. Мне думалось, будто бы девочка старше меня, но я сам учился в шестом классе, только под буквой «В».
Новость о том, что я нашел Надю, меня взбудоражила, мне, как дураку, без причины стало весело. Мне даже необязательно было бы самому знакомиться с ней, школа и так бы рано или поздно свела нас вместе на каком-нибудь мероприятии. В Василевске у меня было несколько неблизких подруг-девочек, но они не волновали меня, а теперь я даже позабыл о том, что Боря Синюгин надо мной может смеяться.
– Меченый чуть не опоздал, – послышался шепот, когда я забегал в класс. Я резко обернулся и посмотрел на девочку, которая это сказала, и она отвела взгляд. Дурацкая кличка теперь тоже меня больше не волновала.
На уроке биологии мы конспектировали параграф. Буквы бездумно переносились с учебника ко мне в тетрадь, голосеменные растения не увлекли меня. Мой почерк был аккуратным, мама гордилась им, она говорила, что сама пишет, как человек, перенесший три инсульта. Оттого что мама любила его, я и сам с радостью смотрел на аккуратно выведенные буковки и воображал, как меня попросят заполнить грамоты, и я буду выводить «Ларионова Надежда» на них, а потом они окажутся у нее над кроватью дома.
Незаметно для себя я уже дописывал вторую страницу, как вдруг прямо мне в щеку прилетел комок свернутой бумажки, и отчего-то это оказалось куда неприятнее, чем снежок. Он запутался в моем галстуке, мне долго пришлось его стряхивать с себя, чтобы он не упал мне за шиворот. Пока я боролся с ним, мои одноклассники уже начинали посматривать на меня, поэтому теперь я точно не мог отступиться, хотя и предполагал, что в записке может быть какая-то насмешка. Когда я развернул бумажку, на ней еще более корявыми, чем мамины, большими буквами было написано: «привет». Я обернулся, сзади меня за две парты сидел Боря, он мне помахал.
На перемене Боря Синюгин подошел ко мне.
– Ты, короче, садись со мной на истории, я с Артемом сидел, но он хочет с Андреем быть за партой. А я дружу с ними обоими, но пока мы в ссоре. И пошли они, да? Ты же взял их, да? Я принес зубную пасту, мне Димка сам рассказывал, что он в школе ее с собой таскал, чтобы не запалили с сигаретами, ты тоже потом носи, если у меня закончится. После уроков пойдем покурим, и я тебе сквот покажу, туда можно залезть через окно. Это типа бывшее здание кинотеатра. У нас был кинотеатр «Родина» в Зарницком, но его шесть лет назад закрыли. Может, ты знаешь, у тебя же здесь бабушка и тогда жила, да? Только надо будет перед этим Ваньку быстро довести до нашего двора.
Боря и не думал надо мной смеяться и как-то очень скоро втянул меня в ход своей жизни.
Через две недели у меня был день рождения, который я уже встречал вместе с ним у меня дома. Баба Тася напекла пирогов с яблочным вареньем, которое она как очумелая варила весь сентябрь. Она была подозрительно добродушной, подарила мне денег и предлагала позвонить моим друзьям из Василевска, может быть, кого-то смогли бы привезти родители на праздник. Но они мне были не нужны, поэтому я позвал одного Борю, а на деньги мы накупили сигарет, которые называли запасами на зиму. Я думал потратить их или подкопить на что-то более значимое, но велосипед у меня уже был, мамы не было, а книжки я мог бы взять и в библиотеке.
Мне хотелось поразить Надю своими знаниями про искусство, поэтому я зачитывался книгами по этой теме и сквозь скуку старался разбудить в себе интерес к ней, не пропускал ни слова. Вскоре я всем сердцем полюбил Врубеля и немного влюбился в Серебрякову. О своем увлечении я особенно не распространялся, потому что вряд ли кто-то, кроме Нади, смог бы это оценить. Отчего-то я скрывал это и от бабы Таси, и когда она спрашивала меня, что я там читаю в библиотеке так долго, я отвечал ей, что про войну.
После моего дня рождения баба Тася подошла ко мне.
– Федор и Соня, родители твоего друга, законченные алкоголики. Может, тебе стоит лучше выбирать друзей.
Баба Тася прожила в Зарницком всю жизнь, поэтому знала весь город на несколько поколений назад. Но я знал настоящего обезумевшего алкоголика, Толика, для него-то на самом деле все закончилось. День состоял не просто из поисков еды, которые согласно охотничьим инстинктам, могли увлечь, а из непрекращаемых призывов пожрать. Родители Бори казались не такими, у них была работа, они пили много, но когда я их видел, они почти всегда выглядели скорее веселыми, легкими, чем злобными алкоголиками с улиц. Баба Тася оказалась снова неправа, и после этого я окончательно перестал ее слушать.
А Боря Синюгин стал моим самым лучшим другом, и, несмотря на то, что баба Тася боялась, что он потащит меня на дно, он был моим спасательным кругом из болота отчуждения, в которое я себя загонял после смерти мамы.
Глава 4. Княжна Тараканова
Несколько раз в год мы с бабой Тасей посещали кладбище, все лето она пыталась найти для меня работу на ее садовом участке, и изредка я ходил с ней в магазин, чтобы донести сумки. Уличные контакты на этом заканчивались, а домашние казались еще безличнее. Каждый занимался своим делом, не нужно было идти бок о бок и ориентироваться на другого. Иногда баба Тася говорила о том, что я должен стать нормальным человеком, поэтому она кормила меня три раза в день: она считала, что этого было достаточно, в с остальными аспектами своей жизни я должен разобраться сам.
Выходило по-своему, время после школы я проводил дома у Бори или же вместе с ним лазил по стройке или по лесу. В Зарницком все друг друга знали, поэтому нам постоянно приходилось скрываться по гаражам и подворотням, будто бы мы стали мышами, случайно вырывшими норки на грядке. Нас гоняли, потому что мы были вредителями, мы курили, кидались камнями в автобусы и писали неприличные слова на домах. Ничего особенно плохого мы не делали, мне казалось, что для этого в нас не хватало жестокости, мы просто развлекались, потому что у нас не хватало знаний, чтобы веселиться разумнее. Мы слишком прикипели друг к другу, поэтому несмотря на то, что мы оба периодически вливались в одну мальчишечью компанию в классе, настоящими друзьями мы оставались только друг для друга. Когда Боря был занят, я слушал музыку или читал книги. Надежда поразить Надю Ларионову до сих пор меня не оставила, поэтому я все еще периодически изучал искусство, хотя уже и не был уверен, что она сама им интересуется.
Когда мне было четырнадцать лет, этот случай наконец представился: мы собирались поехать параллельными классами в Москву на экскурсию в Третьяковскую галерею. Нам обещали красивую столицу, приодетую к майским праздникам. Накануне нас с Борей отправили копать грядки. Конечно, он был не обязан пахать на нашем участке, но без возражений принял у бабы Таси лопату. Это было их обоюдное решение, потому что если бы он отказался, она бы не стала настаивать. Участок был большой, много лет назад он слился вместе с соседним ввиду каких-то сложных манипуляций, связанных с родственными взаимоотношениями. Баба Тася красила деревья с одной его стороны, а мы стояли у грядок с противоположной, между нами пролегло расстояние, которое я бы мог назвать даже далеким. Я всаживал лопату в отмерзающую землю, а Боря водил граблями по соседней, уже вспоротой грядке. Иногда я вытягивал из земли червя, чтобы не порубить его лопатой, и кидал в Борю, но вскоре нам обоим это надоело.
– У земли есть червь, – сказал я, откидывая очередного в сторону. Мы придумывали дурацкие рифмы, когда было совсем нечем заняться, и по моей интонации Боря сразу понял, что я начинаю игру.
– У червя есть нерв.
– У нерва есть лев.
– У льва есть гнев.
– Вот это я охерев.
Боря задумался, отставил грабли даже, мне казалось, он решает, как смешнее продолжить наши ассоциации, или просто ищет рифму. Но мысли вели его в другое русло.
– Вот бы нафигачиться после Третьяковки.
– Да нечем.
– А у меня есть одна мыслишка, – она сама ему понравилась, потому что он снова схватился за грабли и стал с особенным усердием разбивать комки.
– Только одна и поместится.
– Не, не, не, она гениальная, достойная похвалы и грамоты. Короче, можно сходить к бабке Зеленухе. Если докопаем быстро, то еще успеем к ней заглянуть.
Бабка Зеленуха была легендой всего Зарницкого, хотя и жила за его пределами. Она слыла ведьмой, женой Лешего и сестрой Кикиморы Болотной, это знали все и многие даже верили. Лет тридцать назад жарким летом случился пожар в деревне Демицы, в котором погорели все дома, кроме одного, где и жила одинокая баба Настя по прозвищу Зеленуха. В деревне погибло четыре человека, как поговаривали, каждый из них был виноват перед ней. Мы все знали их по именам, потому что среди детей ходила страшилка, будто их призраки до сих пор гуляют по лесам вокруг Зарницкого, деревни-то больше нет, только один дом и остался. Егор Миронович, говорят, жениться на ней хотел, одни рассказывали, что он плюнул в нее, когда она отказала, другие – что изнасиловал. Ее соседка Маруся якобы высадила дерево так, чтобы тень падала на ее огород, еще одна, Галина, отравила ее собаку, а маленький Фомка воровал яблоки осенью в ее саду. Мы придумывали истории этих призраков, кто-то ходил с пустой корзиной, кто-то с мертвой собакой, и пугали ими друг друга уже не первое поколение. Меня же ужасало больше следующее: вот умерли эти четверо, и остались в местном фольклоре только их имена и поступки, которые они сделали по отношению к бабке Зеленухе. Вряд ли они считали это особенно значимыми событиями в их жизнях, а может, и они были выдуманы, чтобы выставить бабу Настю ведьмой. Так живешь, а память о тебе останется не о сердце и мозге твоем, а о ноготочке или левой пятке.
Жители Демицев расселились из погорелых домов по Зарницкому, указатель с названием деревни давно убрали, и остался только один-единственный дом бабки Зеленухи. Она не переезжала в город и даже никогда там не появлялась, но все в округе о ней знали, и если и не боялись, то хотя бы испытывали легкий трепет при упоминании ее имени. Вот и мне непроизвольно пришлось сглотнуть, перед тем как отшутиться.
– И чем ты предлагаешь нафигачиться у нее? Волшебными зельями? Кровью первенцев, отданных ей жителями Зарницкого?
Боря засмеялся.
– Она же самогон гонит и приторговывает им. На что ей жить иначе, на одной только картошке с огорода? А ты думал.
О том, что бабка Зеленуха не просто ведьма, но еще и барыга, я не знал.
– Думаешь, продаст? У меня денег нет.
– Да я, короче, подумал, что это плохое как бы дело, да, но нам бутылку только. У нее же распорядок дня деревенского жителя, то есть она рано встает, поздно ложится, и вот мы, короче, как стемнеет, можем попробовать в сарай к ней забраться. Она в нем наверняка его хранит. И мы же не деньги воровать собираемся, так что это ничего ужасного.
– Еще бы предложил убить ее топором.
– Да я тебе говорю, торговать им незаконно вообще. Да и гнать, наверное, тоже. То есть я парюсь по этому поводу, так что иди в жопу, да?
Я осуждал Борю лишь секунду: уже договаривая свою фразу, я не ощущал ни капли вины, потому что согласился с его логикой. Хуже ей не будет, чем если бы она жила по законам. Пугало другое: все-таки это была не просто бабка, а местная ведьма, и хотя я всегда твердо мог сказать, что не верю в мистику, краешек моего подсознания был готов впустить немного предрассудков, несмотря на все убеждения. Теперь это стояло вопросом чести, если бы я отказался, это означало бы, что я струсил перед ней.
– Обнесем ее сарай с заходом солнца. Самое страшное, что может случиться,– она нас проклянет. Или если кроме самогона мы найдем еще прикопанного мальчика, который пытался поступить так же.
– Господи, ты можешь перестать шутить про мертвых детей? Все, погнали.
Мы поменялись с ними лопатой и граблями, и за полчаса закончили с оставшимися грядками. Я знал, что если баба Тася успеет заметить это, она попытается найти новое задание, поэтому как только мы закончили, мы побросали инструменты и побежали к воротам.
– Ба, поем дома! – крикнул я на ходу и скрылся за калиткой раньше, чем она успела разогнуться.
Садовый участок был через небольшой лесок от города, как и дом бабки Зеленухи, только с другой стороны. В принципе все вокруг Зарницкого было через небольшой лесок, такими перебежками можно было добраться и до Парижа. Ее одинокий домик, по слухам, построенный еще в прошлом веке, посерел от сырости, ему не хватало покраски. Только крыша блестела, будто бы политая нефтью. Забор гнил снизу, сверху каждая дощечка была накрыта бутылками, совсем не ведьмовскими, принесенными алкоголиками, упустившими шанс получить копеечку за них после сдачи. Почти весь двор вдоль забора был засажен кустами жасмина, крыжовника и смородины, из-за которых ее владения плохо просматривались. Но ни котлов, ни куриных ножек, ни бородавчатых жаб, ни даже обычных полосатых кошек там замечено не было. Одним летом мы с Борей забирались на дерево на краю леска, чтобы рассмотреть ее двор, но ничего особенно интересного не нашли, кроме пня, обросшего поганками.
Мы остановились напротив забора, пытаясь вглядеться, не ходит ли по двору бабка Зеленуха. Пролетела оса, стрекотали кузнечики, колыхалась нескошенная трава, а больше никакого движения не было. В окошке с настоящими резными ставнями, посеревшими вместе с домом, горел оранжевый свет, безуспешно спрятанный белыми тюлевыми занавесками. Мне казалось, это саван окутал ее дом изнутри, прикрывая еще живые дырочки в нем. Свет и белые кружева вызывали во мне воспоминания о церкви, и это сочетание меня пугало больше, чем ее зелья и проклятия.
Мы забрались обратно в лес, скрылись за деревьями и стали ждать, когда огонек в окошке погаснет. Сами мы закурили наши предпоследние сигареты за сегодняшний день, предусмотрительно оставив парочку для того, чтобы заглушить стресс после ограбления сарая. Мы прикрывали огоньки ладонями, чтобы бабка Зеленуха не следила за нами в ответ.
– Знаешь, почему она больше не баба Настя, а бабка Зеленуха? – зашептал Боря прямо мне на ухо. – Потому что однажды она намазалась болотной тиной и пошла в лес сношаться с Лешим, откуда вернулась, покрытая зелеными пятнами, словно следами от его поцелуев.
Я прекрасно знал эту историю, как и ее альтернативный вариант: после пожара деревенские мужики положили ее в мешок и избили в лесу до зеленых синяков. Эта версия пугала меня больше, хотя и в ее правдивости я не был уверен. Боря рассказал историю про Лешего потому, что в лесу она звучала куда внушительнее. Он постучал по обросшему мхом пню, и мне показалось, будто мокрыми листьями запахло еще сильнее.
– Смотри, у него как будто глаза! Ты это видишь, смотри!
Он тыкал в бугры мха на неровной коре до тех пор, пока я действительно не увидел эти самые глаза. Это было сложно, но вскоре я смог настроиться на его воображение и увидеть пень, как он хотел.
– Тыкай его осторожнее, а то тоже вернешься в город, покрытый зелеными пятнами.
Боря схватил палку с сопливыми коричневыми листьями, готовыми в ближайшие месяцы превратиться в перегной, и ткнул ею меня. Я нашел себе оружие повнушительнее, сук-рогатку с паутинкой между веточек, и у нас затеялась настоящая перепалка. Мы тыкали друг в друга нашими отвратительными мечами, пачкали одежду и лица, а потом Боря вообще стукнул меня этой палкой по рукам до красноты кожи, и мы почти подрались. Ничего серьезного, изваляли друг друга в грязи и палых листьях, и я уже отчетливо представлял разочарованный взгляд бабы Таси и ее ворчание. В лесу мы могли так играться до сих пор, в школе же мы оба старались вести себя серьезнее для учителей и взрослее для наших сверстников.
Пока мы возились, свет в окошке бабы Таси погас. Лес тоже обращался во тьму, у меня был фонарь, только с его помощью мы могли найти дорогу. Для уверенности мы подождали еще минут десять и перелезли через забор. Мы оба спрыгнули ловко и практически бесшумно, бабка Зеленуха могла разве подумать, что тут бегают коты, если они все-таки решаются забраться в ее двор. Боря достал молоток.
– А почему не топор? – зашептал я.
– Задолбал со своей достоевщиной.
– С твоей, не я же это придумал. А думаешь, когда мы долбанем молотком, она не проснется?
– Проснется. Но она же бабка, ей долго сюда идти. Мы схватим самогон и побежим обратно в лес, она не успеет не только нас опознать, но и понять вообще, мы ли это или черти какие. Нормальный план?
Я пожал плечами, другого у нас не было. Я никогда не сбивал замки, да и Боря наверняка тоже, а то бы я обязательно уже знал эту историю, поэтому долбануть нужно было посильнее для надежности. Когда мы свернули к сараю, замка на нем мы не обнаружили, дверь кокетливо приоткрывалась, будто бы и приглашала нас войти.
– Может, уже кто-то самогон скоммуниздил, – сказал Боря.
А мне больше хотелось верить в нашу уникальность, что никому до этого не приходила такая идея, поэтому бабка Зеленуха не запирает сарай. Боря зажег фонарик и спрятал его луч в кулак, чтобы лишний раз не освещать дом. Я потянулся к одной из половинок дверей, она предательски заскрипела, а Боря дал свету фонаря волю и отпустил его.
И тут мы увидели в желтом луче фонарика настоящую ведьму. На столбце из гниющих ящиков сидела старуха с распущенными длинными волосами в тоненькой, прилипающей к телу застиранной ночной рубашке. Ее неказистое тело будто бы сковывали зарастающие суставы, отчего она казалась неестественной и деревянной. Волосы поредели, но сохранили свою пушистость на кончиках, они едва прикрывали череп. В руках ведьма держала самокрутку, а из ее рта валил дым. Ее губы показались мне чересчур яркими и живыми для столь древней старухи, сереющей, как ее дом.
– Пошла вон отсюда, вредители проклятые! – вдруг закричала бабка Зеленуха и обернулась в нашу сторону так быстро, как змея, собирающаяся откусить нам головы. Повторять второй раз было не нужно, Боря выругался, мы сорвались с места и помчались к забору.
– Прошу прощения, – зачем-то крикнул ей я, будто бы это могло ей сделать легче или помирить нас. Мы перепрыгнули через забор, не стесняясь шуметь, и еще бежали по лесу всю дорогу, пока почти перед нами не открылось шоссе. Мы остановились и оба, будто договорившись, склонились пополам, пытаясь наладить свое дыхание и утихомирить взбесившиеся сердца. Я достал нашу пачку сигарет.
– Она нас прокляла! Ты слышал, она сказала о проклятии, да?
– Она сказала, что мы проклятые, а не то, что она собирается как-то колдовать над нашими судьбами.
– А может, мы уже?! И сегодня ночью мы превратимся в жаб, и нас раздавит мусоровоз!
Я почесал лоб, после того, как я увидел ее, я не мог думать ни о чем больше. Баба Тася ходила в косынке, под которой у нее прятались темно-серые волосы, мешающиеся с остатками черных, она была как новенький асфальт. Если она снимала платок, то ее волосы оставались под заколкой, а после душа она надевала полотенце на голову. Я даже не мог припомнить случая, когда я видел ее распущенные волосы или одетой лишь в ночную сорочку. Иногда мне показывалась ее голая шея, но она не казалась такой старой, изъеденной жизнью до огрызочка. Бабка Зеленуха была белая как ее занавески, и огонечек от ее самокрутки горел, как лампочка. Жизнь теплилась и в ее словах; злобная, обиженная, будто бы она хотела прихватить с собой еще парочку детских душ, прежде чем погаснуть. Это могло оказаться глупостями, может быть, она не всегда была такой страшной, все-таки мы застали ее в момент ее одиночества. Тем не менее я думал, что в тот час она могла спокойно засунуть нас в печь, как Баба Яга.
Однако я умел сохранять лицо, какие бы страхи меня ни одолевали.
– Максимум, что может случиться, это то, что она расскажет моей бабке или твоим родителям. Но вряд ли, Зеленуха же в город не выходит и живет одна в деревне.
После этого мне вдруг стало мучительно стыдно, что я нарушил покой старой женщины, решившей перед сном покурить в рубашке в своем же сарае. Может быть, она испугалась еще больше нас, а может, действительно осыпает нас проклятиями. В любом случае, мое лицо оставалось спокойным, и я подкурил две сигареты, для себя и для Бори.
– Ну нахер этот самогон, – сказал он и сплюнул. Боря выпрямился и вдруг рассмеялся, он мог легко избавляться от стресса, как собака, забравшаяся в лужу и отряхивающаяся от грязи. Согнулся от смеха – и вот уже Боря снова был готов к новым приключениям.
Вечер и утро окрасились в неприятный оттенок от нашего поражения. Каким же я героем мог стать, что доказать бабе Тасе, если решил обнести беззащитную бабку на самогон, да еще и испугался ее до чертиков. Я все смотрел на свою бабку, и видел в ней только отпечатки старения, но все еще не окончательного увядания. Да, в ней не было молодости, но и смерть еще не звала ее к себе. А когда-нибудь, может быть, совсем скоро, лет через пять, и она начнет высыхать. Если, конечно, смертельная болезнь, поражающая здоровых людей, не заберет ее раньше.
Баба Тася видела, что я рассматриваю ее, но в ответ только озадачено хмурилась. Утром она подошла ко мне и вручила деньги, больше, чем обычно давала на карманные расходы.
– Держи. Купишь себе чего-нибудь в Москве.
Первым делом я подумал купить пива. Потом я решил, что, может быть, я и правда мог бы приобрести что-нибудь в Москве, но у меня не появлялось никаких желаний. Вот Боря хотел себе швейцарский нож, кассету Наутилусов, попрыгунчик, перчатки, и зачем-то ему понадобился альбом для фотографий. Наверняка он мог бы перечислить еще десяток вещей, которые ему бы хотелось иметь. Я долго думал, ничего не приходило мне в голову, и единственное, что я нашел в своих мыслях, – мне немного нравилась идея иметь фотоаппарат. Но на него мне было не накопить и до конца школы. Да и это желание казалось смутным и неярким, будто бы это не я на самом деле хотел, а подумал, что неплохо было бы мечтать о фотоаппарате, это выглядело как достойное желание.
Я специально вышел пораньше, чтобы поразмыслить над этим вопросом. Если бы я купил нам с Борей пива, у меня бы еще оставались деньги и я все еще мог бы купить себе что-то в Москве или поразмыслить еще раз и сохранить их до появления настоящих желаний. Я постучался к дяде Виталику – в это время он собирался на работу – и вывез в коляске Толика-Алкоголика. Не каждый день, но по возможности я стал вывозить и забирать его с улицы, за что соседи были мне благодарны, особенно тетя Лена. Она говорила:
– Спасибо, Гришка, а то ведь нам еще с ним в квартире ночевать, сил нет никаких.
Я не понимал, что такого плохого было в Толике-Алкоголике, ну разве что им приходилось его мыть. Мне и в четырнадцать лет он казался занятным, даже спустя три года после знакомства мне иногда удавалось выудить из него новую фразочку. За это время он запомнил меня, узнавал и даже называл меня по имени. У меня была цель надрессировать его, чтобы он выучил, кто новый генсек страны, но пока это не увенчалось успехом. Баба Тася говорила, что в психушке, в которой ему и место, часто спрашивают, кто управляет страной и какая сегодня дата. Дни сменяли друг друга, Толик и за своим языком едва мог следить, не то что за календарем, а вот ответ на первый вопрос, мне казалось, я когда-нибудь сумею вдолбить в его разжижающиеся мозги. У меня был оригинальный собственный метод, я им очень гордился, хотя пока он и не имел действия. От одного мужика с улицы я услышал фразочку из народного фольклора в стиле Толика-Алкоголика, только появившуюся позже, чем он пропил свои мозги.
Она звучала так: «На недельку, до второго закопаем Горбачёва. Откопаем Брежнева – будем пить по-прежнему».
Но Толик-Алкоголик не только не хотел ее запоминать, но и злился, видимо, потому, что не понимал ее. Сегодня был день не для тренировок, а для проверки знаний. Закатывая тележку в лифт, я спросил у него:
– Кстати, а кто сейчас стоит во главе страны?
– Не твое собачье дело, – тут же нашелся он. Я не обиделся и даже отдал ему один из своих бутербродов, которые баба Тася дала мне с собой.
– Что же делать, – сказал я, все еще размышляя про деньги.
– А делать нечего, – глубокомысленно поддержал меня Толик.
Надо пить. Я похлопал своего веселого дружка по плечу и помчался по направлению к дому Бори. Алкоголь еще нигде не продавался, но я знал, что Димка торгует им с рук по завышенной цене в своем самодельном кинозале, а иногда и по ночам, особенно отчаявшимся пьянчугам.
Дашка от них съехала, она ушла после девятого класса в техникум в Василевске, и по его окончанию собиралась там и остаться, потому что не хотела работать на заводе, как ее родители и брат. Она по-прежнему писала стихи, но ее ожидала работа бухгалтера. А вот Димка все еще оставался на заводе и жил вместе с семьей, он, в отличие от других детей Синюгиных, никак не изменился.
Дверь мне открыл Ванечка. При виде меня его глаза потемнели, он весь напружинился и выставил руки ребрами ладоней ко мне. Он больше не ходил в бассейн, теперь Ванька занимался карате.
– Мама! – заорал он во все горло, – Он опять пришел, я сейчас его выгоню!
– Я расчесываюсь, Ваня! – послышался хриплый голос Софьи Петровны из ванной комнаты. Отчего-то Ванечка считал меня своим злейшим врагом. Дрался он больно, и уже близился час, когда он мог бы меня перебороть, несмотря на разницу в возрасте. Хорошо, что старшие Синюгины не поддерживали его в ярости, они были даже иногда мне рады, одним ребенком больше, одним меньше в доме, за своими делами они этого даже не замечали.
Мимо меня прошел Боря с зубной щеткой в руках, вовсе не удивленный моим появлением. Он на ходу схватил Ваню и закинул его на диван в комнате родителей.
– Привет, я сейчас быстро, с Сабиной сегодня Наташа погуляла уже.
– У меня есть классная тема, скоро увидишь.
Боря попытался войти в ванную, но был выгнан оттуда с таким же маминым возгласом, только вместо Вани стал Борька. Он пожал плечами и пошел чистить зубы у раковины на кухне.
Я проник в комнату к Боре и Димке. Он завязывал галстук, стоя перед зеркалом.
– Привет, пиво продай мне.
– Ничего я вам не дам, лоботрясам недоделанным. Отстань.
Я достал деньги и протянул ему. Димка действительно никогда просто так не угощал нас пивом, хотя и в первый раз мы попробовали его благодаря нему, когда попросили купить его за наши средства в магазине, где не продавали несовершеннолетним. Он посмотрел на мою протянутую ладошку с деньгами, секунду поколебался, а потом полез под кровать, откуда выудил двухлитровую баклашку.
– Хорошей экскурсии в столицу, малолетка.
Из-за двери показалась голова Наташи с двумя тоненькими косичками.
– Станете, как папа, скоро, – прошептала она и с укором покачала головой. Их отец, Федор Алексеевич, действительно сдавал в последний год и все чаще уходил в запои на целые выходные, но пока что удачно выплывал из них в рабочие будни.
Пока Боря одевался, я провалялся у него на кровати, стараясь никому не мешаться в утренней панике, творившейся в их доме, пока Синюгины собирались на работу и в школу.
По пути к школьному автобусу Боря все тараторил:
– Когда я посмотрел сегодня с утра в окно, знаешь, что я увидел? Черную кошку! Она типа не перебегала мне дорогу, потому что я же стоял на балконе, но она же была там, и как бы считай, что всему дому переходила дорогу, ведь она шляется около него. Думаешь, это может быть связано с тем, что Зеленуха нас прокляла?
– Она нас не проклинала, она вообще даже не пыталась.
– А ты приколись, да, если она на нас разозлилась, и как бы месть сегодня будет, и наш автобус попадет в аварию, и вот из-за нас не только мы погибнем, но и вообще наш класс и даже параллельный.
– Тогда это будет не из-за нас, а из-за бабки Зеленухи, потому что все-таки, согласись, неравноправная месть.
– А если вообще вся Третьяковка обвалится? Типа там стены старые или проводка перегорит. И тогда не только класс, еще и люди в галерее, и даже картины в придачу.
– Ага, и все из-за того, что мы открыли дверь чужого сарая.
– Не, ты не преуменьшай. По сути, да, мы ничего не сделали, как ты и говоришь, просто забрались на чужой участок и заглянули внутрь. Но важны же намерения, что у нас типа было в душе тогда, а было там все хреново.
– За намерения не сажают. Только за неудачные попытки, а это никто не докажет.
Пиво мы решили оставить на обратный путь. У автобуса уже толпились школьники, и я сразу различил Надю Ларионову. Она была выше большинства девочек и ходила в ярко-красной куртке цвета пионерского галстука. Не только ее одежда, но и будто бы природные данные призывали остановить на ней взгляд. Ее губы тронул блеск перламутровой помады, и то ли раньше она никогда не красилась, то ли я обратил внимание на это впервые, а я ведь долгие годы рассматривал ее при любой возможности. Когда нас начали запускать в автобус, я ловко протиснулся за ее спину и занял место за ней.
– Хочешь, я с ней заговорю? Или с подруженцией ее, Бабицкой Олесей, так ее вроде зовут?
– Ага, и чего ты им скажешь?
– Да сейчас разберусь, – Боря уже встал со своего места, чтобы их окликнуть, но я одёрнул его.
– Не смей.
За это время я несколько раз говорил с Надей, но все наши слова были ни о чем. Какой урок у вас сейчас? Тебе говорили, что у тебя странные родинки? Передай всему классу, что математичка заболела. Возьми ключ от раздевалки. Сегодня на концерте выступаешь? Я буду читать стих.
У Нади была компания из девочек, не слишком замкнутая, периодически к ним примыкал кто-то еще, иногда они даже общались с мальчиками. Я бы мог попробовать влиться, но я учился в параллельном классе и все как-то не находилось случая. Тем более, если быть до конца честным перед собой, отчасти мне нравилось наблюдать за ней со стороны, хотя, конечно, и хотелось стать ближе. Недавно я вычислил, что она поссорилась со своей компанией, целый день ходила одна обиженная по школе, это был неплохой шанс. На следующее утро Олеся Бабицкая отбилась от стаи девчонок и приняла сторону Нади, и с тех пор они ходили вместе. Олеся была тихая-тихая, на ее фоне Надя сверкала, как звездочка.
Боря вечно был голодный, ни денег, ни бутербродов ему не положили с собой, поэтому первым же делом мы разделили мою еду, собранную бабой Тасей. Потом долго пялились в окно, смотря на жизнь за пределами Зарницкого. В основном там мелькали бесконечные уже зеленые поля, линии проводов и блеклое серое небо. Иногда мимо пробегали леса и маленькие деревни. Мне было странно видеть особенно их, как там люди занимались своими повседневными делами, копались в огороде, шли на работу, сидели на остановке, в то время как мы вырвались из своего обычного жизненного уклада. Все мы должны были заниматься в школе, я наизусть мог пересказать расписание сегодняшнего дня, но мы катились всем автобусом в Москву. Может быть, со стороны мы и выглядели обычно, дети, ездящие по экскурсиям, не казались новинкой, но для нас это было приключением даже несмотря на то, что несколько месяцев назад на этом же автобусе мы всем классом ездили в театр в Василевске.
Когда мы подъезжали к Москве, Боря увлекся разговором о чемпионате по хоккею с Бубковым за соседним креслом, и я положил голову на переднее сиденье, чтобы прислушаться к Наде и Олесе.
– Она пишет, что у нее с ее мужиком пока нет телефона там,– говорила Надя, голос у нее был взвинченный, похожие интонации часто появлялись у Бори.
– Сука тупая, – ответила ей Олеся грубее, чем я ожидал от нее.
– Неужели во всей Феодосии не найдется ни единого телефона? Может, ее мужик – нищеброд, окей, но у него должны же быть знакомые, или до моей мамы он маялся один-одинешенек во всем белом свете? Бедняга какой, так жалко, что сейчас расплачусь.
И она действительно расплакалась, только немного позже. Тогда Боря стукнул меня по плечу, чтобы поделиться новостью, что кого-то укачало в автобусе, и я не смог услышать продолжение разговора. Надя меня взволновала, она сама была для меня тайной, но вот теперь у нее появился еще один болезненный секрет, который мне хотелось раскрыть.
Мы въехали в прекрасную задымленную торопливую Москву. Она украсилась в красный: висели красные флаги, громыхали красно-желтые трамваи, где-то в центре стояла сама Красная Площадь. Мы проехали под лентой с надписью «Перестройка, демократизация, гласность», для меня тогда это были просто слова, но я чувствовал, как от них электризуется атмосфера.
Я несколько раз ездил в Москву с бабой Тасей, еще чаще посещал ее с мамой, она любила этот город, и, кажется, мечтала когда-нибудь остаться в столице навсегда. Но Москва до сих пор поражала. Здание Третьяковской галереи меня впечатлило не сильно, я больше смотрел на домики вокруг и модных людей. Глядя на наши таблички с номерами классов, нас пропустили без очереди, несмотря на то, что мы уже не казались совсем малышами. Да и эти таблички были нам ни к чему, мы стали достаточно разумными, чтобы не потеряться без них…
В галерее я испытывал странное, до этого неизвестное мне наслаждение, я находил картины и художников, про которых читал раньше, будто ставил плюсики над выполненным домашним заданием. Только никто меня не проверял, я был сам себе судья, поэтому впервые я хвалил себя. Перед всем классом я не стал бы выпендриваться, тем более нашего экскурсовода слушали без особой охоты, но я рассказывал Боре случайные факты, всплывающие в моей памяти. Он же внимательно следил за ходом моих мыслей, стал притихшим, и я почувствовал себя рядом с ним взрослым, способным что-то дать ему. Красоту картин я воспринимал через знания, и те, про которые я читал, казались мне особенно яркими, я рассматривал их с удовольствием. Боря тоже периодически с восторгом подбегал к какой-то картине, он умел видеть красоту в них и сам, но каждый раз немного разочаровывался, если мне было нечего рассказать ему. Все это время я поглядывал на Надю, она что-то обсуждала с Олесей, иногда они вместе начинали смеяться над чем-то, тыкали пальцами в сторону какого-то особенно невнятного лица на картине. Несколько раз, когда я знал, что сказать о каком-то произведении, я проходил мимо и рассказывал о нем Боре, но Надя не обращала на меня внимания.
В один момент я увидел, как она забежала вперед в соседний зал, и я проскользнул за ней. Она встала у знакомой мне картины, я сразу вспомнил, что это «Княжна Тараканова», я видел ее в иллюстрации к книге, но мне никак не приходил в голову ее автор. Мне самому стало интересно, поэтому я без лишнего стеснения подошел к Наде и прочел под картиной имя художника – Константин Дмитриевич Флавицкий.
– Какая она красивая, вся залита светом. У нее лицо, как у античной статуи, – сказала Надя, не оборачиваясь.
Меня обдало жаром, я силился вспомнить, что же я читал о ней. С Борей факты лились легко, а сейчас будто снова я стал чистым, ничего не знающим листом. Постепенно буковки сложились в моем воспоминании, но они показали мне лишь макушку айсберга, окончательно я так и не вспомнил все.
– Знаешь, кто это? – спросил я.
– Напомни.
– Это самозванка, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы. Она была очень красивой и крутила мужчинами, типа многие из-за нее обанкротились. Еще она путешествовала по другим странам, там она тоже выдавала себя за всяких именитых особ, или как это сказать. Вот, а в России княжна хотела заявить свои права на власть, и даже вокруг нее собралась как бы оппозиция. Но по приказу Екатерины ее отловили, допросили и посадили в темницу. А потом говорили, что в Ленинграде случилось наводнение, и там она утонула. Но это неправдивая история, романтизированная, вот, на самом деле она умерла от какой-то болезни. Посмотри, внизу вода, и оттуда к ней выползают крысы, тоже пытаются спастись от наводнения.
Крысы подступали к ее платью, оно их закрывало, и может быть, они даже забрались под него, в надежде спрятаться. А может, и чуяли скорую добычу. Княжна запрокинула голову в ужасе, она истомилась и будто бы молилась не о спасении, а о том, чтобы это все скорее закончилось. Ее плечи и шея были открыты, виднелись выступающие сухожилия, кожа блестела в лучах солнца, насмешливо освещающего ее из окна. Там, за ним, люди борются со стихией, или даже живут своим обычным распорядком, а она, такая молодая и красивая, встречает последние лучи.
– Интересно про ее авантюры. А лицо у нее такое, будто ее шею целует любовник.
Надя развернулась от картины и пошла обратно в зал, где экскурсовод пытался вложить хоть что-то в наши бесполезнее головы. А я остался рассматривать княжну дальше. В ее красном платье, с темными волосами и болезненно белой кожей, она вдруг стала напоминать мне Надю. У меня появилось стойкое взрослое желание оказаться тем ее незримым любовником, о котором она говорила.
После этого разговора Надя уже не отлипала в музее от своей Олеси Бабицкой, она даже держала ее за руку. Я все смотрел на нее, ждал еще одного хорошего момента, но девочки ушли в свой маленький мирок, не обращали внимания ни на экскурсовода, ни на одноклассников, и ходили от одной картины к другой и о чем-то переговаривались.
В один момент мы все-таки встретились взглядом. Надя вдруг показала пальцем в мою сторону, рассказывая что-то Олесе, потом откинула голову, и мне даже почудилось, что она изображает княжну Тараканову с картины. Когда Надя снова кинула на меня взгляд, она поняла, что я все видел, засмеялась и без смущения помахала мне рукой.
В этот момент передо мной возник Боря.
– Ты посмотри, она так смирилась, что он ее украл, она ведь была царской дочерью, и разве она могла разве ожидать такого? Они же не любили друг друга, девица вообще не знала его.
Я попытался отодвинуть Борю, чтобы посмотреть на Надю, но она уже снова повернулась ко мне спиной и рассматривала с подружкой другую картину.
– Ты обалдел?! Я вообще не понимаю, что ты говоришь.
Боря тоже стал меня толкать, пока на нас не шикнула Марина Васильевна. Мы утихомирились, хотя я был еще зол, и Боря продолжил шепотом.
– Вот смотришь на картину, думается, что он ее спас, да? Ну ты посмотри, типа Царевич спасает прекрасную девицу, Елену, кажется, как раз Прекрасную. А нифига, я как раз Ванечке сказку читал, подумал, что ему прикольно будет, он же тоже как бы мог быть Иваном-Царевичем, ну если так посудить. И вот в этой версии Волк просто ее крадет, и они уезжают с ней. Никакого спасения от Кощея Бессмертного и даже никакой любви там не было.
Я, наконец, сообразил, о чем он говорит: за его спиной висела картина Васнецова «Иван-Царевич на Сером Волке». Я подошел поближе, чтобы ее рассмотреть, но Боря все мешался своими комментариями про Елену Прекрасную.
– Он даже в названии не указал ее! А что, думаешь, ей просто могло понравиться, что ее украли? Есть же такие телочки.
Никто из персонажей меня не впечатлил, как Борю, я больше смотрел на туманный злой лес, будто бы почувствовал себя Иваном-Царевичем сам. Я только подумала, что раз Елена простоволосая, может быть, перед тем, как они с волком побежали через синие леса, заметая хвостом озера и тропинки, Иван-Царевич ее того.
– А еще это так несправедливо, что, считай, Иван-Царевич ему только конем заплатил, а Волк ему и жар-птицу, и золотого коня, и телочку, и еще и к жизни вернул.
Столько чудес за одного коня, этот волк был очень щедрым. Я представлял себе все, скорее, наоборот: отдать все на свете за одно чудо. Вот я бы все отдал за одно-единственное чудо, правда, у меня ничего не было, чтобы я мог предложить это чудотворцу или Серому Волку.
После экскурсии я зашел в магазин при галерее. Там я купил открытку с Княжной Таракановой Флавицкого. Я тогда сомневался, оставить ли ее себе или, может быть, подарить Наде, раз та ей так понравилась. В моем воображении она должна была с радостью принять ее и понять, как я люблю искусство. На этом фоне мы бы с ней сошлись, я бы рассказывал ей, что прочитал, Надя бы жутко впечатлилась, хотя несомненно знала бы больше меня. Так бы мы и полюбили друг друга.
Нас покормили в столовой, слишком просматриваемой, чтобы мы с Борей успели выпить пива. Потом нас снова погрузили в автобус, хотя обещали, что мы еще погуляем по Москве, и обманутыми повезли обратно в Зарницкий. Мы с Борей были злы, нам хотелось приключений в столице, а теперь нам оставалось только думать о том, куда бы пойти пить это наше пиво в скучном городе. Я сидел у окна, наблюдал, как тянутся за ним набежавшие облака и гнутся деревья под усилившимся ветром. Казалось бы, я мог смотреть на что-то, чего не увидеть в Зарницком, но привычные картинки меня успокаивали. Я держался за рюкзак, думая, подарить ли эту открытку Наде или нет, и уже на подъезде к городу решил поделиться своими терзаниями с Борей.
– Подари, чего ты мнешься, девчонки любят подарки.
В этом вопросе я мог доверять Боре чуть больше, чем себе, он несколько месяцев близко общался с одной девочкой из соседней школы, пока она не решила, что не любит его. В то время как я переваривал его ответ, Боря просунул руку в щель между сидениями и дернул Надю за кофту.
– Чего?
Боря подтолкнул меня плечом.
– Тебе картина понравилась. Я тебе открытку с ней купил, возьмешь? – картинка лежала у меня под рукой в рюкзаке, я быстро достал ее, избежав вопросов, о чем я говорю. Олеся громко цокнула языком, видимо, я ей не нравился или мальчики в целом были ей не особенно приятны.
– Ой, спасибо, как это мило, прямо вообще. Поставлю ее у себя в комнате.
Я отдал ей открытку. Что я мог еще сказать? Я люблю искусство, приходи ко мне, я тебе расскажу о нем? Ну да. Боря снова толкнул меня в плечо.
– Ты кстати похожа на эту Тараканову с картины.
– Ого, а вот это уже поворот. Спасибо, Гриша.
Она улыбнулась не то чтобы неловко, а скорее показывая своей подружке, что видит мое смущение. Надя уже собиралась отвернуться, как Боря снова дернул ее за кофту.
– Слушайте, а хотите с нами бухнуть? У нас пиво есть, не так много на четверых, но может, еще успеем сходить в магазин.
Сначала я подумал, что это полный крах, но Надя неожиданно быстро ответила.
– Хочу! А я все ждала, когда появятся эти подростки, предлагающие мне выпить, о которых все говорил мой папа.
– А я, пожалуй, пас, – тут же отозвалась Олеся.
Одновременно я жутко обрадовался, но в то же время будто бы немного и разочаровался. Надя в моих глазах и правда стала отчасти княжной Таракановой, мне казалось, она выдавала себя за умницу, пишущую сочинения на отлично, а путь к ней лежал через предложение выпить пива после экскурсии.
Надя снова увлеклась разговором со своей подругой, наверное, она уговаривала ее пойти с нами, потому что когда они выбрались из автобуса, Олеся ушла, не попрощавшись. Боря вызвался купить еще алкоголя, мы знали магазин, в котором продают несовершеннолетним, а мы с Надей остались вдвоем.
– Тебя родители не будут искать? Во сколько можно прийти домой?
– Папа у меня нерасторопный, каждый день часов до девяти вечера засиживается в школе. Он же работает учителем русского и литературы, только не у нас. Но я могу и позже прийти, он, конечно, расстроится, но ругаться не станет.
Вернулся Боря, и мы пошли ко мне на садовый участок. Я не брал с собой ключи, но к терраске примыкало крыльцо, скрытое деревьями от соседей, где можно было посидеть. Высоких тем мы не касались в общении, никакого искусства, пару раз Надя говорила о перестройке, но мы не развивали эту нить далее. Впрочем, ничего низкого или противного тоже не было, я боялся, что Боря может начать активнее пошлить при девочке, но он, наоборот, подсобрался. В основном мы обсуждали наших учителей и одноклассников, и оказалось, Надя любила позлословить. На пьяную голову меня всегда тянуло к какой-то нецеленаправленной активности, сам того не замечая, я постоянно забирался и снова съезжал по перилам, все раздумывая, не залезть ли мне на крышу. Боря становился резким, ему хотелось подраться со мной или покидать бутылки об стены, но пока он только пинал камни, неумело насыпанные в грязь перед крыльцом.
А Надя вот разрыдалась, когда Боря спросил, кем работает ее мать.
– Эта шмара кинула нас!
Надя залилась громкими пьяными рыданиями и спрятала лицо в колени. Я тут же снова съехал по перилам на несколько ступенек ниже нее и сел напротив. Она не поднимала головы, и я обнял ее вместе с ее намокшими коленками и погладил по волосам.
– Чего она кинула? Ты расскажи, чего она кинула, – говорил Боря.
– Мама ездила в командировку и там нашла себе мужика. И она вернулась, собрала вещи и порвала с папой, сказала, что уедет к нему! И меня с собой не взяла! Сказала, что вот окончу школу, и тогда я, конечно, могу приехать к ним на море! А сейчас она даже мне не звонит, а мой папа, он тюфяк, не может ее вернуть, он очень хороший, но совершенно мягкотелый!
Я едва разбирал ее слова за слезами, и совершенно не мог понять, как такое возможно. Моя мама (если бы она не умерла) никогда бы не оставила меня, только через смерть она могла это сделать. А что за мамы такие, которые уезжают к любовникам, бросая детей, я не знал. Я гладил ее по волосам и на самом деле жалел ее, но не находил нужных слов, потому что все непонятное пугало меня. Боря совал ей сигарету, пытаясь просунуть ее к коленям, пока не добился, чтобы она подняла лицо и взяла ее.
– Может, она вернется еще, надоест ей мужик, и вернется к вам, – говорил он.
– Прости меня за мои сопли, я же знаю, что случилось с твоей мамой, – сказала Надя, посмотрев на меня своими опухшими глазами. Она, конечно, не знала ничего, ни как она нашла что-то у себя в груди, ни как искала деньги, ни как растворялась в постели в больнице. Но я не мог винить ее за это, у нее было другое горе, и в этом случае у меня выходило это признать. То, что мы с бабой Тасей тоже несли разные печали, у меня не укладывалось в голове, а вот у Нади была совсем другая мама.
– Ты привыкнешь потом, – сказал я, не до конца уверенный в своих словах.
– Я так злюсь не нее, не представляешь, иногда мне даже хочется, чтобы она утонула там на море. Ты тоже злился?
На болезнь да, на тетю Надю и дядя Кирилла тоже, на бабу Тасю, но вот на маму я не злился. Надя протянула руку и потрогала по очереди мои родинки на лице. Не знаю, был ли это удачный момент, возможно, он являлся как раз наихудшим, но если бы она не отвернулась, чтобы поджечь сигарету, я бы поцеловал ее.
– А у моего папы есть племянник, это кто мне, троюродный брат же получается? Неважно. Короче вот он жил у другой телки полгода, а потом все равно к жене вернулся. И она его простила, потому что они вот еще одного ребенка сделали. И до этого у них был сын, как бы дети, они объединяют, а ты же их дочь, так что она, может, ненадолго.
Отец Бори мог и изредка вмазать своей жене, но отчего-то у него уложилось в голове, что семья – это нерушимая структура, которая все должна перенести вместе. Может, он так думал, потому что жена от него и не уходила, мне казалось, что она по какой-то странной причине любит его.
– Да не хочу, чтобы она возвращалась! Пусть вообще больше не появляется в нашей жизни, уродка моральная!
Надя стукнула рукой по ступеньке над ней, и, видимо, задела локтем по той болезненной точке, от которой немеет и колется все до кончиков пальцев, она взвизгнула и стала ее тереть. Ее кости все были длинными, от этого они казались особенно ломкими, и я испугался, что она их повредила. Надя расплакалась еще сильнее, а я стал тереть ей локоть, разгоняя кровь и проверяя целостность костей. Но плакала она, как казалось, не от боли.
– Дура, дура, дура! – повторяла она. А потом она вдруг на мгновение смягчилась. – Но вообще она имела право уехать искать свое счастье.
И снова зарядила эту свою «дуру». Обычно многоречивый Боря говорил мало, оставлял мне поле для деятельности. Это было благородно с его стороны, потому что он хорошо умел успокаивать, я испытал это на собственном опыте, меня до сих пор иногда накрывало мыслями о смерти матери.
– А ты новорожденных котят видела? – спросил вдруг я, немного не ожидая сам от себя этого. Я подумал, что вышло бы здорово, если бы ее утешило нечто милое, например, пушистые котята. Проблема состояла только в том, что у меня их не было.
– Видела маленьких, но новорожденных нет, – оторопело ответила она и даже прекратила обзывать свою мать.
– У нас тут кошка в подвале родила котят вчера. Я ей коробку с тряпкой принес, они там спят.
– Ого, покань, – сказал Боря, не раскрывший меня.
– Они правда сейчас похожи скорее на крысят, чем котят. Они такие интересные, значит, мама-кошка, она черепаховой расцветки, белая с рыжими и черными пятнами, а отец-кот, видимо, серый. Потому что там котята есть и серые, и рыжие, и черные. Белых только нет. Один рыжий совсем пушистый, остальные скорее гладкие. Носы у них у всех розовые, как у тебя пальцы на морозе.
Мама рассказывала, что в детстве, когда я плакал, она всегда могла меня отвлечь, переключить внимание на что-то другое. Взрослые тоже так отвлекаются, например, на телевидение или гороскопы. Ее напутствие мне помогло, Надя перестала плакать и полезла искать со мной несуществующих котят. Мы облазали весь подвал и ничего не нашли, зато Надя перестала плакать и обзываться. Я не был раскрыт, коробка для кошки действительно существовала, я поставил ее еще прошлым летом, но Мурка не поняла моих добрых намерений и не спала в ней.
После мы стояли с сигаретами расстроенные, даже я, отчего-то я немного надеялся на чудо, что котята и правда там будут, какими я описал. Но зато мы все казались спокойными.
– Мне легче стало, правда, когда я все рассказала. То есть я уже обсуждала это с подругами, но это не так здорово, как поделиться переживаниями с малознакомыми людьми. Вам же нет смысла мне врать. Или все дело в алкоголе, гуляющему по моему инфантильному телу. Но в любом случае, это было круто. Можем стать и куда менее малознакомыми людьми, если захотите.
Она смотрела на меня, будто бы я тут был самым главным. Я закивал.
– Конечно. Мы тебя проводим до дома, а завтра, может быть, у нас еще что-то будет. Или попозже немного. Но надеюсь, это твое заявление не перестанет быть актуальным утром с пришедшей головной болью, да. В общем, мы еще позовем тебя гулять.
– Здорово, – Надя даже снова улыбнулась своими кривоватыми зубками.
Мы повели ее домой. Голова кружилась, она жаловалась несколько раз на это, но мы с Борей стойко молчали, потому что хотелось показаться крепче. Вон, Надя, смотри, сколько мне нужно, чтобы напиться. Впрочем, гордиться было нечем, чем дольше остаешься трезвым, тем хуже организм защищает тебя от алкоголя. Ее папа даже не посмотрел на нас, забрал Надю в квартиру и только покачал головой. Я видел, как он нежен с ней, несмотря на то, что от нее пахло пивом, и от этого я еще больше почувствовал тепло к ней.
А потом мы снова пили в выходные, и в будние дни гуляли на трезвую голову.
Глава 5. Вернулся и занял мою комнату
Лето прошло, закончился и первый учебный месяц. Начинало холодать, но мы с Борей все не хотели переодевать наши спортивные куртки. Надин папа каждый день совал ей с собой шапку, и она милостиво соглашалась положить ее в сумку, чтобы ее тревожный отец беспокоился меньше. Ее тоска прошла довольно быстро, я мог только завидовать, она навещала ее снова лишь иногда. Тогда она начинала злиться, в ней хранилось много энергии на такие вещи. Надя оказалась бодрой и удивительно злобной девочкой. Доброта в ней тоже была, просто она умела становиться колкой и обидной, как терн с его кислыми ягодами. Моей влюбленности к Наде это не убавило, может быть, даже наоборот, мне нравилось изучать ее, я это делал до сих пор, так как не так легко было победить уже сложившийся ее образ в моей голове.
Сегодня я валялся на еще зеленой траве, смотрел в тускловатое, но до сих пор солнечное небо и курил. На самом деле я выпендривался, представлял себя героем фильма. Рядом на поляне Боря и Надя играли в бадминтон, шумели и громко переругивались, отпугивая всех других претендентов посидеть с нами на лужайке под солнцем. Это Надя как-то принесла ракетки, и Боря подхватил эту активность, меня тоже иногда веселило поиграться с ними. До этого я бросал воланчик с Надей, теперь должна была настать моя очередь с Борей, но я слег с мигренозными пятнами перед глазами. Сегодня я стал исследователем, пробовал смотреть на солнце, чтобы понять, усиливаются ли они на свету, казалось, что да. Когда меня все-таки затошнило, я, наконец, закрыл глаза рукой.
– В здоровом теле – здоровый дух, Гришка! Спорт – это здоровье и красота! – окликнула меня Надя.
– Это не всегда работает, у меня есть доказательства!
– О нет, он опять начал чернушные шутки про свою ситуацию с мамой, над которыми может смеяться только он.
Они оба подбежали ко мне, но я не спешил отнимать руку от глаз, защищенный от них локтем. Послышался Надин голос:
– Вы посмотрите, какой у нас тут крутой молодой человек с сигаретой, полный страданий и несбывшихся надежд.
Кто-то ткнул меня под ребра пальцами, скорее всего, Боря, но мне не стало щекотно, поэтому я сумел сохранить свою позу.
– Ладно, оставим его, пусть страдает. Хотя если долго не обращать на него внимания в душевных мучениях, он умрет, – это уже звучал голос Бори. Они уселись по обе стороны от меня на траву, я даже чувствовал тепло от разгоряченных тел после игры.
– Я не страдаю, я размышляю.
– Неужели Роден ничему тебя не научил? На «Мыслителя» ты совсем не похож.
– А я и не его изображаю. Я знаешь кто? Стреляный солдат, например, руки Верещагина. И вот я доживаю свои последние минуты, а это самое время для самых знаковых мыслей.
Боря затряс мою руку, по тому, как он цепко схватил меня, я и с закрытыми глазами распознал его.
– А вот об этом я как раз думал недавно. Вы приколитесь, вот будете вы умирать, и типа правда кажется, что человек должен подумать какие-то свои главные мысли, да? Там, например, какую-то философскую мысль выдать, или поразмышлять там о любви к ближним, или о смысле прожитых лет, или рассказать всем, как надо жить. А у тебя такая засада – песня в голове крутится. И ты такой лежишь, и думаешь, типа если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. А ведь на самом деле все уже очень плохо, а вот мелодия именно эта крутится. Ну или ты думаешь, как у тебя коленка чешется. И ты такой типа, не, подумай о чем-то другом, о великом, а этот зуд все не дает собраться. Ну или еще какая-то такая дребедень. Вот это охренеть подстава, да?
– Я бы о тебе, Надь, думал, – сказал я. Она давно была в курсе, что нравится мне, это уже успело стать шуткой. Она меня не отвергала, но я и сам всерьез с ней не поговорил об этом. Меня устраивало общаться, дружить и фантазировать.
– А я об Англии. Мама говорила, что в неприятной ситуации нужно закрывать глаза и думать об Англии.
– Да это же важно, какая будет последняя мысль! – Боря вдруг разозлился и начал толкать меня. Я наконец убрал руку, пятна перед глазами исчезли, осталось только недовольное лицо моего друга.
– Если не перестанешь тыкать меня, то твоей последней мыслью станут размышления о том, какая будет твоя последняя мысль.
Боря схватился за шею и повалился на траву, хрипя и хватая ртом воздух.
– О нет, Гришка, ты сглазил Борю, это действительно станет его последней мыслью, – Надя покачала головой. Свет гулял по ее щекам от движений, от этого глаза казались темными и загадочными. Боря угомонился.
– Я бы хотел понять, в чем состоял смысл всей моей жизни. Так, чтобы удовлетвориться им и принять, что все, что я делал, и было ради него, да? А потом закрыть глаза и тихо скончаться.
– Тогда тебе нужно умереть миллионером.
– А что, ты думаешь, я обязательно буду жить ради денег? – Боря снова на меня обиделся.
– А мне директором аукционного общества, если такие есть. Еще коммунисткой-феминисткой.
– Феминисткой-то чего?
Надины волосы раздувал ветер, они смешивались с дымом сигарет. По олимпийке Бори ползали зеленые жучки, что-то среднее между клопами и тлей, я не знал их название. Наверняка они поселились и на мне, и на Наде, но Боря был одет в черное, на нем они виднелись особенно четко. Мне вдруг показалось, что я так их обоих люблю, что это отличный день, и пока они оба рядом, я счастлив. Это ощущение было плотным, уверенным, хотя я знал, что оно легко закончится, стоит мне остаться одному. Тем более меня ожидали перемены, о которых мне не хотелось думать, поэтому я даже не сказал им об этом.
– У меня сегодня дед из тюрьмы выходит. То есть вышел уже, но мне неохота его встречать.
– Чего? Дуй домой тогда, это же твой дед! Поздравляю! – Боре отчего-то это показалось хорошим событием.
– Реальный арестант, опроси его, я хочу знать все про жизнь в закрытом казенном помещении. У него есть купола?
– Понятия не имею. В последний раз я его видел, когда даже себя не особенно помнил.
– Интересно, у него есть туберкулез?
– Наверняка есть, да. Нам придется сдать тебя в лепрозорий.
– Это не для туберкулеза!
– Тогда на гноище. Иди на гноище заранее, там такие, как ты, – это норма, – на этот раз Боря стал тыкать в меня ракеткой. Я выхватил ее и сунул ему в руку вторую, призывая к игре. Мне нужно было переключить его внимание, чтобы он снова не пытался отправить меня к деду. Я не собирался возвращаться домой как можно дольше.
Так я и проморочил им и себе голову до позднего вечера, когда даже Боре захотелось домой. У меня были мысли остаться на улице, не возвращаться в квартиру, пока деда снова не посадят или он не умрет, но я, конечно, понимал, что я уже слишком взрослый, чтобы воплощать свою фантазию в реальность. Мы с бабой Тасей приспособились к совместной жизни, почти не мешали и почти ничего не давали друг другу. Конечно, это эгоистичные соображения с моей стороны, она кормила меня, содержала, но ничего обо мне она не знала по-настоящему, не понимала меня и, даже, казалось, – не любила. К ее чести, ненависти или какой-то особой неприязни от нее я тоже не чувствовал. Да и я не давал ей любви, поддержки и радости от ребенка в доме. Но меня, в конце концов, это тоже стало устраивать, так было удобно, тем более у меня оставались люди, которые давали мне тепло и участие.
Дед был мне не нужен. Бабе Тасе тоже не особенно, как мне казалось. За неделю до его освобождения она начала генеральную уборку в и без того чистом доме. Баба Тася вымыла каждый уголок квартиры, просушила на солнце все ковры, постирала всякую тряпочку в доме, протерла многочисленные картинки и фотографии. С вечера она начала готовить, и у меня появлялись дурацкие мысли, что дед – это Робин Бобин Барабек, который скушал сорок человек. Куда ему столько еды, я не представлял. Я теплил надежду, что он все-таки не настолько много ест и мне еще останутся пироги с капустой.
Когда я открыл дверь в квартиру, там было тихо, и я подумал, может быть, дед все-таки не вернулся из тюрьмы. Свет горел только на кухне, и шумела вода. Мне представился ножичек в крови на рыжем крашеном полу, и дед, как бы он ни выглядел, отмывающим руки в раковине на кухне от останков моей бабушки. Он был уголовником, это мне говорили, что он сел за воровство, а на самом деле оно могло оказаться как угодно.
Я тихо прошел на кухню, стараясь остаться незамеченным, баба Тася в одной ночной сорочке мыла посуду. На голове у нее была нарядная косынка, при мне она надевала ее только на юбилей к своей подруге – белая, с рассыпанными по ней красными и голубыми цветами. В этом узоре читалось что-то юное, давно ушедшее от нее.
– Сказала же тебе: быть после школы. Даже не поприветствовал Володю.
Баба Тася не обернулась на меня, она, видимо, уже так привыкла к моим шагам, что смогла различить их в тишине.
– Да завтра поприветствую. Ничего, вон сколько ждал его возвращения, от одного дня не убудет.
Мне хотелось, чтобы она сказала, что на следующий он каким-то образом исчезнет из наших жизней.
– Володя будет спать в своей комнате. Я тебе постелила у себя.
– Но это моя комната уже! Сколько лет в тюрьме сидел, а теперь вот! Тем более ты его жена, пусть у тебя и спит!
Это все жутко мне не понравилось, это была моя комната в моем новом доме. Я только начал считать его своим, делиться с кем-то я не хотел. У меня появлялись самые разные мысли: от уйти из дома до подпалить деду пятки, пока он спит.
– Это его комната, ты там жил временно. Может быть, потом будешь жить вместе с дедом, посмотрим.
Мне хотелось обозвать ее старой дурой, но воспитание взяло свое и я, резко развернувшись, направился в свою-дедовскую комнату.
– Куда ты? Я тебе уже все постелила.
– За футболкой.
– Одежду на ночь и на завтра я тебе взяла.
– Мне другая нужна.
Я не старался быть тихим, но вышло так, что я зашел почти бесшумно. Дед оставался бдительным и во сне и сел в постели, пока я еще не успел дойти до комода. Он включил ночник с оранжевым абажуром, спасавшим меня уже три года от ночных кошмаров. Дед оказался тощим мужиком со впалой грудью и обвисающими неприятными мышцами. В полумраке его кожа виделась темной, загорелой, но будто в ее пигмент подмешали цемент, она была пыльной и сероватой. На его груди синел какой-то бородатый дядька с ореолом вокруг головы, видимо, Иисус, только очень некрасивый, без грусти в глазах с икон. Кисти тоже были в каких-то знаках, а на тощих коленях виднелись звезды.
– Гриша, это ты? – его голос был сухой, будто в горле застрял песок.
– Ага, привет.
– Уважать старших тебя не учили?
– Эм, ладно, здравствуйте.
– Можешь ко мне обращаться хоть через «эй, ты». А прийти и встретить меня было надо. Услышал?
– Не больно мне интересно.
– Юношеский бунт, или ты у нас всегда такой дерзкий? Вон пошел.
Мне показалось, что дед хотел затеять со мной войну. Но несмотря на то, что у меня появлялись самые поганые мысли насчет него, мне было лень вступать в нее, я думал только о том, что хочу вернуть свою комнату, а его выселить обратно в камеру подальше от нашего дома, в остальном я мог даже проиграть ему. Слава победителя меня не прельщала, отсутствие деда удовлетворило бы желания насчет моей нынешней семьи.
Ночью в комнате бабы Таси я лежал на раскладушке и рассматривал новую деревянную тумбу у ее кровати, еще с утра ее не было. Неужели дед с зоны явился с подарком? Вряд ли баба Тася достала ее сама к приходу мужа, хотя она и очень старалась встретить его хорошо. Меня раздражала жесткая раскладушка, мне хотелось вернуться к своему привычно неудобному дивану, и чтобы зорька висела на стене надо мной. А теперь она защищала и приносила удачу ему, и отчего-то мне казалось, что мама бы этого не хотела, я думал, она не любила его и не особенно-то знала.
Когда я проснулся, он уже встал и курил прямо на кухне, положив свои старые локти на белую выглаженную скатерть бабы Таси. Даже мне совестливо было оставить на ней пятно чая, о пепле вообще не могло быть речи. Он сидел в одних трениках, и его грудь колесом вздымалась сильнее, чем надо было, а при выдохе будто бы проваливалась внутрь него.
– Доброе утро, дедушка и бабушка, – я улыбнулся, стараясь быть как можно более очаровательным. После бессонной ночи я выдумал новую стратегию, чтобы вести себя как можно дружелюбнее и узнать врага в лицо. А после этого уже продумывать план, как изжить деда.
Баба Тася пожелала мне в ответ того же, а дед промолчал. Он смотрел на меня, закрыв рот рукой, в которой держал сигарету, и мне показалось, что он улыбнулся мне взглядом. Хотя, возможно, дело было в том, что он в ответ внимательно изучал меня.
Он не спрашивал, но во время завтрака я сам начал рассказывать о школе, моих любимых предметах, хотя по-настоящему таких и не было, и о моих друзьях. Он слушал молча, и вскоре мне надоело болтать, и мы доели завтрак в тишине. Я взял с собой в школу несколько пирожков, не столько для того, чтобы поделиться ими с Борей и Надей, а больше для того, чтобы деду досталось меньше. Пока наша война была тихой, наверняка даже он не до конца уверился, что я принял его вызов.
Как Надя ни просила меня разузнать, дед ничего не рассказывал про тюрьму всю следующую неделю. Он вообще не очень много находился дома, все ходил по разным инстанциям с документами, навещал каких-то знакомых, приносил еду домой, будто не из магазинов. Иногда я крутился рядом и он мог рассказать, как устанавливал шкаф, как получил квартиру, как ссорился с соседями по участку, пока они жили еще в отдельном доме. Про маму со мной он не говорил, не сказал, что сочувствует или скучает по ней. Как-то они ездили на кладбище, это я понял, застав бабу Тасю, вернувшуюся домой, во всем черном. Но меня они не только не звали, а даже не сказали, что были там. Одним вечером он нашел в моей куртке зажигалку и пачку сигарет и подозвал меня к себе.
– Тася не справляется с тобой. А я еще раз увижу, серьезно накажу тебя. На первый раз прощаю, мы же, считай, не поговорили с тобой о правилах, что можно, а что нельзя делать, хотя про курение, думаю, инстинктивно должно быть понятно.
Баба Тася ни разу не лазила по моим карманам, хотя она не могла не знать, что я курю. Эта зажигалка была со мной с самого начала, деду осталось только забрать моего Толика-Алкоголика, чтобы разрушить в доме все мое. И я думал, что дед был бы не против это сделать, потому что Толик-Алкоголик узнал его, людей из прошлого он помнил лучше, загорланил на всю улицу:
– Володька-зек! Володька-зек!
Дед, скрипя зубами, подошел к нему, хотел разобраться, но продуктивного разговора у них не вышло, даже ему стало понятно, что Толика-Алкоголика не перевоспитать.
В выходной день дед устраивал шашлыки на нашем садовом участке. Откуда-то он нашел несколько килограмм свинины, баба Тася весь день возилась с едой, а меня он отправил колоть дрова и искать ветки. Дед, чертыхаясь, разводил костер, мне казалось, он должен уметь все, а у него выходило неумело. Видимо, в тюрьме он такого не делал, а большую часть жизни он провел именно там. Я специально стоял за его спиной, чтобы он видел, что я знаю, как у него ничего не выходит.
Конечно, в итоге он справился, я подавал ему шампуры, а потом дед и вовсе оставил меня с мясом, потому что стали подтягиваться гости. Я почти никого не знал, хотя некоторых видел в городе. Знал я двух бабулек, они были подругами бабы Таси, а их мужья оказались дедовскими друзьями. Никогда не мог подумать, что они тут дружат семьями. Приходили еще старики, у некоторых из них руки тоже казались синими от чернил, и несколько относительно молодых людей, детей этих. Боря все хотел прийти поесть и очень расстраивался, когда именно в этот день отец увез его в Василевск по делам.
Было много водки, мне хотелось ее, и один дедок даже предлагал мне налить, пока мои не видят, но меня не особенно-то прельщала перспектива веселиться вместе с ними. Пару раз я бегал курить со спичечным коробком прямо за баню назло деду, потому что он был слишком погружен в общение, чтобы уследить. Я видел, как он шлепнул по попе одну не самую молодую женщину, но все же моложе его лет на двадцать, и она отреагировала на это удивительно мирно. Один старик так быстро упился, что я с еще малознакомым мне мужиком положили его на диванчик в предбаннике, а какая-то тетка разрыдалась, смотря на бабу Тасю, и выла, роняя пьяные слезы, на всю деревню. Все пили за дедово возвращение и говорили ему хорошие слова, будто бы он не из тюрьмы вернулся, а героем с войны. Заглядывая в некоторые лица, я ловил себя на том, что они прямо трепетали перед ним: улыбались заискивающе, подливали ему водки и подавали блюда.
– За славного нашего Володьку, уважаемого, справедливого, обязательного человека, который всегда держит свое слово! Настоящий человек! За то, чтобы ты и дальше процветал, чтобы стол был полон каждый день, где бы ты ни был, и долгих-долгих тебе лет жизни! Мы все тебя любим и уважаем, многие тебе здесь обязаны, и каждый тебе желает только самого хорошего.
Когда все упились, баба Тася со своими подругами отошли в сторонку на лавочку и затянули песни. Моя бабушка не пила, поэтому у других старушек голоса были пьяными, а у нее просто грустным. Они пели в основном народные песни про женщин, которых обманули мужчины, и про мужчин, вынужденных сложить где-то голову.
Постепенно все стали расходиться, целуя деда в щеку и пожимая ему руки. Важный был для них всех, как партийный работник. Я все не мог понять, откуда столько внимания, неужели они все боялись его или тоже когда-то сидели вместе с ним? По обрывкам разговоров я только понял, что он некоторым здоровски помог, так сильно, что у них слезились глаза от благодарности, когда они смотрели на него. Казалось бы, он сидел за воровство, а люди будто бы этого и не замечали. Да какой хороший советский человек не подворовывает, но все-таки не до такой степени, чтобы сесть за это на несколько лет.
К темноте остались только еще один дед с хитрым взглядом и злыми морщинами на улыбающемся лице, и одна тетка, которая помогала бабе Тасе мыть посуду в тазе. Тетка все пыталась вывести ее на разговор, но баба Тася после ухода ее подруг стала совсем хмурой, молчаливой и будто бы настороженной. Может быть, дело было в том, что дед и Михаил Львович оба остекленели от водки, но продолжали употреблять ее за тихой беседой. Они не вели себя агрессивно, но что-то настораживающее присутствовало в них.
– Шел бы ты домой, Гриша, – сказала баба Тася, когда я подносил им чистую воду для посуды.
– Ой, да вы что, тетя Тась, напьются мужики, как же мы их потащим с тобой вдвоем, – сказала тетка.
– В бане положим, если до дома дойти не смогут.
– Да до бани тоже же добраться надо, это и вы спину надорвете, и я. Я вот лопухи сейчас хожу собираю, пока все не досохли еще, помогает к пояснице привязать. Ты бы тоже своего юнца послала, пусть насобирает тебе.
Баба Тася ничего не ответила, но, видимо, молчаливо согласилась с ней, что мне можно и остаться. Мне было скучно, я как дебил бесцельно шатался по участку, жуя травинки и пугая мотыльков, и когда это стало совсем невыносимо, сел за стол к дедам доедать их закуску. Мне думалось поболтать с ними, но я остался незаметной тенью, дед даже не посмотрел в мою сторону.
Он сидел молча, лупал пьяными глазами сквозь своего собеседника, будто ошалевший кот. Я съел все оливки и соленые огурцы со стола, и уже думал пойти гулять дальше по участку, как он наконец заговорил со мной.
– О твоей матери, о Тамаре, – его язык с трудом продирался через слова. Эта тема меня испугала, я так и замер со стаканом компота в руках.
– Мне жаль, что ты потерял ее.
– Тяжело мальчику, но у каждого своя трагедия, – довольно живо для остекленелого деда сказал Михаил Львович.
– И мне жаль, – наконец сказал я. Это же была не только моя мама, но и твоя дочь, хотелось добавить мне, но язык не поворачивался. За бабой Тасей родительское право я признавал, но отдавать свою маму кому-то еще я не собирался, по рассказам дед почти с ними не жил, вряд ли он мог знать, какая она была по-настоящему. Может быть, я перенял это ощущение от него, поэтому злился на него еще до его возвращения.
– В твоем возрасте она была мало похожа на тебя. Тома была активной, заводилой, так можно сказать. Хотя, возможно, бунтовать ты научился от нее. Кровь – не вода.
Я тогда не думал, что я бунтую, и о нашей похожести ни разу не размышлял. Хорошо бы, если бы я вырос в нее, потому что мама была чудесной, но я особенно никогда не надеялся на это.
– Водки налей юнцу, Миш.
Лицо Михаила Львовича стало хитрым, он подмигнул мне, будто думал, что я только и жду, когда меня пригласят к условно-взрослым развлечениям. Он наполнил рюмку до половины, потом снова с озорством взглянул на меня и долил остальное. К водке я не притронулся.
– Вроде спортсменка, в дисциплине ее держали, а проблем с ней было выше крыши, – дед посмотрел на меня, будто бы я должен понять его и посочувствовать. Если он собирался исповедаться мне в том, что мало уделял маме внимания или поступал как-то не так с ее воспитанием, я не собирался потакать ему и облегчать вину.
– Тебе ли не знать.
Дед скривился, а Михаил Львович глуповато стал оглядываться по сторонам, видимо привлекая к себе его внимание.
– Это что, соловей уже поет? Прислушайтесь. Я думал, они только с рассветом просыпаются, во дела.
– Птицы по ночам петь не должны, – авторитетно сказал дед, не сводя взгляд с меня. – С характером была наша Тома, делала что хотела, никого не слушала. Я, видно, мягок с ней был, нужно было ее закидоны на корню пресекать.
А я вот сейчас слушать его не хотел и оказался полностью солидарным с мамой. Где-то с вершин деревьев и правда надрывалась какая-то птица, но мне думалось, что это зорька, мамина подружка. Баба Тася гремела посудой по медному тазу, тетка продолжала что-то ей надиктовывать, скоро эти звуки должны были спугнуть ночную певицу.
– Она когда принесла весть о тебе, мы же даже не знали, кто отец, не признавалась.
– А я думал, что хоть вы откроете мне эту тайну.
– Кандидатов было много. Ее до дома провожал то один, то другой, она, дура, только смеялась и каждого объявляла женихом.
Он, проклятый уголовник, алкоголик и туберкулезник, смел еще оскорблять мою маму, думал, что это сойдет ему с рук. Мое лицо обдало жаром, так, будто я все-таки выпил водки, я представил, как кинусь на него, заставлю ответить за свои слова. Еще бы звоночек, и я бы сделал это. Меня так поразила эта мысль, что я поначалу даже ничего не ответил ему.
Дед отвернулся от меня и потянулся к своей рюмке.
– Если бы не шлялась по мужикам, то не заболела бы по женской части, подцепила что-то наверняка от них на сабантуе и в расплату в могилу слегла.
И тут я кинулся на него с кулаками, дед уронил рюмку и чуть не слетел с табуретки.
– Тварь! Она болела! Просто болела, потому что так случается! Она не была виновата ни в чем! Безмозглая тупая скотина!
Я так кричал, что совершенно не мог ожидать от себя даже в детстве, когда дрался с детьми во дворе. Тетя Ира объясняла мне, что ей просто не повезло, такое могло случиться с любой женщиной, некоторые болезни приходят безо всякой причины, известной науке, и смерть забирает людей не за что-то, она порой бессмысленна и неумолима. Я бил деда руками и ногами, ничего не чувствуя и не слыша, пока вдруг не смог пошевелиться, оказавшись прижатым к столу с заломанными локтями. Я дергался, но в его с виду дряхлом теле оставалась мужская сила, которую я даже в ярости не мог перебороть. На белой скатерти, заляпанной маслом от шашлыка, расплывались темные пятна прямо передо мной, мое мгновенно суженное сознание стало возвращаться ко мне, и я понял наконец, что это моя кровь, стекающая с лица. Ее вкус обнаружился и во рту, щека слева горела, плечи, казалось, вот-вот выедут из своих суставов, и несколько болезненных отметин еще горели по моему телу.
– А тебя я жизни научу, ой, как научу, – послышался голос деда надо мной. Он говорил спокойно, но я чувствовал кипящую злость внутри него. Где-то рядом вздыхала и охала бабкина тетка, ночная птица не испугалась нас и по-прежнему насвистывала мелодию. Мой гнев постепенно сменялся стыдливым страхом, и я надеялся, что мои глаза мокрые только от ударов по лицу.
– Ты у меня научишься уважению, – он дернул меня за руки, и я подумал, что суставы в плечах все-таки не выдержат. Я попробовал еще раз вывернуться, но в этот раз вышло даже слабее.
– Володь, парню четырнадцать лет, поздновато для таких мер, – примирительно сказал Михаил Львович.
– Никогда поздно не бывает, сам знаешь.
– Да что ты, подмять его под себя хочешь? Слабаком вырастет. А что тебя уважать стоит, думаю, он начинает понимать постепенно.
– Начинает понимать? Начинаешь, тебя спрашиваю, понимать?
Он сильнее прижал меня к столу. Гордость, вредность и обида за маму боролись во мне с желанием высвободиться, но ничто не побеждало, поэтому я продолжал молчать, чтобы не начать оскорблять его и не прогнуться под дедовским напором.
– Володя, ради всего святого, это же Томин сын, – послышался даже в такой ситуации спокойный голос бабы Таси. Она говорила тихо, но слова ее звучали особенно ясно и важно.
– Иди мой посуду. Это только наше с ним дело.
Дед выругался, а потом ослабил хватку. Я выпрямился и быстро выбрался из-под него. В темноте я не мог рассмотреть, остались ли у него хоть какие-то следы от моих побоев, но дышал он тяжело.
– Прогуляйся, подумай, а потом мы с тобой еще поговорим.
Я попятился назад, не выпуская деда из вида, а когда отошел на безопасное расстояние, ринулся в сторону калитки. Мне не так хотелось убежать от побоев, сколько оказаться как можно скорее где-то вдалеке от всех них.
– Гриша, подожди! – услышал я голос бабы Таси за спиной, но останавливаться я уже не стал.
Я замедлил бег только в перелеске между дачей и городом, когда миновал все дома на садовых участках и скрылся от людей. Щека больше не кровоточила, губа распухла, синяки на теле не казались пугающими. С таким же результатом я мог свалиться и с дерева. Обида не проходила, я жалел, что у меня не вышло отмутузить его хорошенько, поэтому я думал, что наша с ним война еще не закончена. Я решил выбросить его вещи из окна и пустить слух, будто бы в тюрьме его опускали.
Но домой идти не хотелось. Я знал, что если бы я пришел к Боре, каждый бы, кого я встретил в квартире, поворчал по поводу моего позднего визита, но никто бы не стал меня выгонять. Мне не составило бы труда и остаться у него ночевать, и вытащить его гулять на всю ночь. Но оказалось, не он был нужен мне сейчас. Я повернул к Надиному дому.
Когда ее отца не было, я уже несколько раз заходил в гости в ее квартиру, где царил вечный бардак, знал ее окна, сейчас в ее комнате еще горел свет. Надин отец должен был быть дома, я не мог туда заявиться просто так. В книгах иногда кидали камушки в окошко, призывая друзей выйти, но на ее окне уже была трещина, заклеенная лентой, и мне казалось, это может закончиться нехорошо. Я топтался возле ее дома, размазывал пыль по своим кроссовкам, не мог устоять на месте. Надя не выглядывала в окно, хотя мне казалось, что от меня искрит, как от грозовой тучи, она не может не заметить мое присутствие. Потом мне вдруг пришло одно очень просто умозаключение: ее отец мягкий слабовольный человек, он не будет ругать меня за ночной визит, а разрешит Наде выйти.
Так и вышло. Я позвонил в дверь и стоял, прижавшись к стене, чтобы в глазок было не разглядеть моего лица, только макушку, в которой нет ничего подозрительного. Послышалось тихое шарканье тапок ее отца, и прежде, чем он успел спросить, кто это, я затараторил.
– Здравствуйте, это Гриша Нещадимов, я друг Нади. Простите, пожалуйста, что беспокою вас так поздно, надеюсь, что вы еще не спали. У нас телефона нет, а мне срочно нужно кое-что Наде передать, а завтра ранним утром я уезжаю и уже никак.
Только бы он не спросил, что именно я хотел передать, рациональной лжи я бы сейчас не смог выдать. Он растерялся, пришлось ждать, пока он ответит, а секунды для меня теперь превратились в минуты.
– Гриша, здравствуй. Ты заходи, конечно, мы как раз чайник только вскипятили…
Я его перебил.
– Спасибо большое, но мне на пару минут, Надя же выйдет сюда сама?
– Ну если на пару минут.
– Пап, это что, ко мне?
– Наденька, к тебе Гриша в гости пришел. То есть не в гости. Ты выйдешь на пару минут к нему?
Ее шаги были тяжелыми, хотя сама она и казалась лёгонькой, это выходило от ее излишней важности. Дверь наконец-то открылась, и она оказалась за ней одна, в коротких беговых шортах и огромной застиранной рубашке, наверное, раньше принадлежавшей ее отцу.
– Вот это морда, звездец.
Мне, конечно, хотелось, чтобы он сказала что-то более ласковое, мне нужно было рассказать ей о том, как мне плохо, она бы послушала, может быть, даже погладила. Лицо больше почти не болело, но у меня по-прежнему все крутило в груди от слов деда, и оттого, что мне казалось – теперь он разрушил всю мою спокойную жизнь. Мой взгляд цеплялся к ее кукольным губам, я пытался посмотреть ей в глаза, но все время соскальзывал к ним. На секунду ей все-таки самой удалось поймать мой взгляд, она смотрела на меня очень серьезно, и я, наконец, подошел к ней и поцеловал ее, схватив за талию и прижав к себе сильнее, чем мне думалось. На моей губе была трещина, как у нее, когда я увидел ее впервые, на ней собралась кровь, поэтому я сразу проник в нее языком, чтобы прикрыть свою ранку. Она целовалась со мной, наверняка все же чувствуя соленый вкус во рту, а я уже не только тянул ее к себе, сам навалился на нее, прижал к двери. Мне ужасно хотелось снять с нее шорты, но несмотря на то, что она обнималась со мной добровольно, вряд ли бы она позволила сделать это с ней в ближайшие годы. Я целовал свою Надю, бывшую отличницу, которая хотела стать искусствоведом, совсем не так, как я себе это воображал. Я сам ее отпустил и сделал шаг назад.
– Вау, мой первый поцелуй такой же кровавый, как я себе представляла дефлорацию. Тоже кое-что первое, кстати, но более ожидаемое до крови.
– А?
– Судя по всему, ты только что победил врага и по зову предков пришел получить женщину в награду.
– Чего?
– Ты что, блин, не видишь, я нервничаю и несу чушь? Гриш, что с тобой случилось? Надеюсь, ты так с Борей подрался?
У соседей на батарее стояла консервная банка с бычками, в воздухе пахло дымом и сейчас, поэтому я мог закурить. Надя обернулась на дверь сзади, но ничего мне не сказала. Я потерял трезвость мыслей окончательно, у меня даже в висках стучало, и я все не мог врубиться, что она говорит. С Борей мы никогда серьезно не дрались, я не мог понять, чем вышло бы лучше, если бы это был он.
– Да дед это. Он такое про мою маму сказал.
– Дедовщина все-таки началась? Расскажи, Гриш.
– Вот если у нее были разные мужчины, это же не значит, что от этого у нее рак груди мог быть? Это же бред?
– Конечно, бред. Это же не венерическое заболевание. Я, наоборот, слышала, что у нерожавших старых дев это может вероятнее случиться. Но вообще рак точно не связан с этим, там же клеточная мутация, а не инфекция. Поверь мне, я самый умный человек в нашей школе.
Мне стало стыдно от своего вопроса. Не потому, что выставил себя глупо, а потому, что засомневался, будто дедовские слова – не полный бред.
На подбородке у Нади осталось красное пятнышко. Когда Надя заметила мой взгляд, она стерла его рукой. Все в голове спуталось, мне хотелось перевести тему, и в то же время было много вещей, которые мне нужно было сказать.
– Я тебя люблю, короче.
– Это потому что я могу развеять твои сомнения? Слушай, в биологии я не особо сильна, как в литературе или истории, но я могу прочитать побольше про рак и рассказать тебе. Или можем вместе поискать информацию, если ты мне не доверяешь.
Вот я не думал, что Надя переключает внимание хуже меня. Я ничего ей не ответил, стоял и рассматривал клеточки на ее рубашке. Если расфокусировать взгляд, они наслаивались одни на другие, и получалась такая бесконечно психоделичная картинка. Надя взяла у меня сигарету, сделала затяжку и отдала обратно.
– Мне это на самом деле жутко приятно. Стараюсь придумать шутку, чтобы разрядить атмосферу, но сама переживаю и не выходит. Да я давно жду, когда ты решишься, так что мне здорово, что ты меня любишь. Я, наверное, тоже, хотя я еще не определила для себя это понятие.
Надя прикоснулась губами к моей щеке, так, должно быть, мы и должны были целоваться в первый раз. Потом она над чем-то тихо засмеялась каким-то неестественным для себя образом, и я подумал, что возможно выгляжу как-то смешно.
– Тебе очень идет эта рубашка.
– Ага, старые протертые вещи не моего размера – это вообще мой конек. Тебе нужно обработать ссадины. И тебе, наверное, блин, больно. За всей нашей любовной драмой я забыла о милосердии! Пойдем, я намажу тебя зеленкой, папа будет не против, наоборот, поможет.
– Да мне особо не больно.
Мне хотелось, чтобы она меня погладила.
– Выбрасывай бычок, пойдем.
Надя затащила меня в квартиру. Ее отец дома ходил в растянутых трениках и точно такой же рубашке, как у Нади. Он испугался моего вида, будто бы у меня как минимум гвоздь из лица торчал, засуетился и стал беспорядочно выставлять все вещи из шкафчика в поисках зеленки. В итоге нашел бутылочку медицинского спирта, зачем-то несколько раз понюхал его и разлил по вате так, что с нее стекало на пол. Надя смотрела на меня, и я старался не корчиться, пока промокал себя ватой.
– Гриша, давай позвоним домой твоей бабушке, – серьезно и даже настойчиво сказал ее отец. Он не представлялся, но я знал, что Надино отчество Валерьевна. В голове у меня так и не сформировался образ, как называть его мысленно, он мог оказаться как Валерием, так и дядей Валерой, а скорее даже Валерием каким-то там.
– Так у меня не работает телефон, – вспомнил я свою прошлую ложь.
– Хорошо, то есть плохо, конечно. Ты можешь рассказать мне о своей проблеме. Ты встретил хулиганов или у тебя какие-то неприятности дома?
– Да, хулиганы, скорее, это ребята из моей школы, но из параллельного класса. Однажды мы с друзьями играли в мяч на их территории, как бы мы не знали, что они там все время ее занимают, и когда они попросили нас уйти, мы уже были слишком гордыми и не пошли, с этого все и началось…
Надя перебила меня.
– Это его дед-уголовник, пап. Гриша не хочет возвращаться домой сегодня, можно он у нас переночует? Предвещая твои опасения – на раскладушке на кухне, например.
От ее слов стало неудобно и мне и ее отцу. Мы оба почесали себе голову, может быть, поэтому я тоже понравился Наде. Она была прямолинейная с отцом, но с другой стороны, будь я с мамой, я наверняка бы тоже ничего от нее не таил.
– Да, конечно, но я считаю, мы все равно должны связаться с твоей семьей. Но если ты думаешь, что там тебе угрожает опасность, то мы обязаны сообщить в соответствующие инстанции.
– Да ничего, я сейчас домой пойду.
Я встал из-за стола. Конечно, я не собирался идти туда, я все еще мог объявиться у Бори, вряд ли бы его родители озаботились вопросом связи с моей бабушкой.
– Тогда я отведу тебя.
– Папа сейчас пытается принять взрослое осознанное решение. Ничего ты не собираешься домой, меня не провести. Пап, давай он останется у нас.
Ее бедный отец взялся за голову, нахмурился. Ему как учителю наверняка приходилось разбираться с детскими проблемами и раньше, но он, кажется, так и не свыкся с этой мыслью.
– Ладно, ребят. Гриша, сейчас поздно уже, я постелю тебе у нас. А завтра мы с тобой подумаем хорошенько, что делать.
Возможно, когда я стану взрослым, я окажусь таким же жалким и нерешительным, как он, потому что даже сейчас я не смог настоять на своем походе к Боре и сел обратно. Валерий какой-то там достал с захламленного балкона раскладушку и постелил мне на кухне, как и сказала Надя. Мы еще попили чай, от еды я отказался, и перед сном он накапал мне валерьянки. Мы с Надей еще посидели, она все пыталась добиться от меня, что я собираюсь делать с дедом, но внятного ответа я не давал ей. Ее папа все ходил по квартире, возможно, контролируя мое общение с его любимой дочкой, а может быть, переживая и за меня. В конце концов, Надя решила, что я устал и ничего не соображаю, так она и сказала мне, и ушла к себе в комнату. Через полчаса она встала, чтобы якобы попить воды на кухне, и поцеловала меня в щеку, прежде чем снова удалиться.
Я лежал на скрипучей раскладушке, сна не было, но и толковых мыслей мне не приходило. Вокруг был бардак, явно ощущалось, что мамы в их доме больше нет, а и Надя не доросла до роли хозяйки, и ее отец не слишком подготовился содержать дом в одиночку. Но он любил свою дочь, а она любила его, в этом состояло их счастье, и мне хотелось, чтобы они понимали это.
Несколько часов мне все-таки удалось поспать, хотя я и поднялся с рассветом. В квартире стояла тишина, за окном пела птица, точно такая же, как у нас на даче. Может быть, это могла оказаться одна и та же, и она преследовала меня или даже оберегала по маминому велению, если там пела все-таки зорька. Хотя при прошлой нашей встрече у нее это вышло не слишком хорошо. Показаться невежливым и неблагодарным я боялся меньше того, что ее отец все-таки решит проводить меня до бабы Таси и деда, поэтому я тихо выскользнул из квартиры, сумев никого не разбудить.
Боря бы не спрашивал меня, а помог найти мне решение. Иногда его отец мог врезать ему, он должен был разбираться в этом вопросе. Я не думал, что он скажет больше не возвращаться домой, но он мог подсказать, как именно лучше это сделать при моем самостоятельном желании. Пока я шел к нему, я так погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Поэтому баба Тася, сидевшая на лавке у его подъезда, предстала передо мной внезапно, только когда окликнула меня.
– Гриша, Боже мой, я думала, ты у своего друга.
Конечно, она же тоже просыпалась с рассветом и ходила по городу, разгоняя тревожность, я должен был подумать о вероятности встретить ее.
– Привет. Вот, как видишь, к нему шел.
– Присядь, пожалуйста.
Мы с ней уселись на скамейку с облупившейся зеленой краской, и я вдруг подумал, что бабка все-таки смогла стать мне родным человеком. Рядом с ней я чувствовал себя если не хорошо, то хотя бы более уютно, чем мог бы.
– Володя же – мой второй муж.
Я даже этого про нее не знал. Вот бы оказалось, что он не отец моей мамы, и тогда бы я на все мог посмотреть с другой стороны. Неродных детей же можно не любить, вышло бы так, что он и маме, и мне никем не приходится.
– Первый раз я вышла замуж в двадцать лет, это тридцать шестой год шел. Мой муж Саша, он был старше меня, очень энергичный волевой человек. Политикой интересовался. Да только прожили мы с ним меньше двух лет, за это время дети у нас с ним не получились.
Баба Тася замолкла, посмотрела на приоткрытое окно первого этажа и заговорила на полтона ниже.
– Репрессировали его. Дальше – с концами. Так и не знаю точно, что с ним стало там, но думаю, что ничего хорошего. Говорили, нет в живых. Ждала и надеялась я долго, а время мое женское утекало. Потом началась война, эвакуация, смерть кругом. А когда закончилась, встретила я Володьку. Он был гордый, с орденами. Девушек и посвежее жило темным-темно в Зарницком и прилегающих деревнях, а он вдруг выбрал меня. Мы быстро поженились, а только потом я узнала, что его отправили на фронт прямо из тюрьмы. Судьба, видно, была моя такая, с сидевшими мужчинами жить. Тогда, перед войной, он первый раз сел за воровство, но стране были нужны люди, вот его и мобилизовали. Ордена держали здесь его еще какие-то годы, гордился ими, на работу устроился. Потом снова сел. Когда вышел, уже про свою гордость не вспоминал, изменился, приобщился к жизни там. Работать на государство в тюрьме оказалось не в большом почете. Пока здесь жил, вышло у нас ребенка сделать, я на последний поезд вскочила, мне-то уже сорок лет тогда было. Несколько лет с нами пожил и опять в тюрьму ускользнул. Менялся все с каждым разом, я все хуже его знала. Да вот зато помогал, Гриша, нам. Всякий раз, как выйдет, откуда-то деньги у него есть, кто-то ему все должен здесь. Да и садился он не просто так, все помогал этим кому-то, должников вокруг себя собирал. Он – не хороший человек, но и не плохой окончательно, Гриша. Просто он привык жить совсем по-другому.
Баба Тася говорила медленно, делая паузы между предложениями, может быть, это был самый большой рассказ, который я от нее слышал.
– И что мне теперь, понять его? Он не должен был так говорить. То, что побил – фигня, я ведь и сам первый начал. Или к чему ты это вообще все сообщаешь?
Она молчала долго. Лицо ее ничего не выражало, и я думал, что, может быть, от старости она потеряла мысль, которую хотела сказать. Я уже решил встать и все-таки пойти к Боре, но она опомнилась.
– Это я к тому, Гриша, что тебе его недолго потерпеть. Скоро вернется в тюрьму обратно. Я у него вчера об этом спросила.
Такой откровенности от бабы Таси я не ожидал. Видимо она была сама не сильно рада появлению еще кого-то в ее доме. Баба Тася и меня не хотела к себе, но тут уж пришлось смириться. Очередной жилец был в тягость и ей.
У Бори я так и не появился в этот день, решил, что лучше вернусь вместе я бабой Тасей, чтобы встретить его. Когда я вошел в дом, он тоже не спал и уже был занят делом весьма символичным для нашего конфликта, дед точил ножи. Он подозвал меня к себе.
– Все понял?
Он не говорил о том, что был прав насчет мамы, а лишь о том, что нельзя больше перечить ему и тем более бросаться на него с кулаками. Я бы хотел, чтобы он извинился передо мной, и тогда бы в ответ я поступил бы так же. Но этого бы не произошло, поэтому я все-таки кивнул.
– Вот и хорошо.
Дед так и не разъяснил, что именно я должен был понять, и мне вдруг подумалось, что и он не может. Словарный запас у него оказался небольшой, свои мысли он формулировал очень топорно, и ему куда проще и яснее казалось выражаться силой и грубостью. Оставалось только пожалеть его за загубленную жизнь, но я был не настолько милосердным, поэтому единственное, что я смог – это не развивать конфликт дальше.
Дед прожил с нами еще чуть больше недели, я старался попадаться ему на глаза как можно реже, и он теперь не пытался меня воспитывать. Потом у нас появился новый холодильник, не перекупленный у кого-то, а прямо с завода, а на следующий день деда забрала полиция.
Глава 6. Прощай, друг
После того, как дед оставил наш дом, а я снова вернулся в свою комнату, все наладилось. Мы начали встречаться с Надей, хотя продолжали общаться, как раньше: целыми днями зависали втроем с Борей, подкалывали друг друга, смеялись, игрались, пили пиво и только иногда целовались или обнимались. У Бори тоже случился непродолжительный роман в неделю с Олесей, которая наверняка далась ему только из вредности к Наде. Но он вел себя с ней совершенно по-другому, при любой возможности тискал, показывал всем, кому допустимо, что она – его девушка. Олесе это очень быстро надоело, она рассталась с ним, Боря убивался столько же, сколько и длились их отношения, а потом снова стал смешным и легковесным. Мне казалось, что я чувствую себя счастливым, насколько это было возможным, они здоровски меня отвлекали, и только по ночам я лежал под своей птицей-зорькой, мучаясь оттого, что я стал ее хозяином.
После моего дня рождения спокойствие снова пошатнулось. Дядя Виталик схватил сердечный приступ; он промучился несколько дней в стенах больницы, я с трепетом следил за новостями от бабы Таси, добытыми через соседские сплетни, а потом скончался в реанимации, тоже в одиночестве. Прошли похороны, тетя Лена, его жена, еще неделю проходила бледная со стеклянными от горя глазами под черным платком, а потом стала злобная, как опустившаяся алкашка, хотя и не отличалась особенным пристрастием к выпивке. Через стенку я слышал, как каждое утро и вечер она отборным матом орет на моего любимого Толика-Алкоголика, и видел в окно, как тетя Лена злобно плюет на землю, вывозя его к подъезду. Пока она была грустной, она с молчаливой благодарностью принимала от меня помощь, если я приходил вывезти его на улицу, а когда озлобилась, я первые несколько дней не решался зайти за ним сам. Потом я все-таки собрался и зашел за ним, тетя Лена скривила лицо при виде меня, будто воспринимала меня как часть Толика-Алкоголика и я тоже опротивел ей.
Я вывез его на улицу, натянул ему покрепче шапку на уши и вручил бутерброд с маслом.
– Зимой снегу не выпросишь, – сказал он, глядя на нерасчищенные сугробы перед домом. Снег лежал чистенький, свежий, переливался как новогодняя мишура, подражающая ему, как свет на ручейке, которым он, может быть, когда-то был.
– Я тебе и так хлеба вынес, а ты меня жадиной обзываешь,– обиделся я.
– Говядиной. Неси мне обед!
Толик-Алкоголик совсем ничего не понимал, и я даже не знал, осознает ли он, что его брат мертв. Мы с ним не говорили об этом, он не делился со мной переживаниями. Может быть, тетя Лена даже и не сказала ему. У меня оставались какие-то надежды, что смерть родного брата он должен запомнить.
– Хотел тебе посочувствовать, что твой брат Виталик умер.
– И в землю закопал, и надпись написал.
– Повезло тебе, Толик.
– Свезло так свезло.
Мне подумалось, что если мы так же продолжим пить с ребятами, то я и сам смогу стать Толиком-Алкоголиком и совсем все забыть. Его лицо, обтянутое во все сезоны загорелой кожей, ничего не выражало.
Еще через несколько дней, когда я отвозил Толика домой к тете Лене, она встретила меня с доброй, удовлетворенной, будто от сытости, улыбкой.
– Спасибо тебе, Гриша, за Толика, ты очень сильно нам помогал, еще когда Виталя был жив. Но мы с тобой отмучились, я договорилась с интернатом, в понедельник его заберут.
– Это что значит?
– Жить будет в интернате. Да и уход там обеспечат лучше, чем я. Сама я переберусь в квартиру к сыну, в Питер.
Я молча ушел от нее, хотя мне и хотелось поступить совсем по-детски – хлопнуть дверью и убежать с криком, что она предательница. Эта тетка так просто забирала у меня кусочек моей жизни, будто бы только она имела право им распоряжаться. Конечно, это на самом деле было так, краем мысли я это понимал, но не мог ничего поделать с той обидой, которая поселилась во мне. Я весь вечер ломал себе голову над тем, как можно оставить себе Толика-Алкоголика, даже размышлял о том, можно ли попробовать уговорить бабу Тасю забрать его нам, пока не пришел к постыдной мысли, что он мне не собака, его нельзя просто так куда-то пристроить. То есть Толик-Алкоголик имел воли не больше, чем у животного, но не я был вправе ей пользоваться.
В понедельник я проснулся раньше будильника и все слушал шум на лестничной клетке, не забирают ли уже моего Толика-Алкоголика. До моего намечаемого ухода в школу все было тихо, я осторожно поспрашивал бабу Тасю, собирается ли она выходить сегодня из дома, и когда узнал, что нет, решил не ходить на уроки, а караулить около подъезда, пока его увезут. Я бесстрашно стоял на ступеньках, готовый к тому, что соседи расскажут бабе Тасе о том, что видели ее внука здесь в учебное время, но никто толком не обратил на меня внимания. Потом приехала машина скорой помощи и вскоре я увидел, как Толика-Алкоголика вывозят санитары, увлеченные разговором друг с другом, для них он будто бы и не существовал.
– Жрать! Жрать неси мне, врач недоделанный! – заорал Толик-Алкоголик, но эта фраза уже была обращена не ко мне. Не настолько сильно он ничего не понимал, по машине скорой помощи и форме санитаров вычислил, что они имеют отношение к медицине. Может быть, он догадывался, куда его везут, и ему было даже страшно, хотя по выражению его лица так не казалось.
Вечером сидя у Бори в комнате, мы пили за благополучие Толика-Алкоголика в интернате и видели в этом иронию, хотя на самом деле мне было совсем не смешно.
Каждый раз, когда я встречал на лестничной клетке тетю Лену, я жутко злился и даже перестал с ней здороваться. Она только недоуменно смотрела на меня, но у нее было слишком много проблем, чтобы разбираться со мной. Наш конфликт продолжался недолго, через неделю уехала и она.
Вечером в тот же день ко мне в комнату зашла баба Тася с таким тревожным лицом, что я даже выключил музыку. Она присела ко мне на кровать.
– Гриша, у меня будет к тебе просьба, – она замолчала, и я почему-то подумал, что сейчас баба Тася попросит написать деду письмо в тюрьму или даже навестить его. Я ждал.
– Я кое о чем беспокоюсь. Ты слышал про бабу Настю, живущую в сгоревшей деревне? Ее еще кличут бабкой Зеленухой.
– Ну слышал.
– Вот ты, наверное, не знал, а Виталик и Толик были ее сыновьями.
– Не знал.
Это стало для меня действительно откровением, я не думал, что у нее есть дети, и никогда не задавался вопросами о другой семье моих бывших соседей.
– Виталик раньше носил ей продукты, ей до города сложно ходить. Не знаю, делала ли это Лена, но время с его смерти идет, может быть, баба Настя там голодает. Конечно, у нее есть запасы на зиму, но ведь на них одних долго не проживешь. На похоронах ее не было, конечно, ей сообщили, но не знаю, позаботился ли кто-то о ней дальше. Мне туда через снег тяжело идти. Ты бы сходил завтра, отнес ей продуктов, спросил бы, как она, может, она тебе и денег даст за них.