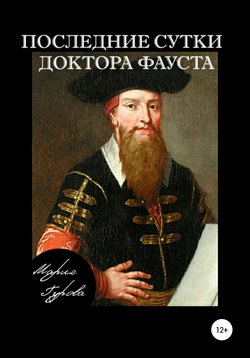Читать книгу Последние сутки доктора Фауста - Мария Юрьевна Гурова - Страница 1
ОглавлениеПролог
Если бы мне довелось самому редактировать свою страницу в Википедии, я бы написал следующие слова. «Иоганн Георг Фауст (25.12.1968 г., Гельмштедт – 12.06.2020 г., открытое космическое пространство) – доктор антропологических наук, астрофизик, космонавт, писатель». Биография. Черт тебя возьми, биография. «Доктор Фауст родился 25 декабря 1968 года в Гельмштедте. Окончил Мюнхенский университет по специальности астрофизика и получил степень доктора наук антропологии в 1998 году. Долгое время работал в Гейдельбергском университете имени Руперта и Карла и там же написал междисциплинарную работу на тему предсмертной активности мозга. В 2007 году переехал в Кельн и устроился на работу в Германский центр авиации и космонавтики. В 2010 году впервые отправился в космический полет в составе международного экипажа. По возвращению написал скандальную книгу «Там никого нет». В ней он опровергал возможность существования антинаучных учений о загробном мире и существовании души и Бога, применяя свой практический опыт, полученный во время работы в университете и космического полета. Из-за категоричных атеистических высказываний в адрес религии Католическая Церковь вступила с ним в конфронтацию в прессе. Это противостояние длится уже десять лет». Личная жизнь. Личная жизнь не задалась. У меня в жизни были потрясающие подружки, одна другой лучше, и была моя самая прекрасная Рита. «Ему приписали гомосексуальный роман со студентом Юнге Вагнером, однако, последующая помолвка с Ритой Спиннер опровергла все слухи. Отношения продлились недолго. Молодая супруга жаловалась в своих социальных сетях, что осталась одна: ее семья, состоящая из глубоко верующих христиан, отвернулась от нее, а муж регулярно отлучался в длительные командировки. Через три года доктор Фауст и Спиннер развелись в период ее беременности. Рита сделала аборт и позже оказалась в психиатрической лечебнице». Смерть. Не то, чтобы я этим горжусь, но быть первым – знаете, круто. Даже если это значит, что ты первый труп в открытом космосе. «В 2018 году доктор Фауст стал готовиться к новаторской космической миссии. В 2020 году он отправился в свое последнее путешествие».
Страница в «Википедии» – это дань, куда важнее мемориальной доски. К ней будут обращаться гораздо чаще, чем к моей пустой могиле с самым стильным в Германии памятником. Я доверяю его установку моему дорогому другу Оуэну. У этого парня отличный вкус. Что же до фото – разместите в «Википедии» мой портрет с обложки Esquire, тогда я носил шикарную рыжую бороду; а на надгробие поставьте что-то из семейного альбома, в духе того аспирантского кошмара, который так нравится моей тетке. Не знаю, хватит ли у Оуэна чувства юмора и духа, чтобы написать на надгробном камне «Там никого нет», но это было бы чертовски забавно.
Глава I. «Пролог. На сцену выходит хор».
«Потом, исполнен дерзким самомненьем,
Он ринулся в запретные высоты
На крыльях восковых; но тает воск –
И небо обрекло его на гибель».
«Трагическая история доктора Фауста», Кристофер Марло.
Доктор Фауст пытался не предаваться унынию и держаться до последнего. Но когда он только понял, что связь окончательно пропала, весь его рок-н-ролльный запал бесследно улетучился. В быстро пролетевшие пятьдесят два года он показался себе слишком молодым, чтобы умирать в одиночестве. Первые мгновения паники бросали его на дно отчаяния, чтобы сразу поднять на вершину человеческого духа. Фауст ощущал себя бессмертным богом, а через секунду – самым хрупким созданием во Вселенной. Открытый космос давил на него отсутствием атмосферы и людей. И Фауст всё не мог определиться, что угнетает его больше: невозможность дышать без скафандра или невозможность завещать свои невысказанные идеи. Он не знал, как долго остальной экипаж торговался со скупой совестью, чтобы определить именно его, доктора Фауста, как балласт. Все же, это было очевидно и единогласно, ибо сам Фауст голосовал за кандидата, который не может управлять кораблем и который не женщина. Из всех трех членов команды Фауст идеально подходил под описание человека, которым можно пожертвовать. Ему нравилось кичиться перед экипажем, как обыкновенно кичится профессор перед первокурсниками своей безумно сгоревшей молодостью. Вскользь и как бы к теме лекции. Он говорил: «Я уже пожил и неплохо. У вас двоих есть еще по пятнадцать лет, чтобы хотя бы попытаться меня догнать по количеству достижений и безрассудств, но это вряд ли получится, детишки». Он говорил и смотрел на американскую дамочку, слишком непривлекательную, чтобы за нее умирать. Фауст готов был пожертвовать собой ради женщины, но предпочел бы, чтобы она не была тридцатисемилетней лесбиянкой со стрижкой «под мальчика» и лицом, похожим на кувалду. Однако в такой отвратительный четверг, как сегодня, судьба не была щедра на красивые моменты. В стремлении остаться джентльменом до конца Фауст решил не придираться к мелочам, типа ориентации и массивного подбородка Катрин. Да черт с ней. Командир корабля – русский парень тридцати пяти лет, такой молодой и горячий – чуть было не выпрыгивал из корабля и штанов в своем желании спасти товарищей. Хотя все понимали, что пилот и по совместительству механик имеет все привилегии на продолжение полета и жизни. Не выдержав накала драмы в закрытом пространстве корабля, Фауст попросил себе удел героев – эту короткую спичку. Ее длина такова, чтобы доброволец не успел пожалеть о роковом решении раньше, чем она догорит. Катрин выдала гениальный план, который заключался в том, чтобы высадить третьего астронавта на геостационарной орбите. Но они пролетели и план, и орбиту примерно на 250 километров. Поэтому оставалось просто выкинуть Фауста с почестями из корабля. «Насколько обидно стать космическим мусором?». Он не терял скепсиса, помноженного на сарказм, и оттого готов был оплевать ядом забрало шлема изнутри.
Его выбросило в открытый космос и завертело вокруг своей оси. Фауст не мог остановить этот безумный аттракцион. Ему казалось, что он летит вдаль с небывалой скоростью, и все же вращение начало сходить на нет. Земля не отдалялась и не приближалась. Через несколько минут Фауст понял, что завис на месте. Сначала экипаж говорил с ним. Они успокаивали, обещали спасти его, успеть все на свете и выжить сами. Фауст чувствовал, что начинает их ненавидеть. Его гнев заполнял легкие, Фауст ощущал, что температура тела увеличивается, и его шея, уши и грудь начинают пылать. Его единственным утешением было то, что он оказался в тени Земли. Нужно было успокоиться, но Фауст ненавидел их все то время, что Катрин несла утешительную, но нисколько не утешающую чушь. «Пусть она заткнется, пусть, пожалуйста, заткнется». И она замолчала. Тишина без нее была спокойной. Но чувство умиротворения продержалось недолго. Связь пропала, и тогда Фауст сам вызвал экипаж, но было так тихо, как никогда не бывает на Земле. Все звуки сосредоточились внутри его скафандра, а за его пределами был космос – беззвучный, холодный и убийственный. «Убийственно прекрасный, – подумал Фауст в свой первый полет». А в следующий раз черный мир с редкими блестящими занозами утратил всякое очарование. «Космос, как хорошенькая, но глупая студентка, – подумал Фауст во второй полет».
Самым волшебным в космосе был сон. От земных грез он отличался, как современное кино с 3D-графикой от «немых фильмов». Живое воображение Фауста выдавало ему фантасмагорические картины на Земле, которые он любил трактовать, часами копаясь в архетипах и своем неуемном сознании. Что же до космоса, он приводил все его мысли в порядок, свойственный каждому немецкому интеллигенту. Цветные и такие четкие, такие явные сны возвращали Фауста в его детство и юность. Повествование шло линейно, а события были во всем логичны. Чем дольше он находился в космосе, тем больше его образы походили на реальность, полностью утратившую иносказательность. Они походили на выглаженную рубашку, какую тетушка Волда, каждое утро клала ему на кровать вплоть до его выпуска из колледжа. Фауст видел этот колледж, видел эти рубашки и свою тетку тоже. Он провалился в сон крепко и внезапно, как только может уснуть человек, который несколько часов пытался решить сложнейшую задачу, а сейчас оказался беспомощным и бесполезным. И сейчас реалистичность сновидений его угнетала. Она погружала в мир неизменного прошлого, над которым он был уже не властен. Сны говорили только одно: «Это твое прошлое, смотри на него, ибо больше тебе ничего не светит». Он чувствовал невесомость и знал, что спит в космосе. И все же время тянулось непозволительно долго даже для того, у кого оставалось всего несколько часов на жизнь. «Твои будничные завтраки, твои лекции, твои ошибки и неудачные опыты – держи этот багаж, лучшего у тебя не будет». Ему снился один из этих завтраков. Напротив него сидела тетя Волда и пилила его в неподражаемо отвратительной манере. Словно вытягивала все живое. Высасывала из тебя всю душу тонкими губами в марсаловой помаде. «Что же до твоих любимых медицины, философии и астрофизики, то они не принесли тебе ничего, кроме мигрени и шумихи вокруг спорных изысканий. Ты не победил смерть, Иоганн, это она победила тебя».
– Еще нет, тетя Волда, – отвечал ей взрослый Фауст из космоса, пока Фауст в выглаженной рубашке доедал яйцо всмятку, которое у нерасторопной тетушки получилось почти вкрутую.
Она была до отвращения чопорна, как все западноевропейские женщины, вынужденные воспитывать чужих детей. Фауст пытался запихнуть в себя остатки хлеба, чтобы быстрее встать из-за стола. «Когда я влюблюсь, она будет совершенно другой. Моя возлюбленная не будет похожа ни на мою инфантильную мать, ни на тебя, тетя Волда». Фауст жевал желток и хлеб, молчал и обещал себе лучшую жизнь. «У нее будет красивое имя, как у средневековой принцессы. И сама она будет похожа на статуэтку рождественского ангела, а не на жабу в синтетическом костюме-тройке». Он доел завтрак. Теперь можно рывком преодолеть расстояние до входной двери, пока она не вцепилась в племянника со своими советами и утренними нравоучениями. «Это все бесполезно, Иоганн. Твои труды насмарку». Тетя Волда кричала ему вслед. Конечно, она произносила совершенно другие обыденные слова о сменной обуви, о походе к стоматологу, о факультативе по физике, но все это было бесполезно: его труды были насмарку. А еще, потому что медицина, философия и астрофизика не принесли Фаусту ничего, кроме мигрени и шумихи вокруг его спорных изысканий. «Ты не победил смерть, Иоганн». Сны были для Фауста восхитительной материей, которую он не мог измерить. Он боялся метафизики, потому что боялся безумия. Он знал, что метафизика может принести всякому заигравшемуся в нее ученому. И само явление образа и образного мышления манило Фауста. Однако он не находил в этой притягательной области никаких возможностей для решения фундаментальных вопросов, хотя полагал, что все подобные задачи рождаются в мире идей и вырастают решениями в мире вещей. Поэтому сейчас он спал и формулировал вопросы, ответы на которые хотел бы успеть получить. Это был беспрецедентный случай, но Фауст понимал, что жить ему оставалось не дольше девяти часов, хотя воздуха ему хватило бы еще на сутки. И все же не воздух был решающим фактором.
Ему снилась школа, университет, студенческие вечеринки, детская площадка перед домом, песок на ней и первые каникулы в Египте. Все это время Фауст ходил в светлой рубашке и был уверен, что у него впереди много времени. Казалось, что он родился в этой рубашке или в какой-то похожей. И вот ему снилась утроба матери. Она была похожа на скафандр, о котором он тогда ничего не знал. Фауст чувствовал себя животным, потому что не мог описать мир вокруг. У него не было ассоциаций, не было понятий. У него были только рефлексы, которые даже не могли оформиться в желания. Он не знал, как приятно дышать воздухом после дождя, пить дорогой виски и смотреть в иллюминатор космического корабля. Настоящий Фауст был ничем не примечательнее паразита, живущего в организме другого живого существа и не осознающего, зачем он так поступает. Ответ на вопрос «Почему?» был простым: «Потому что все живое стремится жить». И все же Фауст спрашивал: «Зачем?». И оформившийся семимесячный эмбрион не понимал, что за голос в его голове звучит и почему так пугает. Иногда Фаусту казалось (и это было необычно для космических снов), что он находится не в материнской утробе, а в стеклянной банке с формалином. А за ее пределами видит кабинет средневекового врача. И в банке было холоднее, но спокойнее, потому что в ней он переставал быть животным и становился вещью. Когда Фауст концентрировался на своих ощущениях, то понимал, что не чувствует ничего, кроме энергии, которую сложно описать, не имея сознания, и которую невозможно заметить, имея гормоны. Он физически чувствовал рамки, чувствовал, что не знает мира за пределами кабинета, чувствовал, что не помнит ничего, что было до момента, когда вещь поместили в сосуд. Он чувствовал свои члены – нечто похожее на руки, ноги и две головы. Это все было его – человека, а не вещи. За несколько мгновений сна Фауст научился их разделять. Его покачивало в мутном растворе, как в невесомости, иногда подталкивая к холодному стеклу колбы, в которой он находился. Внезапно мир за пределами сосуда изменился и вместо кабинета Фауст увидел огромную голову, искаженное мужское лицо с длинным носом и завитыми черными усами. Большой рот что-то говорил, изредка демонстрируя свои пожелтевшие зубы. А потом он постучал по колбе ногтем указательного пальца. Этот стук был похож на выстрел в читальном зале библиотеки. В обволакивающей тишине он прогремел громче, чем ему положено. Стук повторялся, бил по ушам, как монотонный колокол, когда лицо усача вновь сменилось кабинетом. Стук, стук, выстрел.
Фауст явно услышал выстрел. Он сидел над стопкой книг в читальном зале Баварской государственной библиотеки, когда Вальдес направил на него Walther P1. То, что пистолет огнестрельный Фауст знал наверняка – полгода назад они вместе стащили его у отца Вальдеса, чтобы пострелять по отжившим бутылкам. Но Фауст не мог знать, что его взбалмошному другу хватит смелости спустить курок. Хотя тот факт, что он разыграл эту сцену в столь публичном месте, должен был насторожить.
– Фауст! – драматично крикнул он. Сам Фауст долго смотрел на Вальдеса и на дуло, ожидая какой-никакой подготовленной речи, но ее не последовало.
– Не будь придурком. На нас смотрят люди.
– Я не шучу!
Фауст вздохнул и отложил книгу. Он был преисполнен уверенности в себе и для демонстрации полного спокойствия вскинул брови и закатил глаза.
– Ты не будешь стрелять в меня из-за телки, – равнодушно сказал он.
Но Вальдес выстрелил. Он промахнулся, как промахивался, стреляя по бутылкам. И попал в край стола. Фауст вскочил с места и отпрыгнул в сторону. Он еще долго не мог успокоиться, тяжело дышал и, не веря в абсурд происходящего, разглядывал перепуганного Вальдеса, готового вот-вот разрыдаться.
– Ты больной?! – завопил Фауст, тыча рукой в стесанный край стола. – Ты идиот, Вальдес!
К тому моменту подоспела охрана, но горе-стрелок не сопротивлялся. Больше всего прилетело его отцу. Вальдесу же впаяли штраф, исправительные работы и вышвырнули из университета с ужасной характеристикой. Они с Фаустом общались еще несколько лет. Он навсегда запомнил этот звук выстрела. В тот миг Фауст решил, что никогда больше не будет иметь дел с оружием.
Вот он – незабываемый первый раз, когда Фауст почувствовал смерть рядом с собой. Он испугался, но после в своих рефлексиях признавал, что тогда он еще не боялся смерти, ибо верил в существования Бога. В юности Фауст даже отдавал предпочтение конфессии, в которой был воспитан. Он верил в воздаяние, в загробную жизнь и в то, что Бог имеет слишком много свободного времени и планов на его, Фауста, счет, и потому следит за каждым его шагом, что, чуть было, не превратилось в манию преследования. Больше всего веру в Фаусте укрепляли не традиционные устои, но его собственные ощущения. Всякий раз, когда он был взволнован, влюблен, разозлен или испуган, его дыхание замирало и после первого выдоха разливалось странным чувством в груди, которое Фауст воспринимал, как доказательство существования в нем души. Но он тогда не хотел объяснять это поэтичное чувство, как обычный выброс адреналина, учащающий его сердцебиение и дыхание. Он задохнулся также от переизбытка воздуха и чувств, когда Вальдес нажал на спусковой крючок. По его наблюдениям душа могла яростно биться о грудную клетку, а могла невесомо порхать, придавая ему сил и уверенности в своем неземном происхождении. Он помнил это светлое умиротворение в церкви, когда вокруг все и всё обещают райское блаженство, если ты будешь достойным. А малышу Иоганну тогда было восемь, и он не успел совершить ничего, из-за чего бы Святой Петр усомнился в наличии у Фауста именного пропуска в рай. И облачный край с ангелами был настолько реальным и возможным, что в него хотелось верить, и Фауст усердно молился, чтобы черт, сидящий по ночам на углу шкафа, больше не приходил к нему никогда. Через шесть лет у Фауста случился первый на его памяти сонный паралич, убедивший его в существовании потусторонних чудовищ. Чувство, охватившее Фауста, было сродни страху быть похороненным заживо. Все его тело оцепенело. Он слышал шаги тетки в коридоре и ее болтовню по телефону. А еще звуки, которые издает стадо овец и свиней. Он не видел, только слышал, как эта масса копошится у его кровати. И сложно было сказать, страшнее эти твари или невозможность пошевелить даже пальцем. Во второй раз Фауст начал сопротивляться, пытался вырваться из тела, но та его проекция, что была в силах ворочаться на месте, по рукам и ногам прилипла к физическому корпусу. А потом он просто провалился сквозь свою кровать, пол, подвал, канализацию, почву, грунт. Он рухнул на пыльную, потрескавшуюся землю, над которой стелился туман, и клубилась зола. Фауст осмотрелся и увидел пейзаж, какой не видел нигде прежде: по всей черной пустыне вплоть до белесого неба земля была устлана останками разных существ, казалось, знакомых, но скрещенных друг с другом. Он шел вперед и натыкался на страшные картины: к примеру, ужаснее всего был клубок копошащихся пауков, у одного из которых было лицо его бабушки. Фауст кричал. Сгусток всех его страхов сконцентрировался в одном месте, и Фауст был уверен, что это место не на Земле. Он бежал, смотрел на свои ноги и видел копыта. Самым ужасным было ощущение реальности происходящего. Он чувствовал физическую боль, пот на лбу и шее, слышал крики, читал надписи на потрескавшихся плитах, чего до этого никогда не мог делать во сне. «Так выглядит чистилище, – решил для себя Фауст, когда его выбросило обратно на кровать, и он проснулся в холодном липком поту, словно осевшем на его теле, когда он выныривал из простыни обратно в явь». Сюрреалистичные кошмары преследовали Фауста до тех пор, пока он носил юношеские прыщи на лице и веру в то, что у него есть душа, которая чем-то провинилась перед Богом. Ему казалось, что он такой один на миллион – избранный провидец с магическими способностями, потому он ни с кем не мог поговорить о творившихся в ночи ужасах. Больше проклятых монстров, сшитых из кусков разных существ, он боялся утратить возможность их видеть. Фауст был уверен, что, отказавшись от этой священной борьбы, он лишится души.
Вдохновленный такими умозаключениями, Фауст увлекся эзотерикой. По завету Франсиско Гойи его разум уснул наяву и породил таких чудищ, каких испанский художник в жизни бы не придумал нарочно. Это было поистине волшебное время, в котором Фауст мог нарушать законы физики, или хотя бы быть уверенным, что у него это получается. Вряд ли его становление можно было представить без тайного кружка таких же фантазеров, заворожено изучающих как антологию средневековых алхимических трактатов, так и современные изыскания не самых убедительных, но, безусловно, убежденных в своей правоте, авторов, утверждающих, что они способны измерить человеческую ауру с помощью электронных приборов. Сегодня Фауст мог провести линию от точки его рождения к точке, поставленной на его жизни: на ней вся его история была лучшей метафорой развития философии. Подростковый кружок доморощенных колдунов был его Средневековьем. И оно впадало во времена неутомимого студенчества и Возрождения – эпоху сумасбродных экспериментов, безумных теорий и, конечно, бунта против всех канонов. Эра беспечных заблуждений и радости от их приобретения. Тонкая грань, пролегающая между ведьмовским шабашем и форумом парапсихологов, стерлась также легко, как рухнула Берлинская стена. Альтернативная наука была интересна, но еще очень удобна, ибо обещала легкие решения. А когда тебе двадцать лет, все твое естество требует легкости и свободы. Академическое знание существовало для экзаменов, а магия – для мирового господства. Конечно, масштабы последнего были притягательнее степендии. На этом моменте нужна яркая история какой-нибудь очередной выходки, навылет безумной. Был у Фауста друг Корнелиус – не очень умный, но безмерно амбициозный. Корнелиус был фанатом всевозможных ритуалов. Оригинальные средневековые тексты, помноженные на его фантазию, в сумме выдавали сложно реализуемые задачи. Когда они учились на четвертом курсе, Корнелиус заявил, что настало время их инициации в алхимики. Источник, в котором описывался обряд, был спорным, но сама церемония весьма затейливой. Смысл заключался в том, чтобы по одному из имеющихся рецептов создать что-то наподобие разрывного ядра, и с его помощью подорвать значимый культурный, исторический или идеологический объект. В общем, 10 ноября 1989 года от Вальдеса, Корнелиуса и Фауста досталось одному из участков Берлинской стены. Сам Корнелиус получил ожоги сорока процентов тела и бесценный опыт, гласящий, что не стоит делать бомбы по рецептам XVII века «на коленках». Остальные отделались шоком, потому что спешно удрали и скрылись в толпе. А через полгода Вальдес влетел в библиотеку с «Вольтером». Не очень у Фауста друзья, конечно, были.
Хотя и он, следует сказать, не отставал. Апогеем подобных идей, по мнению его однокурсников, стал выбор профессии с помощью гадальных карт. Сегодняшний Фауст понимал, что из всех его юношеских странностей эта была наименее нелепой. К картам он прибегал всякий раз, когда имел спорные вопросы. Фауст гадал на таро, на игральных картах, на картах рун и многих других. «Первое использование карт в Европе относится к 1329 году и имеет германское происхождение, – говорил он Оуэну, другу-художнику из Калифорнии, перебравшемуся в Мюнхен из любви к немецким импрессионистам и Фаусту. – Гадание – это лучшая и самая честная форма диалога с самим собой, до которой додумался человек. А гадание на картах – самый быстрый и самый высокотехнологичный с точки зрения психологии ритуал. Метод». И Оуэн создал для него специальную колоду ассоциативных карт, с образами близкими самому Фаусту. И он не расставался с ней на Земле, иногда беспричинно тасуя колоду в руках. Вот и сейчас Фауст решил погадать. Задавать вопрос и отвечать первой картой, которая придет на ум. Но на ум приходили только образы из колоды таро, той самой, которая определила его профессию.
– Это конец?
Отшельник.
– О, да ты просто провидец, Фауст, воистину! Серьезно, мать твою, Отшельник?! Допустим. Дальше. Все было не зря?
Королева мечей.
– Ладно, не зря. Я потрясающий, знаю, спасибо. Кстати, о королевах. Что насчет моей Риты?
Тройка мечей. «Прости меня, дорогая. Какая пошлая карта – сердце, пронзенное тремя клинками. Какая пошлая ситуация: все три моих предательства. Согласен, я козел, но козлы не сокрушаются».
– Хотя бы в науке я не ошибся ни разу? Хотя бы мои изыскания – все, что я породил – не сделают меня посмешищем в глазах потомков?
Суд. Неплохо. На это ты рассчитываешь, когда садишься писать. Когда летишь в космос. Когда выбираешь профессию.
Стоит, однако, вспомнить, как юный Фауст выбирал свою будущую профессию. Конечно, Маг, перевернутый Дьявол и Солнце – это все замечательно, но такой основополагающий выбор не мог быть сделан без чуткого внимания тетки Волды. О, она была сердобольной во всем, что касалось здоровья и социального статуса. Выбирать стоило только из уважаемых и «типично немецких профессий», по ее мнению. Она говорила:
– Знаешь, Иоганн, я вот думаю, что всегда следует идти по стопам своих предков. Нет, я не призываю тебя выбрать актерскую профессию, как твоя матушка (когда она уже успокоиться?). В общем-то, отец твой, конечно, мог бы послужить примером, но философия… Иоганн, ну, какой из тебя философ? – щебетала она.
«Самый лучший, – думал Иоганн».
– Нет, философия – это, конечно, не про нас. С другой стороны, получишь качественное образование, и потом изучай, что хочешь. Например, Гегеля.
– Гегель изучен вдоль и поперек, тетя Волда, – скучающе ответил Фауст.
– Да-да, тем более! Зачем тебе философия? Знаешь, я вообще думала в сторону юриспруденции. Твой дядя будет счастлив, помочь тебе с практикой и трудоустройством.
– Да, действительно типичная немецкая история.
– Нет, ты, конечно, сам решаешь. Но я убеждена, что профессию следует выбирать, исходя из культурных особенностей своего народа и почвы, так сказать, удобренной твоими предками.
– Клотер Рапай называет это «культурным кодом», – вставил Фауст.
– Француз, что ли? – уточнила тетка.
– Угу.
Месье Рапаем Фауст заинтересовался после того, как один известный журнал характеризовал его, как «специалиста по черной магии». Оказалось, что его оккультная наука – бизнес и продажи. «Ну, такое себе, конечно, – подумал Фауст, но пару его статей прочел».
– Он – антрополог, – внезапно добавил Фауст.
– А ты что, хочешь быть антропологом? – заинтересовалась тетя Волда.
Маг – старший аркан – будущий гений, не успевший еще сделать ошибку. Описание карты: одинокий молодой человек с мудрыми глазами в белой рубашке и красной мантии. Он чем-то похож на Божьего сына. Рядом с ним Уроборос – свернувшаяся змея – для алхимиков символ бесконечного мира и познания, для христиан – искуситель, для германцев – бог зла, сын Локи и великанши Ангрбоды. У Мага есть все: женское и мужское начала, могущество и идеалы, бесконечность в слиянии сознательного и бессознательного. При нем жезлы, пентакли, мечи и кубки – соответственно, огонь, земля, воздух и вода, подвластные ему. Фауст был слишком жаден, чтобы выбирать и отказываться. Всю свою жизнь он искренне не понимал, почему перед ним ставят выбор: мужчины или женщины, деньги или слава, долг или удовольствие. У Мага есть вечность, и он успевает всюду.
– Вполне себе немецкая профессия, – размышлял вслух Фауст. – Не в медицину же мне идти.
– Но ты бы мог.
– Безусловно.
В семнадцать лет чувствуешь себя всемогущим, особенно, когда с тобой лично по ночам приходят сражаться демоны. Иное дело, что экзаменационные тесты могут говорить обратное. «Астрофизика, черт с ней. Посмотрим, что из этого выйдет». Доктор антропологических наук Иоганн Георг Фауст. Доктор Фауст. Ученый, который за свою жизнь успел поверить во многое и во многом разочароваться.
Он мог проследить, как с каждым новым принятым им суеверием, истинная вера сдувалась, словно воздушный шарик, парящий под потолком. А потом этот шар размером с кулак Фауст проткнул из гуманности, потому что не мог наблюдать, как он, подобно увядшей вере, кувыркается под ножками стула: «Там никого нет».
Внезапно в наушниках раздались помехи, вырвавшие Фауст из его снов и воспоминаний. Сквозь шум послышались обрывки слов. Приятный мужской голос. Фауст сумел его расслышать через минуту попыток выйти на связь. Бархатный тембр, звучащий нараспев, как мяуканье кота. «Мефистофель Фаусту! Мефистофель Фаусту! Прием, доктор Фауст, прием».
Глава II. «Мефистофель Фаусту».
Смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода сверхчеловека – вот различные в веках и народах «великолепные костюмы», маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога. Гоголь, первый, увидел чёрта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью;
– Дмитрий Мережковский, «Гоголь. Творчество, жизнь и религия».
Фауст знал, что не ослышался. Однако голос пропал. Динамики молчали, сколько бы Фауст не вызывал. И теперь его охватила новая волна страха, природу которой Фауст не мог определить. Нечто межевое, граничащее с панической атакой и сонным ступором. Фауст был закован в свой страх, словно в сжимающийся лифт. Ему показалось, что скафандр повредился и теперь раздувается, рискуя в скором времени раздавить Фауста, сломать ему кости и задушить. Фауст же принялся бороться с ним, как сопротивлялся своим первым параличам. Вместо тишины он слышал далекие звуки классического рока, настолько глухие, словно динамики находились глубоко под водой. Фауст решил, что его контузило при выбросе в открытый космос. А сразу после решил, что музыке просто неоткуда звучать, если только мимо не проплывает Tesla Roadster Илона Маска, привнося в последние часы его, Фауста, жизни приятные моменты, состоящие из воспоминаний о молодости и песен Дэвида Боуи. Но электромобиль, конечно, не мог оказаться рядом. И словно смирившись с этим фактом, пластинка сменилась на увертюру к «Орфею в Аду» Жака Оффенбаха. Будто мало того, что Фауст был скован скафандром физически, так теперь еще и подавлен морально. Он вспомнил поход на омерзительную оперетту с тетей и дядей. Фаусту было десять, и он не был готов к тем экспериментам в современном театре, какие позволил себе режиссер-постановщик «Орфея». Они покинули зал, не дождавшись антракта, и с той поры у Фауста с музыкальной комедией как-то не задалось. Знакомая приглушенная музыка убивала его не меньше, чем растущее давление внутри скафандра. Каждая минута его жизни имела ценность, и он был готов сражаться за нее. «Я на все готов, чтобы выжить». И паника отступила, скафандр вновь показался комфортным, а движения стали свободными. На фоне тисков страха нынешняя легкость казалась окрыляющей. На мгновение Фаусту показалось, что он может, взмахивая руками, долететь до Земли.
Он вернулся в реальность, когда голос вновь зазвучал у него в динамиках. Елейный и в то же время низкий бас идеально подходил бы «черному магу продаж». Фаусту явились три образа: черт на шкафу, портрет Адольфа Гитлера и тетка Волда. «Ничего хорошего, в общем».
– Кто ты? – выдохнул изумленный Фауст.
– Я – часть той силы, что вечно заставляет дерьмо плыть против течения, – ответил голос. – Я – Мефистофель, и должен быть тебе знаком.
«Так себе рекомендация, – подумал ошарашенный Фауст, не желавший уверовать, что из всех возможных вариантов, на связь с ним вышел сам Сатана». Однако голос был более чем реальным, не похожим ни на сон, ни на мимолетную или фоновую слуховую галлюцинацию, какие могут быть в космосе.
– Хорошо, что тебе нужно? – спросил Фауст.
– Не, не, не, – прицыкнул Мефистофель. – Это мой вопрос. Тем более ты сам меня позвал.
– Не могу припомнить такого.
– Как же? Еще несколько минут назад ты был согласен на любую помощь.
– Признаться, я рассчитывал на нечто… более материальное, – уточнил Фауст.
– Что? Трансфер до Земли? – иронично спросил Мефистофель.
– Хотелось бы.
– И что ты будешь там делать, док, на Земле? Чего ты там еще не имел, что тебе так не терпится вернуться? – Мефистофель говорил с интонациями заботливого психотерапевта. Но Фауст молчал. И тогда Мефистофель повторил. – Что ты там будешь делать, док?
– Не волнуйся, я придумаю.
– Да уж не сомневаюсь, – весело ответил Мефистофель. – Слушай, Иоганн Фауст, я думаю, мы сможем договориться.
– Попробуем, – подтвердил Фауст, решивший, что терять ему уже нечего.
– Что тебе нужно?
– Это очень просто: вернуться на Землю, – по слогам выговорил Фауст.
– Нет, так не считается! Я не джин, исполняющий бессмысленные фантазии, – одернул его Мефистофель. – Скажи мне, зачем тебе на Землю? Что ты хочешь там сделать, и я, так и быть, постараюсь договориться с начальством.
Фауст молчал некоторое время, а потом решил:
– Я должен подумать.
– Прекрасно! У меня как раз много времени, – прозвучало в ответ.
Фауст сосредоточился. Вопросы были очевидными и казались ему детскими, но когда их задавать, если не сейчас?
– Слушай, если есть ты, значит, есть Бог?
– А ты, я погляжу, зашел с козырей! Да, это логично. Мы со стариком в одной связке. Не бывает так, чтобы верили в кого-то одного. Верят в обоих, просто выбирают обычно его.
– Не в наш век, – поправил его Фауст, но Мефистофель фыркнул.
– Нет, док, не будь ханжой! Ну, ты-то куда с этой старческой моралью? Ты сам отказался от Бога не в мою пользу. Нравы не меняются, да и с чего бы им? Ты же не думаешь, что духовность съеживается пропорционально количеству ткани, пущенной на один комплект женского белья?
– Не думаю, нет. Но разве отказ от Бога – это не автоматический переход на сторону его противника?
– Какой я ему противник? Я его бич, орган исполнительной власти для осужденных. Его противник – небытие, потому что в небытие нет даже Бога.
– Мы уходим в какую-то пошлость… – заметил Фауст.
– Согласен.
– Ну ладно, расскажи мне о себе, – попросил Фауст, нуждающийся в нескольких минутах на размышления.
Мефистофель умолк на несколько секунд. Потом сказал:
– Вообще меня о таком не просят. Не могу припомнить, чтобы кому-то было интересно. Обычно спрашивают о Боге или о том, насколько компания в аду действительно приятна.
– Успеешь еще и об этом, но мне интересно знать, с кем я имею дело общаться, – настаивал Фауст.
Мефистофель хмыкнул.
– Что ж… Постараюсь обойтись без общеизвестных баек из главного бестселлера всех времен, типа истории с падением и прочим нытьем. Я даже стал забывать о чем-то, кроме этой «Библии для детей». Наверно, потому что другие не помнят. Странная система: я на волне коллективного бессознательного всех грешников, верующих в мое существование. Ладно, я начну. Я – привлекателен и в то же время неприятен. Мои острые, удлиненные черты лица одним кажутся чем-то аристократическим и древним, другим – плутовским и отталкивающим. При должном освещении я с легкостью мог бы сойти, как за образцового арийца из Люфтваффе, так и за махрового, карикатурного жида. О, ну, наверно, это ни разу не странно, учитывая иудейское происхождение. Кстати, оба они – и ариец, и еврей – во мне могут быть одновременно красивы и уродливы. Опять же зависит от освещения и постановки задачи. Обычно я стараюсь следовать моде, аскеза – не моя стезя. Одно время я даже носил жемчужную серьгу в ухе, а сейчас у меня стильная татуировка во всю грудь. Обычно в новую эпоху я выбираю место, где лучше всего поселиться. Я кочевник по натуре. Но стоит сказать, везде, где меня не жалуют, я не приживаюсь. Скажем, в Советах мне не особо рады, как и протагонисту, поэтому я там от случая к случаю. Знаешь, мы, нечисть, сословие вежливое – без приглашения не заявляемся. Но натура у меня, конечно, мерзопакостная. Я таким задуман, как бы мне не было неприятно. Опять же может проявиться во всяком: от массового геноцида до мелкого жульничества. Но с уважаемыми людьми я стараюсь так себя не вести. Я все же дальновиден, и союз с гением или правителем мне ценнее, чем совершенное злодейство. Я крепну в людских умах, поступках и даже желаниях. Когда умрет последний из христиан, то и ада не останется, и меня не будет. Думать, что я – это всякое зло, меняющее форму, неверно. Каждый новый злой дух задуман по-своему и по-своему воплощен. Вот я такой, и это значит, что не могу легко принять форму бога Локи, Аластора, Ракшаса или мирового капитализма. Мы все схожи чертами, но разнимся в сути. Я, к слову, как и пешка, не хожу назад. Я существую в линейном времени и не могу скакать по эпохам, однако же, волен ворошить прошлое в памяти человека или целого народа. Я так зачинал многие войны и насаждал кровавые режимы.
Фауст слушал и с удивлением замечал, как Мефистофель переходил с саркастического тона, которым начал знакомство, на архаичное распевное повествование, иногда напоминающее белый стих. Казалось, еще немного и он сорвется на песню или театральную декламацию. В его речи одинаково уместно сочеталась современная стилистика Интернет-блогов и помпезные архаизмы. Мефистофель продолжал свой рассказ:
– Я, знаешь, не бессмертнее тебя. Я просто могу ощущать память о себе, и, ею питаясь, поддерживать свое существование.
– Возможно ли, и мне так продлить свою жизнь? – внезапно спросил Фауст.
– Смотря, что ты подразумеваешь, под подобным существованием?
– Я думаю, что все же бытие. Хоть какое-то. Сознание или ощущение… чего-то, – Фауст не смог найти подходящее определение.
– Не думаю. Ты шибко не расстраивайся, но тебя явно будут вспоминать пореже моего. А на таком топливе далеко не уедешь.
– Но у тебя есть сознание?
– Алло, Фауст, я – дух. Конечно, есть.
– То есть, «я мыслю, значит, существую» работает? – воодушевленно спросил Фауст. Он был полон надежд, что приближается к разгадке о жизни и смерти, хотя та по-прежнему ускользала.
– Да как бы тебе проще объяснить…
– Не скупись на подробности. Я тебе не напуганный прихожанин, чтобы меня щадить.
– И то верно, – согласился Мефистофель. – Вот смотри, оставил ты память о себе в виде культурного наследия, которое осмысляют потомки. Это поддерживает ту мысль, что ты когда-то породил. Так гены в твоих детях продлевают твою генетическую память. Так труды твои продлевают твое существование в мире идей.
– Я это все знал и без тебя, – разочарованно сообщил Фауст.
– А что ты ожидал услышать, док? Что вот тебе бессмертная душа, которая будет непонятно где болтаться? Без тела, без возможности творить? Тогда зачем ты такой бессмертный нужен? Если ты в мир ничего не принесешь, никак его не дополнишь?
– Я, что же, создан, только чтобы заполнять собою мир?
Фауст услышал, как собеседник победно хлопнул в ладоши.
– Слепой прозрел!
– То есть ты мне тут с прелюдией про цивилизацию зла на самом деле втирал про сингулярность?
– Вообще, я решил, что для тебя это очевидно. Но ты, видимо, слишком отчаялся, чтобы мыслить критически.
– Я умираю! – крикнул Фауст. – Хочешь, поговорим о моем отчаянии?!
– Я здесь как раз за этим, друг, – спокойно отозвался Мефистофель.
– В таком случае, из всех духов мое сознание могло выбрать и прислать кого-нибудь получше!
– А Вселенная тебе не Санта-Клаус, чтобы потакать капризам.
– Тогда зачем ты мне нужен?
– Слушай, я тебя об этом уже раза четыре спросил, – потом он выдержал уместную паузу, словно бы отмеренную на старинных весах, и задал важный вопрос. – Мне уйти?
В Фаусте боролись страх одиночества и гордость, смирение с неизбежным и желание ухватиться за любую возможность. Как всегда, победил Маг.
– Останься.
Одно слово стоило Фаусту огромных усилий. Для начала, он вынужденно смирился с фактом, что Мефистофель существует, так или иначе. Затем Фауст признал свою беспомощность. Хуже всего было, что последняя множилась на его абсолютное бессилие, а это было уже унизительно.
– Останься. Если тебе нужно приглашение, то вот оно, – прискорбно констатировал Фауст.
– Меня бы оскорбили твои интонации, но я не буду размениваться по пустякам, – с долей недовольства отозвался Мефистофель. – Что ты хочешь?
– Для начала увидеть твою презентацию, – деловито сообщи Фауст. – Давай, расскажи мне о нескольких твоих самых выдающихся клиентах, которые ни разу не пожалели, что связались с тобой.
– О, это мое любимое! Слишком просто и сложно одновременно. Даже не знаю, кого выбрать, – довольно воскликнул Мефистофель. – Обойдемся без всякого устаревшего материала. Выбирай период.
– Первая мировая, – начал Фауст. – Вторая мировая. Семидесятые. И ближайшие пять лет. Немцы. Меня интересуют соотечественники.
– У тебя хороший вкус – я тоже ценю классику с щепоткой модных трендов. Что ж… Первая мировая война – это воистину рассвет побитых, измученных душ, согласных на все. Никогда больше я не встречал столько разочарованных и отчаявшихся людей. И еще женщин, желающих занять мужские места. Они всегда были алчны, но тогда эта прожорливость достигла пика. Социалистические революции и поля сражений, устланные красными цветами. И на фоне всего этого черные фигуры солдат на горизонте. Начало XX века – братская могила для душ всего «потерянного поколения»: будущих писателей, художников, философов, правителей и полководцев. Цвет каждой нации увял на полях Фландрии и при Сомме. Половина европейцев похоронила себя заживо, телом ли, духом. Последние были хуже всего.
Мефистофель умолк, словно лектор перед студентами, ожидающий от них предположений и комментариев. Фауст ввязался в эту игру:
– Не томи. Кто там? Юнгер? Ремарк? Боже, нет. Гитлер что ли?
– Что ты знаешь о Генри Тенди?
– Понятно, Гитлер, – разочарованно констатировал Фауст. Для него фюрер Третьего Рейха был германским призраком, национальным полтергейстом, гремящим своими идеями и поступками, как цепями в ночи. Как всякое приведение, он навевал тоску о том, что свершилось, и о том, что не сбылось.
– После пятой битвы при Ипре двадцатисемилетний британский солдат по имени Генри Тенди был приставлен ко многим почетным наградам, среди которых был Крест Виктории. За четыре года до того, храбрый юноша, раненный после битвы, лег на землю в нейтральной полосе, чтобы перевязать раны. И он заприметил немецкого солдата, который выскочил из своего окопа и понесся прочь. Генри взял его на прицел. И когда заметил, что немец ранен, опустил оружие. Он был слишком благороден душой, чтобы стрелять в раненного парня. Конечно, он до конца жизни не был уверен, что держал тогда «на мушке» Адольфа Гитлера, но сокрушался, что не выстрелил. Вот это сослагательное наклонение, отравляющее жизнь каждого солдата, просто вишенка на торте из всех психологических травм. Но я расскажу, какой Дьявол понес Гитлера из траншеи прямо в сторону британцев. Блиндажи – лучшие на свете места, где мне приходилось торговаться. Это практически распродажа душ за бесценок. Просят самые примитивные вещи: еду, выпивку, исцеление, артиллерийскую поддержку… Даже во время чумы не припомню таких скидок. Так вот, арийский языческий дух двадцатидевятилетнего Адольфа оказался слабее, чем он себе представлял. После тяжелого ранения в довольно плачевной ситуации (они отступали) он начал выть, что поверит, во что угодно, сделает, что потребуется, только бы его спасли. Ты, надеюсь, помнишь, что я существую в линейном времени и не умею предсказывать будущее? Но его потенциал грандиозного истерика (это, к слову, мой ему диагноз) я приметил издалека. Среди прочих молитв и проклятий я слышал его отчетливо. Это был призыв. Он кричал: «Кто угодно! Кто угодно!». Я пришел к нему заботливым товарищем с бинтами и ледяным ромом во фляге. Успокаивал и баюкал, пока он не перестал орать. А потом мы начали торговаться. Недолго. Просто. Расчетливо. Он четко сказал, чего бы хотел. И в этом списке не было ничего, о чем обычно просили солдаты. Но едва он согласился, и мы, что называется, заключили контракт, как Адольф стал сомневаться. Он начал задавать обыденные вопросы про Бога, потом попытался представить меня в виде германского языческого великана… Знаешь, это не было аффектом, он действительно впечатлил меня своим сокрытым безумием, что я не удержался и показал ему себя. Ни рогов, ни пылающих глаз, ни легионов за спиной, если не считать потрепанный Баварский резервный пехотный полк №16, – только тот, каким меня создали. Ариец с еврейскими чертами. Мы смотрели друг на друга, как в зеркало. Но я во многих видел свое отражение, ибо в иных поверхностях, кроме человеческих лиц, я не отражаюсь. И тогда он закричал, загребая мокрую землю, вскарабкался наверх и побежал прочь от позиций. Я смотрел ему в спину и сквозь нее видел дуло винтовки Генри Тенди. И я внушил ему: «Сэр, это недостойно. Солдат ранен». Двух фраз было достаточно для его кристальной совести. Я не знал, кем станет Адольф Гитлер, но был уверен, что он станет кем-то большим. Художником, писателем, философом, – для меня это было неважно. Я смотрел на него и видел гения с чертами лица Мефистофеля. Этого было достаточно, чтобы пообещать ему бессмертную славу в самой великой войне.
– Нельзя сказать, что ты обманул, – съязвил Фауст.
– Я никогда не лгу! Кто бы тогда мне поверил?
– Но история, конечно, на уровне девичьего подросткового рассказа. Мне следовало ожидать нечто подобное.