Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова
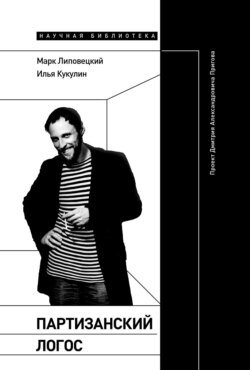
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Марк Липовецкий. Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова
От авторов
Введение: Смерть и жизнь автора
Часть I. Перформанс теории
1. Перформатизм и «центральный фантом»
2. Поэтическая семиотика
3. Современный Gesamtkunstwerk?
4. Жизнетворчество и перформанс культурных практик
5. Принципы перформатизма
Принцип серийности
Принцип растраты
Гиперсакрализация
Актуальный художник как трикстер
Искусство «предпоследних истин»
6. Бунт против литературоцентризма?
Часть II. Деконструкция советского языка (1974–1986)
1. Культурный кризис начала 1970‐х годов и его последствия
2. Советское «политическое бессознательное»
Горизонт социального: «Исторические и героические песни» (1974)
Логика перформанса: «Куликово поле» (1976)
Идеология формы: «Культурные песни» (1974)
Текст как символический акт: стихи о Милицанере
3. Советский субъект
«Монады»: тело, насилие, Бог, таракан
«Любовь к жизнереальности»: «кухонные» стихи
Назначение поэтом
4. Перформативы 1970–1980-х годов
Театр Пригова
«Обращения к гражданам»
«Новая искренность»
Деконструкция «экологии»
Пастырский субъект
Часть III. Контексты и стратегии[130]
1. Пригов и Всеволод Некрасов: Два типа эстетической утопии
2. Пригов и Эдуард Лимонов
3. От поэтической феноменологии к постгуманизму: Пригов, Парщиков, Драгомощенко
4. Художественная феноменология сакрального
Часть IV. Искусство быть другим (1987–2007)
1. Выход из андерграунда: Артикуляция стратегий
2. Современный поэт как Contemporary Artist
Перформативные жанры
Визуальные жанры
Гибридный жанр: «грамматики»
3. «Изучение признаков себя»
Свое как чужое
Что русскому здорóво?
Пушкинские места и другие апроприации
4. Романы и другая проза
Соц-арт в малой прозе
«Боковой Гитлер» (2006)
Романы
«Живите в Москве» (2001)
«Только моя Япония» (2003)
«Ренат и Дракон» (2005)
«Катя китайская: Чужое повествование» (2007)
«Неподсуден» («Тварь неподсудная» / «Суд», 2006–2007?)
Эпилог: Родник имени Пригова на третьей артельной
Цитируемая литература
Интервью, проведенные авторами:
Научные и критические источники
Сведения об авторах
Summary
Отрывок из книги
О Дмитрии Александровиче Пригове уже написано много, и нет сомнений в том, что будет написано еще больше. Его личность еще при жизни привлекала интервьюеров и собеседников[2]. В нем завораживало все: многогранность дарований, неисчерпаемая творческая энергия, «дикая нечеловеческая интенсивность»[3], впечатляющее мастерство в визуальных работах, стихах и прозе (несмотря на имитацию «наивного» письма и пародирование графомании), сочетание психологической открытости в одних вопросах и закрытости – в других. Было бы наивно пытаться найти в обстоятельствах жизни автора исчерпывающие объяснения его эстетики, но тем не менее нельзя не задаться вопросом о том, каким образом Пригов стал тем, кем он стал.
А кем он стал? Не так уж и просто ответить на этот вопрос. Просто перечислим его «специальности»: поэт, скульптор, живописец, автор инсталляций и перформансов, драматург, романист, киноактер, теоретик искусства… Он даже в опере пел и танцевал, несмотря на пораженную детским полиомиелитом ногу! Пригов недаром называл себя «работником культуры»: за его размахом, стремлением – и умением! – реализовать себя в самых разных областях искусства стояла масштабная задача, о которой Пригов не то чтобы не говорил – говорил, и часто, – но которую мало кто из аналитиков принимал всерьез. Мы будем подробнее говорить об этой задаче далее (Часть I), но в первом приближении ее можно обозначить как стремление создать мультимедийную действующую модель культуры в целом. Модель, которая бы одновременно подрывала культурный мейнстрим и апробировала, подобно лаборатории, радикальные стратегии творчества.
.....
Андрей Зорин справедливо видит в общей стратегии поведения Пригова его демонстративное дистанцирование от образа романтического поэта – который он многократно «присваивал» в своем творчестве: «В его бытовых проявлениях не было ничего от романтического образа художника, который может позволить себе больше, чем простой человек. Он был изысканно вежлив, доброжелателен, рационален, надежен, идеально договороспособен, порядочен в буквальном и переносном смысле слова – он ценил порядок и был в высшей степени порядочным человеком. Глядя на него, становилось понятно, что порядочность происходит от слова „порядок“. ‹…› Сочетание порядка с такой интенсивностью художественного безумия на меня всегда производило сильнейшее впечатление» [Шаповал 2014: 177].
Оборотной стороной этой стратегии была подозрительность, которую Пригов вызывал в андерграундных и особенно диссидентских кругах: «Мой приход из среды художников, вообще переходы из среды в среду казались подозрительными», – говорил Пригов Ирине Балабановой [Балабанова 2001: 22]. Подозрения в сотрудничестве с КГБ сочетались со все более настойчивым прессингом со стороны этой организации.
.....