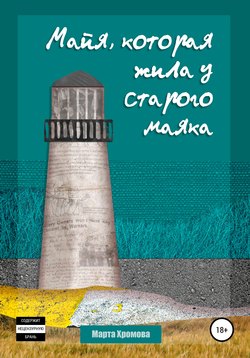Читать книгу Майя, которая жила у старого маяка - Марта Юрьевна Хромова - Страница 1
ОглавлениеМаяк 1.
У меня нет выбора. Ни у кого нет выбора до восемнадцати лет. По крайней мере, чтобы без последствий. Когда-то давно мы с мамой ходили гулять по вечерам. Она была моложе, верила, что отец вернется, следила за собой, мечтала и еще не разучилась видеть красоту в обыденном. Мы спускались по нашей улице и шли через виноградники. Либо в одну сторону к порту смотреть на корабли, либо в другую – в сосняк, к старому маяку. Мы садились на мягкий ковер из жухлых сосновых иголок на краю рыжего песчаного обрыва и смотрели, как солнце сползает все ниже к линии горизонта и тонет в морских волнах.
– А давай я завтра не пойду в школу? А давай я буду ходить только по средам и пятницам, когда рисование? – канючила я. Стоял сентябрь, и память о вольных летних днях была еще слишком живой. – Ну почему нельзя? Почему? Почему?
Мама рассмеялась. – Потому что дай тебе волю, ты вообще не станешь учиться!
Дальше мы молча ели мороженое, думая каждая о своём. Я тогда постеснялась сказать, что она не права. У меня была детская мечта – стать ветеринаром. Кто, в конце концов, хотя бы раз не мечтал им стать? Я знала, что для этого нужно хорошо учиться и поступить в институт. Я бы ни за что не бросила школу, даже если бы мне позволили целыми днями носиться с Ларионом по поселку на велосипедах. Но ведь по-настоящему выбрать не было позволено – ни тогда, ни сейчас.
Я верчусь у зеркала в дверце шкафа, борясь с длинной бежевой юбкой, которую бабушка купила к школе. Если оставить резинку на талии, подол будет подметать землю и в нем недолго запутаться. Если подтянуть до самой груди – видно щиколотки, но в целом тоже смотрится нелепо. Так и эдак плохо, но бабушка сказала, что я уже взрослая и «должна одеваться, как приличная интеллигентная девочка». Выбрать другую юбку я не могу. Без скандала.
Новые туфли с зауженными носками давят, как средневековый пыточный инструмент. Раньше я не носила каблуки. И сейчас бы не носила. Но бабушка сказала…
Бабушка считает, что именно одежда делает из девочки девушку, которой, по ее мнению, в семнадцать лет давно бы пора стать.
Я ныряю в самую свободную блузку, которую можно отыскать в шкафу, чтобы прикрыть резинку юбки, натянутую почти до самого лифчика. Надев очки, на кривых ногах в туфлях-тисках отхожу чуть назад, чтоб рассмотреть наряд целиком. Вылитая семидесятилетняя Галина Степановна – наша учительница литературы и русского. С беспросветным разочарованием упираюсь спиной в ковер на стене. Из него вылетают пылинки и кружатся в прогретом за день воздухе комнаты. В углу, как будто издеваясь, лежит куча одежды на стирку – джинсовые свободные шорты, грязные просоленные футболки, удобные сандалии на липучках. Только сегодня утром я разобрала сумку, с которой приехала из персиковых садов, где подрабатывала весь месяц.
Персики в наших местах считаются поздними и окончательно созревают только в августе. С бархатистой кожицей, почти полностью бордовой, иногда с рыжим бочком. Именно к концу лета персик становится мягким, кожура сползает от малейшего прикосновения, обнажая мякоть, сочную, сладко-медовую. Горе-фермеры не спешат нанимать на сбор урожая людей и тем более, упаси господь, платить им зарплаты. Зато с радостью зовут школьников и студентов. Дают кровать в бараке двадцать человек, кормят кое-чем три раза в день и даже подкидывают пару грошей за каждый собранный ящик.
«На персиках» хорошо. Никаких условностей, не как в школе. Вставали до рассвета, умывались на улице над ведром, шли в сады, чтобы поработать до того, как солнце приблизится к зениту и станет убивающе-горячим. Все одинаковые: в шортах, сандалиях, футболках, которые пахнут потом вперемешку с солью от морского воздуха. С нечесаными волосами, собранными кое как. Все – и мальчики, и девочки. Одинаково высоко взбирались на самые верхушки деревьев, вешали ведерки на железный крюк, ели персики прямо во время работы, да так, что липкий сок стекал по руке до самого локтя, таскали тяжелые ящики. После обеда – на пляж, пока солнце не сядет и не станет прохладно.
Я ездила «на персики» с четырнадцати лет. Лариона не пускали родители. То у него астма, то он на диете, то простыл, то аллергия. В этом году отговорки кончились, в последнее школьное лето перед взрослой жизнью они сдались – и мы поехали наконец вместе.
До самой ночи мы валялись на деревянных шезлонгах, глядя в чернильное небо, называя созвездия, выискивая спутники. Лар указывал на север. – Поступлю и уеду в Питер. А потом женюсь! А ты?
Я пинала его в бок, надкусывая персик. – И я, наверное. Бабушка говорит, что все там будем.
– Где? В могиле что ли?
– В браке…
***
Бабушка сидит на кухне, водрузив планшет на столе перед собой. Она купила его с рук на радиорынке и все еще осваивает. Ба нажимает на экран не спеша, аккуратно, прицельно и только одним пальцем. Задумавшись, она по привычке касается этим пальцем кончика языка, как если бы собиралась перевернуть страницу бумажного журнала.
Мать сидит на табуретке вполоборота и курит в окно.
Я, стараясь не цокать каблуками по деревянному полу, обхожу бабушку со спины и заглядываю через плечо в экран. Там открыт мой электронный дневник.
– И что же ты хочешь увидеть? Год не начался даже, нет там ничего.
– Ну знаешь, больше верь своим очам, нежели чужим речам. – бабушка снимает очки и они виснут на веревочке у нее на шее. Она откидывается на спинку стула, поворачивая голову к матери. – Вениаминовна письмо прислала.
– Денег хотят? – хмыкает не поворачиваясь мать и выпускает в окно сигаретный дым.
Наталья Вениаминовна – наша классная.
– Мы же в июне только половину за ремонт класса давали. Надо теперь всю сумму.
– Перебьются до моей зарплаты.
Бабушка, наконец, оглядывает мой новый прикид. – Как тебе хорошо! – она всплескивает руками. – Хоть на девочку похожа, а не на прошмандэ какое-то.
– По-моему не очень современно, – возражаю без особой надежды.
Мать, погасив окурок, тоже замечает меня. Ее лицо серое от усталости, под глазами темные круги. Когда-то красивые курчавые волосы теперь больше похожи на паклю и небрежно собраны в узел засаленной бархатной резинкой. Я надеюсь, что она скажет что-то в мою защиту. Ведь я видела их с отцом фотографии в молодости, пока она их не выбросила после Того Случая. Никаких юбок в пол там и в помине не было. Мать в джинсах в облипку, стразы на кепке, короткий топик, открытый пупок.
Но она, даже толком не взглянув, бросает. – Да, неплохо, – и идет к холодильнику.
– Ну Оля, – бабушка мрачнеет, – Может сегодня не будешь? Завтра же на работу.
Мать, точно не слыша, вынимает из дверцы бутылку дешевого вина. – Вот именно. – она выпрямляет спину и смотрит враждебно, как будто готовится защищаться от дикого кабана. – Я одна в этом доме и работаю. Вам только денег дай-дай-дай. Можно я расслаблюсь как мне хочется, а?!
Бабушка сжимается, скукоживается и точно становится меньше. – А ты что? – бросает она мне, как будто это я снова приложилась к бутылке, а не мать. – Тут в дневнике между прочим запись на среду есть. Выучить любимый стих по литературе. Ты выучила?!
Я на секунду пугаюсь смены тона, затем вспоминаю задание на лето. – Да это не обязательно. Так, для тех, кто хочет.
– Ах необязательно! – бабушка снова надевает очки и идет к книжной полке в гостиную. – Какая ты беспечная, дорогуша. В одиннадцатом классе, когда ЕГЭ на носу нет ничего необязательного! Мы с матерью деньги лопатами не гребем, чтобы тебя на платном учить.
Она водит пальцем по книжным корешкам. У нас мало книг. Всего две полки, и то половина занята макулатурой – старыми журналами, детективами в кислотных обложках и древней поваренной книгой. Из полезного разве что пара энциклопедий и пропахший нафталином словарь Даля. Мне всегда было интересно, как столь скудная библиотека сочетается с тем, что бабушка называет нас интеллигентной семьей. Хотя, возможно, в Кальцитах любая семья, где не пьют беспробудно и не колотят друг друга палками, уже считается интеллигентной.
Она извлекает два маленьких томика. – Вот, гляди. Есенин и Цветаева. Выбери что-нибудь и обязательно вызовись отвечать.
Я хватаю наугад ту книгу, которая ближе. Цветаева.
– И еще. – бабушка поднимает сухой палец вверх. – Попроси Галину Степановну отправить тебя на олимпиаду по литературе.
– Она все равно Юляшу с Кристиной отправит, любимиц своих. – я чувствую, что больше не могу стоять, так как пальцы ног онемели в новых туфлях.
– А ты сделай так, чтобы и тебя отправила. Скажи «Галина Степановна, я хочу участвовать». Покажи, что ты можешь. Прояви себя.
Я киваю, переминаясь.
– Олимпиада – это дополнительные баллы, знаешь ли. За просто так по ЕГЭ черта с два поступишь, это только талантливые могут, тебе-то куда.
***
В комнате скидываю ненавистные туфли. На улице уже сгустились сумерки. Открыв окно, вдыхаю воздух в надежде на прохладу, но быстро разочаровываюсь. Наступающий сентябрь никак себя не проявляет. Даже по вечерам безветренно, парко, воздух пыльный и горячий. Я прислушиваюсь к морю – прибоя не слышно. Тишина. Как будто весь городок замер в томном ожидании осени.
Хочется написать Лариону и пожаловаться на жизнь, но телефона нигде нет. Бросив томик Цветаевой на стол к новым учебникам, лезу под кровать. Вместо телефона нахожу пару старых носков и кеды для физкультуры.
Бабушка говорит, что я не умею одеваться и сочетаю несочетаемое «как колхозница». Но лучше быть колхозницей, чем стереть ноги в кровь ради красоты. Стряхнув пыль с черных кед, бросаю их в рюкзак, чтобы завтра взять с собой.
Телефон обнаруживается под подушкой. Быстро пишу Лару: «Буду завтра выглядеть, как баба Дуня ста лет от роду, и только ты один не посмеешь надо мной ржать. Не посмеешь, потому что иначе я тебя прибью». Нажимаю отправить, но высвечивается ошибка связи. Проверив баланс, понимаю, что закончился интернет и заваливаюсь на кровать прямо в новой юбке.
Из кухни поднимается запах чабреца. Бабушка заварила травяной чай, а значит они с мамой уже переместились в гостиную к телевизору.
***
– Денег не дам. – отрезает мать, едва увидев меня с телефоном в руке. Вместо чая перед ней на журнальном столе уже наполовину пустая бутылка. Бабушка уютно тонет в кресле, положив ноги на табуретку. Она жмет на пульт, и экран отбрасывает наши тени на стены темной гостиной. Мама полулежит на диване и я сажусь у нее в ногах.
– Тогда, может, из моих выдашь?
Всё, что было заработано на персиках, я отдала им с бабушкой на хранение.
– Каких твоих? Нет никаких твоих. – бурчит мать, не отрываясь от телевизора, где на сцену выходит мальчишка лет двенадцати, сжимая в руках микрофон. – Ты думаешь что, шмотки к школе, тетрадки вот эти все с неба падают?!
– Но мы ведь так не договаривались. – я ощущаю комок обиды где-то у горла. – Это мои деньги. И сейчас мне нужен интернет.
– А мне новые сапоги на осень, и что? Ничего. Третий год хожу в старых, потому что Майечке надо то, Майечке надо это. А Майечка раз в год полкопейки заработала и еще недовольна. Да я на тебя же их и потратила, скотина ты неблагодарная, – она смотрит не своими глазами. С презрением. Слегка сморщив нос, как будто в комнате дурно запахло. Так смотрят на мучителей животных и растлителей малолетних, но никак не на собственных детей. Я хорошо знаю этот взгляд. Он появляется примерно между первым и вторым бокалом вина.
Страшно в такие секунды даже не от того, что хочется резко исчезнуть. Страшно, что не угадаешь, как быть дальше. Это похоже на морской бой.
Д-1. «Промолчать».
Е-4. «Продолжить разговор».
Я выбираю Д-1 и закрываю рот.
Из телевизора льется знакомая мелодия. Крупным планом изящные руки пианиста. Затем подключается оркестр. Смычки скрипок плывут вверх-вниз, как морские волны. Юное дарование волнуется на сцене в свете прожекторов. Камера переключается на зрительный зал, где, сложив руки в молитве, волнуются его родители.
Глаза матери увлажняются. Я знаю, что они с бабушкой ловят кайф от этих передач про талантливых детей. Сидят на них, как на веществах, если не хуже. Сливаются с образами тех родителей и испытывают катарсис от успеха тех детей. Переживают эмоции, которых нет в жизни, где реальные дети – ничего особенного.
Теперь я узнаю песню.
«Помолимся за родителей, за всех живых и за небожителей», – звонко и жалобно тянет мальчик.
Я смотрю на бабушкино лицо, освещенное голубым светом экрана. Ее глаза широко распахнуты, на ресницах поблескивают первые слезы. Я боюсь даже повернуть голову к матери, но она сама подает голос. Безжизненный. Уставший. – Вот. А ты даже стих выучить не можешь.
Черт. Д-1 «Промолчать» – Мимо! Она все равно найдет способ накручивать скандал дальше.
– Как и твой отец, ничерта делать не хочешь, только на шее моей сидеть.
Я чувствую, как немеют и слабеют руки, перебираю в голове варианты стратегии.
И-6 «Остаться»
К-8 «Убраться в свою комнату»
Выбираю К-8 и поднимаюсь с дивана.
– Обиделась! Какая нежная! На правду не обижаются.
К-8 – Опять мимо!
И-6 тоже будет мимо. Всё мимо, мимо, мимо. В наш морской бой нельзя выиграть. И в этом его суть.
Я иду к лестнице на чердак, чтобы закрыться в комнате. Ватные ноги ставлю на ступени, как можно тише. Хочется быть тише, легче, невесомее. Стать бесплотным призраком, раствориться в воздухе, чтобы не мешать им наслаждаться песней и талантливым мальчиком.
– Иди-иди! Всегда так! Вся в своего папашу. Чуть что не по его, тот тоже сразу ноги делал! – доносится снизу крик матери вперемешку со звонким «Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас».
***
У мамы бывает хорошее настроение. С годами всё реже, но кое-какие радости выпадают и на ее долю. В день получки, если у меня все в порядке с оценками и хорошая погода, мы иногда ходим в универмаг возле площади Ленина. Это единственный торговый центр в Кальцитах. Мы заказываем бургеры в местной пародии на Макдональдс, сидим у окна, глядя на Центральную улицу, которая спускается к набережной.
Однажды осенью мать сыто откинулась на спинку стула и, отодвинув поднос с недоеденной картошкой фри, сказала: «А знаешь, о чем я мечтаю? Вот бы хоть раз в жизни пройтись по магазинам, не глядя на цены. Просто брать всё, что понравится, и не думать о деньгах».
Этот момент въелся в мою память четкой картинкой, которая не тускнеет от времени. Благодаря ему, я знаю, как много должна сделать. Они с бабушкой уверены, что нужно мотивировать пинками и тычками, чтобы я «думала о будущем». Но я и так о нем думаю, прокручивая в голове каждый шаг, который отделяет меня сегодняшнюю от той меня, которая сможет дать матери заветную кредитную карточку, чтобы она прошлась по магазинам не глядя на цены. Именно поэтому я выучу стих. Именно поэтому подмажусь к Галине Степановне и без мыла влезу на олимпиаду. Именно поэтому, как советует бабушка, найду себе в институте «приличного мальчика с деньгами». Вовсе не из-за оскорблений, на которые они так щедры якобы для мотивации. Оскорбления не мотивируют. От них просто хочется раствориться в пустоте. Не фигурально, а на самом деле. Перестать быть.
Я перебрасываю ногу через подоконник на абрикосовое дерево, подтягиваюсь выше и взбираюсь по ветке на крышу дома. Шифер теплый. Ночь душная, жаркая, футболка липнет к телу. Море сливается с черным небом, на его фоне белеет башенка старого маяка, который не работает уже больше тридцати лет. Раньше, когда его еще не обнесли забором с колючей проволокой, мы ходили туда с отцом. Это почти всё, что я помню о нем. Хотя есть еще кое-какие воспоминания больше похожие на нарезку из старого видео, записанного на VHS.
Мы не всегда жили в доме бабушки. Мать с отцом снимали однушку где-то в городской части Кальцитов. Скорее всего в одной из десятка старых пятиэтажек. Сейчас я ни за что не вспомню, в каком именно доме мы жили, но это точно был второй этаж. Под окнами квартиры располагалась пекарня, откуда по утрам пахло свежим хлебом, сладкими булочками и повидлом. Зимой, еще затемно, отец будил меня в детский сад. Он вытаскивал меня из теплой постели и на руках относил в ванную, где ставил на табуретку и мы вместе чистили зубы. А потом у них начались скандалы. Меня отправили жить к бабушке. Вскоре к нам переехала мама. Я не помню, когда и при каких обстоятельствах видела отца в последний раз, мне просто сказали, что «этот козёл сбежал».
Я зеваю и, свесив ноги с крыши, готовлюсь перебраться на абрикос. Город спит, дома тонут в зелени деревьев и только собачьи перелайки нарушают тишину. Я вижу боковым зрением маяк и… вспышку на нем!
Замираю и усиленно моргаю. Башня маяка давно разваливается, рассыпается по кирпичикам, гниет. Наверху нет фонаря и оптических линз – всё разграбили еще в девяностые. Там нечему гореть. Я снова всматриваюсь, прислушиваюсь – ничего. Башенка маяка абсолютно темная и безжизненная едва заметна на фоне черной морской воды и неба. Но стоит мне закрыть глаза, я снова вижу вспышку – чёткую, ясную, как будто ее свет отпечатался на обратной стороне век.
Маяк 2.
Бабушка заваривает кофе в турке. Стрелки часов едва переползли за семь утра, но несмотря на это в доме уже душно. На кухне прохладнее, благодаря винограду, оплетающему решетки окна.
Мать, разложив на столе косметику, красит брови, глядя в маленькое складное зеркальце. Увидев меня, она демонстративно отводит взгляд – значит, мы еще в ссоре и я должна чувствовать себя виноватой, находясь с ней в одной комнате. Бабушка соблюдает нейтралитет и подчеркнуто радостным голосом предлагает мне плеснуть кофейку в кружку. Я не отказываюсь. Стол накрыт плотной клеенкой с синими цветами, горячая кружка оставляет на ней небольшую круглую вмятину.
– Давай-ка я тебя заплету. – бабушка идет в прихожую и возвращается с расческой. – Не идти же лохудрой расхристанной.
– Сегодня не учебный день, можно и лохудрой, – я пытаюсь увернуться от расчески.
Бабушка непреклонна. – Плохое началишко не к доброму концу! Сама знаешь, как год начнешь…
Смиряюсь и отпиваю кофе, пока она разделяет волосы пробором на две части. Мать все еще молчит, и неприятная вязкая тишина повисает в воздухе.
– А я вчера свет на маяке видела, – говорю первое, что приходит в голову, только бы прервать молчанку.
– Запишись к окулисту, – мама подает голос из-за настольного зеркальца.
Чувствую, как расческа на секунду останавливается, но затем бабушка принимается заплетать косу с удвоенной силой. Она понижает голос. – Вы так не шутите. Ходит одна старая байка. Говорят, когда на этом маяке зажжется огонь, придет антихрист.
– Тогда он должен был зажечься в день, когда я Майку рожала. – зло посмеивается мама, сгребает одним движением руки косметику в сумку и направляется в прихожую. Вскоре за ней захлопывается дверь.
– У нее очень тяжелая работа. – вздыхает бабушка, как будто мне нужны пояснения. – Но это всё ради тебя.
***
Я ковыляю к маршрутке в обнимку с букетом желтых астр из нашего сада. Песчаная дорога высушена солнцем, и от каждого шага поднимается пыль. Ненавистные лаковые туфли превращаются из черных в грязно-серые.
Остановка «Улица Маячная» представляет из себя заросший репейником и лопухом сарайчик из ракушечника. У нее, как и у света, двойственная природа: используется, как остановка, и как туалет – благо лопух под рукой. Ларион в белой парадной рубашке с галстуком смотрится на этом фоне смешно. Пустой рюкзак перекинут через плечo. В руке, как и у меня, букет желтых астр.
– Ты чего не отвечаешь?! – набрасывается он вместо приветствия.
– И тебе доброе утро. – я, устало, как после марафона, падаю на скамейку, точнее на ту ее часть, где еще не сломаны гнилые доски. – Интернет кончился.
Бросив букет рядом с собой, открываю рюкзак, быстро вынимаю кеды и сбрасываю туфли.
– Ого, да это что? Бунт? – Ларион с шуточным укором наблюдает за моими манипуляциями.
– Меньше всего на свете мне сейчас нужен бунт! – я с силой шнурую кеды, как будто они виноваты во всех бедах мира. – Я хочу обычный, спокойный год. Тихий такой, мирный, знаешь? Без скандалов. Без драм. Чтобы мне просто дали нормально готовиться к треклятому ЕГЭ, – прячу туфли в рюкзак. – А потом это всё закончится.
– Ой ли…
Мне остается снять резинки с косичек, туго заплетенных бабушкой, что я с радостью и делаю. Освобожденные волосы свободно падают на плечи и, несмотря на духоту, я чувствую, что становится легче дышать.
– Так что ты думаешь? – Ларион выглядит непривычно взбудораженным, как будто мы собираемся не на линейку, а в кругосветное путешествие.
– О чем?
Он несколько секунд смотрит на меня, как на последний валенок, а потом хлопает себя по лбу рукой. – Точно! У тебя же нет интернета. – Лар делает драматическую паузу. – О новенькой. Весь чат на ушах!
– Не-не-не, – я улыбаюсь и качаю головой, как будто стряхивая глупую мысль. – Сегодня первое сентября, а не первое апреля. Кому придет в голову переезжать в Кальциты?
***
Стекла в маршрутке затонированы. Пробегающие мимо виноградники и море в бликах выглядят, как на негативе старой фотопленки. Портовое шоссе тянется через весь город от Цементного завода до автостанции.
Автостанция в Кальцитах – и в особенности круглая голубая башенка с часами – это символ надежды. Она как бы напоминает, что выход из этого города есть. Когда в Кальцитах спрашивают «Сколько времени?», местные знают, что нужно ответить: «Время сваливать отсюда». Только почему-то не сваливают.
Ларион протягивает мне телефон, на котором открыт чат класса. Я быстро листаю в начало, где Тоня-староста сообщает, что к нам перевелась девочка из Москвы.
«Японский бог!» – проносится в голове, когда я вижу больше пятидесяти сообщений после этой новости. Все они похожи друг на друга. Эдик и ребята делают ставки, насколько новенькая «ебабельна» и можно ли с ней будет «замутить». Лена Иванцова уверенно пишет: «Зуб даю, ни разу не ебабельна, с прыщами и ноги кривые».
Становится душно. Я чувствую, как намокает спина под блузкой. Шоссе лентой несется вверх и ныряет в городскую часть Кальцитов. На остановке школьники с цветами щурятся на солнце, которое растапливает старые пятиэтажки.
Я не дочитываю до конца и брезгливо, двумя пальцами, возвращаю телефон Лариону. – Это мерзко. Надеюсь ты там свои три копейки не вставил?
– Мне нет дела, ты же знаешь, – Ларион пожимает плечами и убирает телефон в карман брюк.
– Ах, конечно же. Юляша.
– Говорю тебе, в этом году всё будет по высшему разряду! Смотри. – Ларион загибает пальцы. – Я похудел. Подкачался. Загорел «на персиках». Отращиваю бороду. Она влюбится. Вот те крест!
– Бороду надо сбрить, она козлиная.
– Не козлиная, а как у Димы Билана в молодости.
– Я и говорю. Козлиная.
Ларион отворачивается. – Вообще-то ты должна поддерживать, товарищ тоже мне.
Каждое первое сентября, начиная с восьмого класса, у нас с Ларионом происходит ритуальная игра. Он убеждает меня, что на этот раз Юля Куницына точно-преточно обратит на него внимание. А я на абсолютно серьезных щах соглашаюсь и даже добавляю свои аргументы, почему это непременно случится. Не имеет значения, что мы оба знаем – при виде Юляши Ларион будет трястись, как осиновый лист, и решительно ничего не предпримет.
Мы делаем остановку на площади Ленина возле универмага. В окно видно кусочек Центральной улицы. В сторону моря бредут, замотавшись в яркие полотенца, пожилые курортники. Бархатный сезон подбрасывает нам, вынужденным учиться, месяц тихой зависти.
Я улыбаюсь. В этом году Ларион еще больше прибавил в росте, как будто кто-то вытянул его фигуру в фотошопе. Он обогнал меня на целую голову, с круглого пухлого лица исчезли щеки, появилась щетина. Эти перемены происходили с той или иной скоростью со всеми парнями в классе, но в случае Лариона как-то слишком разительно. Или мне так казалось, потому что я знала его – пухлого мальчика-пупса – с детского сада.
– Нет, ну шансы есть, – я прерываю молчанку, стараясь не засмеяться. – Девять из десяти, если сбреешь бороду. И ноль из десяти, если оставишь.
***
Между квадратными плитами пробивается трава, и я ковыряю ее носком кеда. На крыльце школы директор орет на парня, который, шатаясь на стремянке, пытается привязать отвалившуюся гирлянду из шаров. Музыка слишком громкая, поэтому не слышно, что именно он орёт, но можно догадаться по губам.
Лена Иванцова и Эдик держатся за руки – значит снова вместе. Лена оставляет его руку и легко, несмотря на высокие каблуки, бежит навстречу Ире Деревяхиной. Они обнимаются, как будто не виделись несколько тысячелетий. Эдик замечает нас с Ларионом.
– О, толстый подкачался. Тоже решил, что пора телочек клеить, Лапин?
Лицо Лариона багровеет. Лена с Ирой догоняют Эдика. Девочки окидывают меня взглядом, оценивая. – Новая мода? Монашка в кедах?
Они смеются с собственной шутки. Я тоже улыбаюсь. – Как я рада вас видеть, – отвечаю дружелюбно и почти без сарказма.
Нужно всегда кивать и смеяться вместе с ними. Даже если подкалывают тебя. Покажешь хотя бы одной дрогнувшей мышцей лица, что шутка задела – пиши письма. Это правило я уяснила с самого начала старшей школы. Иванцова и компания могут играючи превратить твою жизнь в ад. Тоне Мышкиной целый год прятали учебники в мужском туалете. Она однажды расплакалась, когда Ира назвала ее зубы крысиными. С тех пор назло они обращались к ней исключительно по прозвищу Сплинтер – это крыса из «Черепашек-ниндзя». Только в прошлом году Тоня избавилась от клички, когда начала осыпать Лену комплиментами и давать списывать алгебру.
Эдик третий год подстрекает к драке с Арсеном только потому, что последний редко появляется в школе, не вписываясь в классную семью. Он часто уезжает на сборы по тяжелой атлетике и этим бесит всех остальных. Арсен другой. Не мотается на большой перемене курить за гаражи, не остается после школы гонять в футбол, щеголяя перед девчонками, сидящими на поломанных скамейках. Не проглатывает шутки.
Мы с Ларионом где-то по середине. Не в круге избранных, но и не за бортом.
Так уж сложилось, что эта компашка задает моду, мы с этим просто смирились. «Есть лидеры по натуре, а есть тюфяки. Это врожденное», – говорит бабушка. Не трудно догадаться, к какой категории она относит меня.
В прошлом году наш класс отвечал за концерт к 8 Марта. После праздника мы с бабушкой шли домой по снежной каше. – Нет, ну одеваются эти Ира с Леной, конечно, тушите свет, – от обсуждения моих одноклассников у нее на языке всегда делается сладко. – Юбки эти, из-под которых трусы видно. Но ты зато обрати внимание, как они себя преподносят! Как спинку держат, не то, что ты. А как глазками стреляют, кокетничают. Учись!
Бабушка умеет дать задачку, у которой нет решения. Будь скромной, не кажись доступной. Но в то же время – учись стрелять глазами и кокетничать.
Лена с Эдиком уходят вручить цветы Наталье Вениаминовне. Ларион все еще красный приподнимается на цыпочки и тянет шею, высматривая Юляшу.
«Рас-рас-рас», – директор проверяет микрофон. Что-то коротит в системе, и по школьному двору разносится оглушительный писк.
Я машинально закрываю уши. Юля появляется в воротах вслед за Кристиной и ее спортивной бабушкой в белых кроссовках. Когда я смотрю, как опекают Кристину, то всегда думаю про себя – могло быть и хуже. Меня по крайней мере не водят в школу за ручку.
Ларион срывается с места поздороваться и на бегу спотыкается о выступающую плитку. Юля с Кристиной смеются. Светло-русые мелкие кудряшки у Юли на голове светятся на солнце. Похожая на одуванчик, она прикрывает рот рукой и продолжает хохотать. Я должна ее ненавидеть. Мне положено, потому что девочки не дружат друг с другом, а по законам природы, осознанно или не очень, борются за самца. Ну, так все говорят.
Самец меж тем стоит в раскоряку, с глупым видом. Нас с Ларионом поженили еще в первом классе. По законам жанра мы обязаны начать встречаться, а Юляше я должна насыпать стекла в чай. Но мне все равно. Никто, даже мать с бабушкой, не верят. – Ты, наверное, – говорят, – просто боишься, что он выберет не тебя. Ну еще бы, совсем не умеешь вести себя, как девочка. А надо завоёвывать. Не в лоб, а хитрыми штучками.
Но мне действительно это до лампочки.
– Это ты, Лапин, значит негативно мыслишь. – деловито изрекает Кристина.
– Че?
– Да то. Когда посылаешь Вселенной плохие мыслишки, она отвечает тебе тем же.
– Я что, по-твоему, посылал во Вселенную желание споткнуться?
– Ничего ты не понимаешь. Это не так работает. Скорее всего ты думал о чем-то или о ком-то плохо, твоя голова и все твое естество было сосредоточено на негативе, поэтому Вселенная отплатила тебе той же монетой.
– Ничего я не думал такого!..
Перекрикивая песню «Первоклашка-первоклассник» они продолжают спорить, и я, просто так или под воздействием музыки, испытываю прилив нежности. Это ведь наша последняя линейка. Так больше не будет. Юляша с Кристиной, ее бабушка в белых кроссовках, Иванцова и компания, Ларион, Наталья Вениаминовна в своем неизменном костюме цвета гнилой вишни – через год мы разойдемся, разъедемся, станем кем-то другим. Эта плитка с травой на стыках, обшарпанное крыльцо, деревянные двери и цветные шары приветствуют нас последний раз.
Складываю руку козырьком и наблюдаю, как оторвавшийся гелевый шарик одиноко улетает к верхушкам тополей-свечек. Солнце играет с листьями, они шуршат от легкого ветра, переливаясь серебром. Мне хочется вдохнуть глубже и запомнить этот момент.
Ларион пинает меня в бок. Мысли резко падают с верхушки тополя обратно на школьный двор, и я не сразу понимаю, что произошло. Все головы повернуты от сцены в сторону ворот. Юля толкает Кристину, Иванцова быстро шепчет что-то на ухо Ире Деревяхиной. Даже в толпе одиннадцатого «Б» и одиннадцатого «А» переполох.
– О-ху-еть, – медленно произносит Ларион, который никогда не матерится.
– Лапин, челюсть ногу не отбила? – Юляша вздыхает и смотрит на него, как на безнадежного.
Сквозь железные прутья забора вижу черную машину. Необычную. Похожа на ретро-автомобиль, может быть двадцать первая «Волга» или вроде того, я не разбираюсь.
От ворот к нам идет – ясно – наша новенькая. Солнце слепит и я не могу толком ее разглядеть. Лена Иванцова выпрямляет спину, ее лицо сосредоточено, как на годовой контрольной. Раньше из всех наших только ее иногда отец подвозил на машине. Но это была «девятка», а не гребаная «Черная молния».
Новенькая подходит к Наталье Вениаминовне и вручает цветок. Один. Нелепый. Какой-то сиреневый шар на длинной толстой ножке, перевязанный ленточкой. Присмотревшись, я понимаю, что цветок вовсе не покажется нелепым по сравнению с ней самой: длинные черные волосы заплетены в десятки тонких косичек, с цветными нитками, расточками и крупными бусинами. Блузка на выпуск, на шее небрежно завязанный галстук. Она не в юбке, не в брюках, а в черных шортах длиной чуть выше колена. И – я невольно улыбаюсь – потому что у нее кеды, как у меня. Только новые и наверняка фирменные, а не подделка.
Она выглядит, как чужеродный предмет на этой линейке. Да и в этом городе. Наталья Вениаминовна семенит вдоль класса. – Ребята, встаньте по линии, не разбредайтесь, сейчас уже начнется. Вы что, самый неорганизованный класс?
Неорганизованный класс ее едва слышит, даже несмотря на то, что музыку, наконец, сделали тише и на крыльце уже в ряд выстраиваются завучи за широкой директорской спиной.
Лена Иванцова выходит вперед, Ира и Тоня-экс-Сплинтер следуют за ней, как Крэб и Гойл за Малфоем. Эдик со своим лучшим другом Пашей Павликовым стоят поодаль, сложив на груди руки. Их лица довольные, лоснящиеся, как у котов объевшихся сметаны – предвкушают разборку.
– Как зовут? – Иванцова не дает новенькой встать в линию вместе со всеми.
– Нинель.
Мне нравится имя. Кажется, в нем есть что-то бунтарское, но я не могу вспомнить, что.
– Значит Нинка, – Лена ухмыляется и сверлит ее взглядом.
– Значит Нинель, – новенькая отвечает не моргая.
Ошибка номер раз. Спорить с Иванцовой.
– Ты думаешь ты тут будешь решать, какое мы тебе припишем погоняло? – Ира с Тоней взрываются смехом за спиной Лены.
– Но и не ты.
Ошибка номер два – продолжать.
Нинель прерывает гляделки и проходит дальше. Вероятно, надеется встать в линию возле Натальи Вениаминовны, там не устроят потасовку.
– Куда пошла? Мы не договорили.
Не отвечает. Ошибка номер три – пытаться показать, что ты «выше этого».
Девушка проходит мимо нас, она не опускает голову и не прячет глаза, а наоборот рассматривает лица. Но не в поиске поддержки, не заискивая, а с каким-то абсолютным безразличием. И от этого неловко. В ее взгляде что-то лисье, серые глаза холодные. Мне становится яснее ясного, почему злится Иванцова. Не скажу за всю деревню, но я вряд ли когда-либо встречала человека красивее.
Музыка затихает совсем. Директор подходит к микрофону и прокашливается. – Сегодня, в этот светлый праздничный день…
Я знаю, что он на девяносто девять процентов скопирует речь предыдущего года.
– …мы приветствуем как наших будущих выпускников, так и тех, кому только предстоит сделать свои первые шаги на этом важном пути!..
Почти не слушая, пытаюсь боковым зрением разглядеть новенькую, потому что пялиться откровенно стыдно. Ларион склоняется к моему уху.
– Ей пиздец? – говорит он мрачно.
– Ей пиздец.
– Но это не наше дело?
Я качаю головой. – Совершенно не наше дело.
И это так. Меня не волнуют классные перипетии и интрижки. Любимый совет бабушки «Не тычь носа в чужое просо» еще ни разу не подводил. Я зачем-то повторяю поговорку в уме несколько раз, как мантру.
Маяк 3.
Мы идем в центр пешком. Жара не спадает, но на нашей стороне улицы каштаны отбрасывают плотную тень. Впереди Иванцова и компания, я и Ларион – чуть поодаль.
– Все равно не понимаю, почему нас вдруг позвали, в честь какого такого парада планет, – бубню я тихо. Лена, Эдик, Ира и все, кто может завоевать их расположение, по пятницам или в праздники ходят в «Двойной донат». Это единственная в городе кофейня, где есть латте с десятью видами сиропа, и кофе наливают в красивый пластиковый стакан с трубочкой. Отец Лены имеет общие дела с владельцем «Доната», по крайней мере по ее словам, поэтому их компашке делают скидки. Мы с Ларионом никогда не были достаточно хороши, чтобы нас туда приглашали.
– Да чего ты гундишь, как бабка? – Ларион улыбается встречным прохожим и выглядит счастливым. – Ты не понимаешь. Детский сад кончился, больше никаких соревнований, кто круче. Мы взрослые люди, улавливаешь? Нам всем в этом году исполняется восемнадцать. И только ты ищешь второе дно.
Солнце успевает напечь голову, пока мы переходим площадь Ленина и за спиной вождя снова укрываемся в тени каштанов. Кафе начинается с уютного белого крыльца и большой вывески, где каждая буква «О» в названии выполнена в форме доната с нежно-сиреневой глазурью. Внутри работает кондиционер, и мы словно ныряем в море после тяжелого душного дня. Лена семенит впереди всей компании, бросает сумочку у окна и подмигивает бариста. Молодой парень с прической а-ля Эдвард Каллен машет в ответ, как старой знакомой.
Пробежав глазами по ценам, надеюсь, что успею занять место, и никто не заметит, что я ничего не купила. К несчастью, белозубый «Эдвард Каллен» успевает спросить, что же сделать «девушке в очках» – эспрессо, каппучино, латте?
«Хуятте», – крутится на языке. Я смотрю на него, как на врага народа, и быстро отвечаю. – Спасибо, мне нельзя кофе.
– Ах, – Лена подходит ближе с влажными, полными сочувствия глазами. – Я забыла… у тебя же… нет денег, наверное.
Ей известно, кем работает моя мать, не удивительно. Но в искренность я не верю ни секунды. – У меня просто давление высокое. – говорю первое, что приходит в голову. – Мне нельзя кофеин.
– А у нас есть кофе без кофеи..! – радостно сообщает «Эдвард Каллен», но замолкает на последнем слоге, поймав мой убивающий взгляд.
Мы рассаживаемся вокруг высокого деревянного столика, над которым свисают декоративные лампочки, источающие слабый, нежный свет. Лена садится к Эдику на колени и лениво отпивает из сиреневого стаканчика. – В общем, народ, хотела спросить. Видели на днях, что наш маяк светился? – говорит она как бы невзначай, но я чувствую, что ради этого вопроса мы тут и собрались. Мне становится тревожно, хотя видимой причины нет. Так бывает, когда просыпаешься после кошмара и не помнишь, что же именно во сне так напугало.
– Ну? Что, никто не видел? – продолжает Иванцова.
Паша Павликов пожимает плечами. Ира молчит. Вперед подается Тоня-экс-Сплинтер. – Я! Я кажется… Ну, то есть, я не уверена. Но по-моему я что-то такое как-то раз видела! – быстро щебечет она.
Очевидно, это неправда. Просто Тоня хочет снова угодить Лене, но это понимают все, включая саму Лену. – Ага. У тебя окна выходят в другую сторону. Не сочиняй. – обрывает Иванцова, и Тоня, ссутулившись, замолкает.
Я все еще не понимаю, к чему этот разговор, но молчать больше не могу. Наконец, есть подтверждение, что в прошлый вечер у меня была не галлюцинация. – Я видела. Этой ночью.
– Вот! – Лена победно подпрыгивает у Эдика на коленях. – Говорила вам! А Майка там прямо рядом живет, в деревенской части.
– Не зря их позвали, – шепчет Тоня, склонившись к Паше Павликову, но так громко, что я ее слышу. Под столом пинаю Лариона по ноге. Надеюсь, теперь он убедился, что никто здесь не собирался с нами водить дружбу.
– А знаете, что это значит по легенде? – продолжает Иванцова. – Ага. Что придет антихрист. И что же мы видим? К нам приходит эта Нинель. С чего вдруг переводиться в другую школу перед самым ЕГЭ? Переезжать сюда? Наша распрекрасная новенькая – дочь Сатаны.
Несколько человек тихонько прыскают в кулаки. Лена выпрямляется и сдвигает брови к переносице. – Думаете смешно? Ничего смешного. Таких совпадений не бывает.
– Ну, я слышал, что ее папаша бизнесмен и собирается тут что-то строить, – говорит Паша Павликов.
– Как будто нельзя быть одновременно бизнесменом и Сатаной!
– Это, наверное, можно. Просто…
– Ничего не просто. – Лена делает еще один глоток. – И я вам зуб даю на отсечение…
– Голову на отсечение, – тихо поправляет Тоня, но Лена прошивает ее таким взглядом, каким я несколько минут назад метала молнии в баристу. – …Зуб, короче, даю, что спокойной жизни с ней нам не будет, и произойдет что-то нехорошее, если мы от нее не избавимся.
– Как?
– Для этого вы тут и нужны. Думайте!
– А что, если придет ее папаша и нам всем, ну не знаю. Что там Сатана может? Аннушка разольет масло и все такое… – интересуется Павликов.
– Не разольет. – парирует Иванцова. – Нас много. Она одна. Мы на правой стороне. Да и вообще-то у меня тоже папаша есть, который не прыщ на жопе человечества.
– Хз, – Эдик, до этого занятый поглаживанием Лениной ноги, подает голос. – Судя по тачке, папаша этой фифы куда как…
– Куда как что? – Лена соскакивает с его колен и демонстративно отсаживается на подоконник.
– Да вернись, я пошутил. – Эдик протягивает к ней руку, ухватив за край короткой юбки.
– Нет уж, договаривай.
– Да всё-всё, твой батя всем батям батя. На костер дочь Сатаны.
Пользуясь заминкой, я встаю, схватив Лариона под руку. – Извиняюсь, мы тут совсем забыли. Обещали маме помочь сегодня перцы закатывать, так что мы пойдем наверное!..
К счастью, все поглощены спектаклем Лены и Эдика, поэтому не замечают, что я утаскиваю Лариона к выходу.
– Давай останемся, ты че, какие перцы?
– Зеленые! – шикаю я, и открываю двери кофейни.
Мы как будто попадаем в сауну после прохлады кофейни.
– Ты не понял? Они не хотят с нами тусить, а позвали только для того, чтобы мы участвовали в этой комедии.
– Почему? – Ларион с тоской оглядывается на окно кофейни, где с улицы видно только спины Тони и Паши Павликова. – Я думал мы еще посидим…
За нами открываются двери и выходит «Эдвард Каллен» в коричневом фартуке, вынимая из кармана пачку. – Курите? – он дружелюбно протягивает ее нам. Я рассеянно мотаю головой и снова обращаюсь к Лариону. – Ты что, веришь в этот бред?!
– Ну, – Ларион пожимает плечами. – Глупо звучит. Но с другой стороны ты ведь сама сказала, что видела свет.
– Да какая хрен разница, что я видела.
– Это не первый раз. Там постоянно что-то светится. – голос раздается из-за спины. Бариста, затянувшись, дожидается, пока мы к нему повернемся. Он выдыхает, и в отсуствии ветра дым повисает облаком между нами. – Я это давно знаю, – продолжает парень, – Там живет старый смотритель маяка с женой. Похоже, они выжили из ума и постоянно химичат на маяке. Хотел бы я знать, зачем. Но идти спрашивать как-то тупо.
– Я живу недалеко. – радуюсь что есть рациональное объяснение. – Вижу жену смотрителя иногда в магазине. Я думала они просто гоняют любопытных от маяка и, так сказать, доживают свой век.
– Видимо, не просто. – парень гасит окурок о стенку урны. – Узнаешь что-то, приходи, расскажешь. Сделаю тебе кофе без кофеина, – подмигивает он.
Ларион провожает «Эдварда Каллена» взглядом. – Да он запал. Вот те крест.
***
Три медных таза, доверху наполненные огурцами, занимают почти все поверхности на кухне. В прогретом за день воздухе висит запах чеснока и перца. Бабушка распихивает огурцы по трехлитровым банкам, из которых торчат зонтики укропа.
Присев на корточки возле мусорного ведра, я чищу картошку к ужину.
– Овощечистку возьми. – бросает бабушка, не глядя.
– Я ножом.
– Нет, возьми. Нормально делай, нормально будет.
Со скрипом двери мама пускает в дом сквозняк. Я слышу, как она легко скидывает босоножки – значит настроение хорошее. В дурном настроении она снимает обувь медленно и прячет в нижний ящик комода, с силой хлопая дверцей.
Мать открывает холодильник и выкладывает из пакета молоко, кефир, батон колбасы и кусок сыра. – В этом месяце не задержали, – комментирует она и затем, воровато оглянувшись, ставит в дверцу тетрапак дешевого вина.
Благодаря зарплате, она забывает, что мы со вчерашнего вечера не разговариваем и с энтузиазмом подвигает к себе кастрюлю с начищенной картошкой. – Я порежу. – она моет нож. – Как там в школе?
Я люблю такое состояние у матери. Улыбка, болтливость, не омраченные первым бокалом вина «чтоб расслабиться». Она как будто выходит из спячки и замечает кипящую вокруг жизнь.
– Говорили, что после ЕГЭ – конец света. – отвечаю.
– И правильно говорили. Вас, если не пугать, толку не выйдет. – вставляет бабушка.
Я наблюдаю за мамиными руками, которые ловко рубят картофелину на тонкую соломку. – А у вас в школе бывало такое, чтобы кого-то… травили? – решаюсь задать вопрос. – Ну, пытались выжить что ли.
Мама, задумавшись, чешет висок свободной рукой. – Да нет, вроде дружно жили. Хотя был Федя Боков, мы его кабыздохом называли. И зимой снежками мылили. Такой был тощий рохля. Ни рыба, ни мясо.
– Что, всем классом мылили и обзывали?
– Уже не помню, – мать ловит мой взгляд. – Сам виноват. Мальчик должен быть мальчиком, а не плаксой. Сдачу давать. – она подвигает бабушку у плиты и ставит сковородку на огонь.
– Как же вам сдачу давать, если вы всем классом?
Бабушка пытается впихнуть еще один огурец в банку, но та со стеклянным скрипом сопротивляется. – А тут дело не в кулаках. – она резко поворачивается ко мне и размахивает не влезшим огурцом, как указкой. – Просто надо уметь себя так поставить, чтобы к тебе относились с уважением. А ты чего спрашиваешь?
Я отодвигаюсь подальше от огурца и напускаю на лицо все безразличие, на какое способна. – Просто.
– Брешешь, – довольно улыбается бабушка, как будто только что раскрыла тайну бермудского треугольника. – Мне бабушка Кристиночки сегодня звонила. Кстати, ты знаешь, что Кристиночка в этом году еще и музыкальную школу заканчивает?
– Как же. Веду календарь. – остается только огрызнуться. Разговор перетекает не в то русло, и меня раздражает, что бабушка влезла. Я ведь спрашивала не ее.
– У них новенькая. – теперь она разговаривает с матерью, посчитав, что я потеряна для беседы. – Софья Ивановна рассказала – страх божий. Прическа какая-то вызывающая, а на брови этот, как его, как у папуасов. Пирсинг! – бабушка закидывает зубцы чеснока в банки. – На дорогущем катафалке приехала, как же, не чета нам. Софья Ивановна говорит, это ее папаня гостиницу здесь строить собирается.
Я тихо радуюсь, что она хотя бы не считает Нинель антихристом.
– Гостиницу? – мама помешивает картошку. Масло уже раскалилось и шкварчит.
– Лучше бы завод восстановили. Разграбят всё, а потом гостиницы строят.
У самого порта в нашем городе велась добыча известняка, богатого кальцитом. Там же был завод, где делали гашеную известь, цемент, щебенку для строительства. Бабушка любит вспоминать грузовые суда, заходившие в порт один за одним, стук молотков из дока, доносившийся до поселка даже по ночам. Я ничего этого не застала. Добычу и завод приватизировали в девяностые, а потом забросили – оказалось, что покупать цемент дешевле за границей. Осталось только производство бижутерии из кальцита. Прозрачные камешки с розоватым, голубым и сиреневым оттенком пускали на кулоны и браслеты. В моей шкатулке было много таких – гладкие бусины неправильной формы, нанизанные на нитку.
– Если гостиница, может и работа появится, – вздыхает мать.
– Держи карман шире. Какая уж там работа. Номера за отдыхающими драить? Так тебе какая разница, где драить? Там или тут, в больнице?
Мама выключает огонь под картошкой и садится на любимую табуретку у окна. – Да уж никакой, – она зажигает сигарету. Я хочу еще поговорить с ней. Спросить, как же все книжки, которые мы читали в детстве, где правильные герои всегда защищали тех, кого обижают. Но ее взгляд уже стал расфокусированным, направленным в себя. Момент упущен. После Того Случая она редко бывает собой настоящей. Только изредка немного оживает, разговаривает по-настоящему, а не дежурными фразами, смеется. Но, что ни делай, она всегда снова уходит в раковину, как улитка, а потом ищет повод пропустить бокал-другой.
– Так что я тебе так скажу, Майя, – бабушка не видит перемену в матери и продолжает говорить. – Если ваши ребята захотят поставить ее на место, то будут правы.
– Я спросила не поэтому. – пытаюсь вяло отпираться. – Я всего лишь не понимаю, почему должна молчать, если все детство мы говорили о том, что молчат трусы.
– Не спорь. Я тебе не говорю молчать. Просто дело выеденного яйца не стоит. – отрезает бабушка. – Ты конь что ли?
– Почему конь? Не конь.
– Вот коль не конь, так и не лезь в хомут. А коль не корова, так и не мычи… Стих выучила?
***
На юге сентябрь проявляется медленно и незаметно. Днем всё так же жарит солнце, но по утрам от земли поднимается едва ощутимая прохлада. На школьном крыльце замечаю несколько желтых листьев, которые сквозняки загнали между ступенями. Еще вчера их не было. Живот внизу скручивает необъяснимой печалью, как будто оживает тоска по давно ушедшему родственнику, которого помнишь лишь по фотографиям.