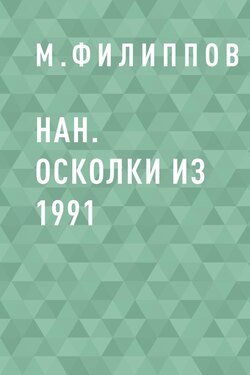Читать книгу НАН. Осколки из 1991 - М.Филиппов - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеАвтор не берет на себя обязательств в части исторической
достоверности изложенных событий и фактов. Они пред-
ставлены им так, как воспринимал и понимал их он автор.
Глава первая. Н.А.Н.
Вертолет завис над обозначенной площадкой в урочище Уйтас-Айдос, затем, накренившись вперед носом и как бы выбирая лучшее место, ушел в сторону и, подняв клубы пыли, совершил посадку. Начальник городского отдела милиции срочно развернул часть оцепления фронтом к месту посадки. Его, накануне вечером, откомандировали сюда, к могиле сына Великого Чингисхана, с важной миссией – обеспечить охрану общественного порядка в период пребывания НАНа. Инструктировал лично начальник УВД области в присутствии всех своих заместителей. С собой разрешено было взять не более 15 сотрудников, 30 % из них вооружить табельным оружием, в том числе двумя автоматами. Оружие напоказ не выставлять. Иметь при себе бронежилеты, носимые радиостанции. Выдвинутся на двух автомашинах, которые замаскировать, но держать под рукой. (Хорошенькое дело замаскировать в степи автомашину!) В случае появления в этом безлюдном месте скопления людей, обеспечить порядок. Действовать по обстановке, при необходимости привлечь дополнительные силы и средства (это вообще, из области фантастики!).
Пыль отнесло ветром в сторону, винт машины ещё вращался, а на осеннюю степную землю выскочили два сотрудника охраны. К ним тут же подбежали еще трое, прибывших минут за десять до посадки вертолета на затонированном «Ленд Крузере». По опущеному из люка вертолета трапу ловко спрыгнул начальник УВД области Нестор Дмитриевич Викторов. В парадной милицейской форме, небольшого роста, со щегольскими усиками он выглядел по-гусарски браво. Но весь вид портил висевший на плече фотоаппарат. Он никак не сочетался с полковничьей формой и начальственно-важным выражением лица. С головы Нестор Дмитриевича струей воздуха сорвало фуражку. Он метнулся за ней, а навстречу ему в погоню, от стоящей поодаль автомашины «Ниссан-патруль», устремился водитель начальника милиции Игорь Лисицын.
Приняв из рук расторопного милиционера фуражку, водрузив её на место и сняв с плеча цепляющийся ремнем за звезды на погонах фотоаппарат, Нестор Дмитриевич повернулся к вертолету. Рядом с его люком на земле уже стоял в щегольском летнем черном костюме и лакированных туфлях недавно назначенный начальником УКГБ по Джезказганской области полковник Кубелеков. Он подстраховывал спускающихся по трапу Сару Алпысовну, супругу НАНа, и Любовь Григорьевну Любченко, супругу Председателя облисполкома. Следом за ними на родную степь ступил НАН, (по инициалам, НАН – это хлеб по-казахски). За ним из салона вертолета высыпали Председатель облисполкома Любченко Григорий Петрович, два фотографа-еврея из свиты и молодой мужчина лет сорока. Все они, кроме женщин державшихся по-восточному в стороне от мужчин, обступили НАНа. Он скользнул взглядом по бескрайнему степному простору и остановился на мавзолее, щит рядом с которым извещал, что это исторический памятник ХIII века, охраняемый государством.
Нестор Дмитриевич сделал несколько снимков. Выражение лица НАНа осталось прежним, только едва заметно, как от яркого солнечного света, сузились глаза. «Фотограф»,– раздраженно подумал он. В ту же секунд фотографы-евреи, отскочив в разные стороны, друг от друга, защелкали затворами своих «Никонов». НАН, по привычке, не замечая их, вернулся к прерванным размышлениям: «Вот она, Великая и Бескрайняя степь. Тот правит ей, кто обладает умом и силой». Как бы в подтверждение этих мыслей теплый сентябрьский ветер обнял его, прижав к телу синий цековский костюм, забросил на правое плечо галстук и ласково вернул одежду в прежнее состояние. На бледно-желтом лице мелькнула едва заметная улыбка.
«Хорошо! – в слух сказал НАН. – Красиво».
«Да, да…» – загалдела свита.
Григорий Петрович с видом хозяина выдался немного вперед, и, став вполоборота к НАНу, простер руку в сторону мавзолея Джучи-хана. «Вот, не так давно реконструировали купол!» – сказал он с гордостью, как будто речь шла о могиле кого-то из близких родственников.
Нестор Дмитриевич сделал очередной снимок, при этом неуклюже заслонил обзор одному из фотографов-профессионалов и запутался ремнем фотоаппарата в висевших на кителе медалях.
НАН сделал несколько шагов в сторону мавзолея, свита засеменила следом. Женщины, сохраняя дистанцию, так же продвинулись к усыпальнице, увязая каблуками туфлей в песке, обдирая с них лак и кожу о мелкие камни. НАН молчал. Он внимательно читал Ильяса Есенберлина, «Кочевники», «Жестокий век». Отдельные картины из этих произведений проплывали в его голове.
«Кто знает о Джучи-хане? Кто помнит его? Специалисты и знатоки истории, да несколько семей чабанов пасущих поблизости скот. Его Великого отца, завоевавшего пол мира, знают все, его Великого сына Батыя, пытавшегося сохранить империю деда и побитого славянами, знают многие»,– думал НАН,– «Великая Золотая Орда превратилась в прах, Великие Завоеватели превратились в прах. Неизвестна даже могила Чингисхана…».
«Можно войти внутрь мавзолея»»– перебил его мысли Григорий Петрович.
«Балабол», – подумал НАН, но приветливо улыбнулся в ответ.
Неспешными шагами он двинулся к мавзолею. Выражение лица оставалось непроницаемым.
«Хорошо, что утром ребята выгнали из мазара лошадь»,– подумал начальник милиции. Как бы читая его мысли, Нестор Дмитриевич внимательно, прищурив глаза, посмотрел на него и незаметно погрозил пальцем.
Свита топталась на месте, сохраняя дистанцию. НАН обходил мавзолей вокруг. На южной стене на уровне примерно полутора метров от земли внимание его привлек отчетливо видимый след человеческих пальцев на обожженном кирпиче. Рука древнего мастера скользнула по ребру кирпича и, размазав мягкую, не обожженную ещё в тот момент, глину, оставила два отчетливых следа. Прошли века, нет того мастера, неизвестны его потомки, а след пальцев сохранился в стене. Может развалиться и это сооружение, но будет лежать среди степи кирпич, которого касалась эта рука.
НАН на секунду задержался, прикоснулся своей рукой к кирпичу со следами руки мастера и продолжил путь. Никто из свиты не заметил короткой остановки НАНа, скрытого от них стеной, только Нестор Дмитриевич успел сделать снимок.
Память вернула начальника милиции в далекое детство, когда НАН завернул за южную стену. Но вспомнил, как десятилетним мальчишкой привозил его сюда отец. Как, так же как сейчас НАН, обходил он мавзолей, и как увидел в стене, на уровне своих глаз на кирпиче, след руки человека, державшего его столетия назад, как поразило его это открытие. А еще, стоя именно у этого кирпича, поднял он тогда с земли голубого цвета полупрозрачный камень, какими был украшен тогда купол, и так и держал его зажатым в руке все время, и немалое, пока не приехал домой. Где же сейчас этот камешек? Говорят, такими был украшен весть мавзолей. А ещё говорят, что нельзя ничего брать с могилы…
НАН вышел из-за стены, направился к входу в мавзолей, ненадолго задержавшись у него, решительно шагнул в темный проём. Свита собралась в кучку вокруг Григория Петровича, который рассказывал об Уйтас-Айдосе. О том, что почти на самую поверхность выходит здесь артезианская вода, что построен отсюда до горняцкого города и поселка водопровод и люди пьют эту чистейшую и вкуснейшую воду.
* * * * * *
НАН стоял над могилой сына Великого и отца Великого, склонив голову. Эту поездку он затеял не случайно. Пришло время принимать решение. Медлить дальше нельзя. Кругом разброд и неопределенность. Великая страна Союз Советских Социалистический Республик развалилась на куски территорий. Все старания НАНа, договорится с лидерами этих территорий о сохранении государства, ни к чему не привели и вряд ли дадут желаемый результат в обозримом будущем. «Все сволочи захотели стать ханами»,– с раздражением сказал он неожиданно для самого себя в слух. Голос внутри мавзолея прозвучал глухо. НАН вздрогнул и оглянулся.
«Слава Аллаху, один,– подумал он и, усмехнувшись, продолжил рассуждать сам с собой. – Вот именно, один! Нет преданных помощников. Старая партийная элита разобщена. На памяти одного поколения партработников развенчали культ личности, строили развитой социализм, обещали через двадцать лет построить коммунизм, догнать и перегнать Америку, а породили «застой». Потом перекраивали тот же социализм на социализм «с человеческим лицом» и лихо начали Перестройку. Во всех этих глобальных программах присутствовала главная тема – забота о человеке труда! Была Продовольственная Программа и по-прежнему пусты полки магазинов, была Программа «Жилье 2000» и мощнейшая в мире строительная индустрия стоит на коленях, семь лет назад начали бороться с пьянством и за эту «семилетнюю воину», вырубив виноградники и закрыв часть вино-водочных заводов, потравили кучу народа суррогатами. Ввели войска в Афганистан – буйно расцвела наркомания. Упала рождаемость, снизилась продолжительность жизни. Одна «Павловская» реформа по своим последствиям в кратное количество раз хуже последствий страшной войны, через сорок лет после которой вновь введена карточная система распределения. Сейчас только откровенный циник или дурак, может звать под знамена Компартии. Партия скомпрометировала себя в глазах, как простых людей, так и её лидеров. Нужна другая объединяющая сила, другая свежая идея.
Другого выхода нет, сохранить личную власть можно только через сепаратизм. Казахстан должен стать независимым государством. Но как? Северные его области исконно русская территория, Сибирская казачья линия Уральск, Актюбинск, Павлодар, Кустанай, часть Карагандинской области, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, а там и Семиречье, Талдыкурган. На Север – вплоть до Целинограда. А Целиноград почти – географический центр Казахстана. Остаются Атырау, Мангыстау, Джезказган, Тургай и Кызыл-Орда, часть Карагандинской и Кокчетавской областей, несколько районов Целиноградской. Южные области Чимкент, Джамбул всегда тяготели к Узбекистану. Если на Севере от 80 до 50 % населения – русские, то на Юге много узбеков. Компактно и в разброс живут на просторах Казахстана люди разных национальностей: украинцы и татары, белорусы и молдаване, греки и немцы, таджики и уйгуры, дунгане и кавказцы, корейцы и евреи. Кого только нет. А если и они захотят, кто государственности, кто автономии?
На ум зачем-то пришли слова из стихов бывшего секретаря Джезказганского обкома партии Какимбека Салыкова: «У меня два крыла – сын и дочь…». Жаль, нет сына. Вот, у Джучи был. А мне все делать самому, на зятьев надежды нет. Да и где они, зятья? Не родила Сара сына…
Всё-таки, как быть? Без государства нет власти, без власти нет государства. Государству быть! Каким быть государственному устройству? Социалистическая идея дискредитировала себя. Значит, государство будет буржуазным. Народ клюнет на приманку создания первоначального капитала. Каждый будет полагать, когда он станет собственником, то сумеет приумножить свое состояние и имущество. Сумеют это немногие, но несколько лет пройдет, значит, время будет выиграно.
Государство должно быть национальным. До поры, до времени это надо скрывать. Это стратегическая перспектива. Надо формировать национальную буржуазию, хотя по большому счету буржуазия не имеет Родины и национальности, она там, где ей хорошо. Начинать следует с административно-управленческого аппарата, выдвигая на ключевые посты национальные кадры. В первую очередь в силовых и правоохранительных структурах, местных органах власти. Прав был Иосиф Виссарионович: «К кадрам надо относиться бережно, как относиться садовник к облюбованному им дереву».
Повезло тем лидерам, где территории мононациональны. Мне надо вести себя очень осторожно. Надо избавиться от критической массы иных народов, но при этом власть не должна быть замешана в каких-либо гонениях и преследовании по национальному признаку. Все должно произойти как бы само по себе. В общении, в прессе следует использоваться слова «казахстанцы» и «казахстанский». Эти слова на время должны заменить слова «казахи» и «казахский». Государственным языком надо объявить казахский, но с постепенным переходом на него в течение 2-5 лет. Умные администраторы и управленцы не коренной национальности или будут преданно служить, или поймут и уйдут сами. А русский будет иметь статус языка межнационального общения. Конечно, пока вряд ли сразу удастся поднять казахский язык до уровня государственного. Он жив только в сельской местности и на бытовом уровне. Однако, грамотно играя на национальных корнях казахов можно, одновременно, превратить это фактор в «страшилку» для других народов. Первыми побегут те, у кого нет крепких корней в Казахстане, и только потом те, кому есть что терять. Жаль, что уедут специалисты и хорошие работники, а останутся старики и люмпены. Но старики быстро вымрут, а люмпены станут дешевой не квалифицированной рабочей силой.
Новое государство должно иметь новую столицу. Идеальным местом для столицы в географическом плане является Целиноград. Это центр Казахстана. В столицу переедет аппарат государственного управления. Каждый привезет семью, потом, как это заведено у казахов, из аулов потянуться родственники. Пройдет немного времени, и население столицы станет преимущественно коренным. Новой столице – новое название. Прежнее Акмола не годиться. Переводится как «белый мула», «белый старик» или, ещё хлеще, «белая могила». Кому могила? Мне? Казахстану? Акмола, Акмола… На «Столичной» водке казахстанского разлива была этикетка с надписью «Астана»… Вот и название города: Астана – что значит Столица!!!
Вот идеальная схема. В Северные области, в аппараты управления, милицию – национальные кадры, за ними, как нитка за иголкой многочисленные голодные родственники. Пусть обустраиваются и одаривают своих благодетелей. Казахи одаривать умеют. Переселенцев из Монголии тоже на Север…
Центр, Центр… Центр Казахстана все-таки здесь рядом, в Улы-Тау. Здесь подняли на ковер и объявили ханом Аблая, объединителя джузов. До Улы-Тау подать рукой, всего два коротких перелета. Одна посадка на мазаре Алаша-хана, а следующая Улы-Тау. Время для принятия решения истекает….»
НАН круто развернулся и вышел из мавзолея. Выражение лица его было по-прежнему безмятежным. Он умел скрывать свои мысли и чувства. Об истиной цели его поездки знали единицы, и среди них стоящий среди сопровождающих мужчина, лет 40, с бесцветным, не запоминающимся лицом, ни слова не понимающий по-русски.
НАН третий день совершал с Сарой, этим мужчиной и личной охраной поездку по Казахстану: Талдыкурган, Атырау, Мангыстау, Актобе, Кокшетау, Каркаралы, Караганда, Джезказган. Везде короткие протокольные встречи с руководителями, общие, пустые разговоры… Недопонимающие взгляды: «Прощание? Проверка преданности?..» На вопросы к Саре Алпысовне или охране, что за мужчина прилетел вместе с НАНом, молчание, а слишком навязчивым, короткий невнятный и односложный ответ: «Гость…».
* * * * * *
НАН шагнул навстречу сопровождающим. Григорий Петрович напрягся и как только он приблизился, продолжил прерванный разговор.
«Мавзолей Жоши-хана (он специально произносил имя на казахский манер), памятник начала ХIII века, а рядом, – он простер руку на восток в сторону реки Сара-Кенгир.– Памятник ХI-ХII века Домбайаул. Это более древний казахский памятник. Он недалеко, видите?»
«Хитрец! – подумал НАН.– Ему ли не знать, что тогда казахов еще в помине не было. Далеко пойдет, если так же будет «любить» эту землю и этот народ».
Григорий Петрович продолжал: «А дальше, километров восемнадцать, Алаш-хан. Это конец ХIII века. Говорят, что при его постройке от него до Жоши-хана живой цепочкой стояли люди и передавали, как надо положить следующий кирпич. Но Вам надо осмотреть Домбайаул!» Вдруг решительно заключил Юрченко.
Все вокруг одобрительно загалдели. НАН на долю секунды замешкал с ответом. Он вообще, внешне, вел себя в этой поездке как в отпуске, никуда не спешил, отвечал неторопливо, с расстановкой. Этой доли секунды хватило, чтобы уловить незаметный кивок головы старшего офицера охраны. Как никак, но предложенный осмотр не предусмотрен программой, а личная безопасность дело не шуточное!
«Хорошо, – согласился НАН.– Давайте посмотрим. Как мы это сделаем?»
«Есть машина. Поедем», – то ли отрапортовал, то ли пригласил Григорий Петрович. При обсуждении программы пребывания высокого гостя он настоял, чтобы машина охраны, так, на всякий случай, находилась у мавзолея. И вот этот случай наступил, вернее он сам его создал, не упустив возможность показать себя гостеприимным и предусмотрительным хозяином.
Затонированный «Ленд Крузер» подкатил почти бесшумно и НАН, жестом руки, пригласив, дам и «хозяина», шагнул в распахнутую дверь. Лицо старшего офицера охраны исказилось в гримасе. Такого поворота событий, что НАН уедет без охраны, он допустить никак не мог. Это могло стать концом его карьеры.
Уловив ситуацию, начальник милиции махнул рукой своему водителю, и Игорь бегом кинулся к стоящему на приличном расстоянии «Ниссану». Любченко проворно усаживался на переднее сидение Крузера, а «Ниссан» мчал к вышедшему из оцепления старшему офицеру и туда же бежали сотрудники охраны, расторопные старики-фотографы и полковник Викторов.
«Крузер» тронулся с места в сторону Домбайаула, а «Ниссан» остановился на его месте. Он был как «Запорожец» с двумя боковыми дверьми. В правую дверь юркнули и разместились на заднем сидении два фотографа, на переднем пассажирском сиденье разместился с фотоаппаратом в руках полковник Викторов.
«Игорь, я сам»,– крикнул начальник милиции и сев на освободившееся место водителя отжал педаль сцепления, но тронуться с места не успел. В проёме еще распахнутой пассажирской двери уже стояли два офицера охраны.
«Полковник, освободите немедленно место. Вам здесь нечего делать»,– четко произнес старший офицер.
«Да, но…» – промямлил Викторов.
«Никаких «но». И там вам тоже нечего делать»,– четко обрубил офицер. «Выходите немедленно, или у вас будут боль-ши-и-и-е неприятность»,– пообещал он и положил руку на погон полковника.
Викторов моментально выскочил из машины и, съёжившись, быстро пошел в сторону оставшихся у мавзолея начальника КГБ и молодого мужчины, а на переднем сиденье друг на друге разместились офицеры охраны.
«Ниссан» рванул с места. Фотографы, на заднем сиденье вольготно разложив свои сумки, перезаряжали фотоаппараты. Один офицер, теперь уже бывшего 9-го Управления КГБ СССР, сидящий на коленях другого, согнув голову, упершуюся в крышу, пытался держать в поле зрения «Крузер», другой, зажатый между сидением и спиной коллеги, багровея от натуги, хватал ртом воздух.
К мазару Домбайаул машины подъехали одновременно. Выглядел он не так величественно, но в этом и была прелесть. Григорий Петрович поступил очень мудро. Мавзолей Жоши-хана подавлял своим величием, а здесь, на развалинах из дикого камня всюду было солнце, ветер и степь. Ковыль, как океан, колыхался на ветру, не только окружив развалины, но и рос на его камнях. На лице НАНа появилась улыбка, в глазах мелькнул огонек. Сын кочевого народа он на генном уровне до безумия любил степь, простор, свежий воздух. А еще он любил в меру изворотливых и преданных ему людей.
«Спасибо, Григорий Петрович!» – произнес НАН, неловко карабкаясь по ковыльным кочкам у подножия развалин. Ему хотелось прикоснуться к стене, сложенной из дикого камня. Эти камни, в отличие от кирпича в стене мавзолея, не хранили след руки, но это были камни его степи. НАН оступился и наклонился назад. Григорий Петрович ловко поддержал его под руку. Тот же, опершись на эту руку, удержал равновесие и, не сказав ни слова, шагнул вперед. «Мне сейчас нужны такие руки», – подумал НАН.
Сара и Любовь Григорьевна, утопая каблуками в земле, пытались подняться по кочкам к мазару, но убедившись в безрезультатности этой попытки, остановились у подножия холма. Фотографы и охрана демонстрировали профессионализм в исполнении своих обязанностей. Григорий Петрович с преданным лицом зорко следил за НАНом. Водитель «Крузера» протирал стекло, подполковник Фролов, сидя за рулем, грелся на солнышке.
«Каждый занят своим делом, – рассуждал НАН, положив руку на камни и закрыв глаза.– Философ, Политик и Государственный деятель решает свои проблемы и проблемы народа. Власть заботится о своем Лидере, охрана Его бережет, пресса и историки восхваляют, народ работает во благо государства и свое. Он открыл глаза и посмотрел на водителя «Крузера», работает ли? Работает. Вот и милиция не дремлет». НАН улыбнулся. Решение созрело окончательно. Никакого ханства, Ханство – это бред, вчерашний день, дикое Средневековье. Республика Казахстан – вот модель государственного устройства страны, его страны.
Мысли вернулись к Домбайаулу. «Кто похоронен здесь? Завоеватель или защитник? Воин государства кара китаев пришедший покорить эту степь, или свободолюбивый степняк? Какой народ воздвиг этот мазар? Не все ли равно. Все эти народы, пришедшие сюда покорителями, затем покоренные другими и создали мой народ. Все они прародители казахов. Значит прав Григорий Петрович, это казахский памятник, так же, как и мазар Жоши-хана и Алаша-хана. Вся эта степь, и Каркаралы и Улы-Тау – казахский памятник».
НАН, со страховкой охранников, бодро пошел по кочкам к машине. Пора ехать, решение принято. Назад ехали, непринужденно болтая: НАН с Григорием Петровичем, Сара с Любовь Григорьевной.
Во второй машине болтали только фотографы, вернее тот из них, что сидел на переднем сиденье. Второй на заднем, зажатый широкоплечими охранниками, обиженно молчал.
«Я бы стал миллионером, не сожги негативы фотографий Леонида Ильича, – сокрушался фотограф. – Кто бы мог подумать, что Брежнев станет Генеральным секретарем ЦК. Не решительный, я бы сказал, трусоватый был он в Казахстане. Симпатичный, правда, мужчина и бабник отчаянный. Этого не отнимешь. А как политик, или тем более, хозяйственник, полный ноль. А как взлетел, а, сколько лет правил…!».
Автомашины подъехали к мавзолею. Ожидавшие их четко подметили произошедшие изменения в настроении НАНа. Он был возбужден, весел и разговорчив. Незнакомец повернулся лицом к мавзолею и на Восток и, поднеся ладони к лицу, пробормотал короткую молитву. «Аминь!» – сказал он вслух и, обмахнув лицо ладонями, первый пошел к вертолету. Все последовали за ним и быстро разместились в салоне. Винт машины поднял клубы пыли и оторвал её от земли. Развернувшись над мавзолеем вертолёт, завис над Домбайаулом и, взял курс на северо-запад. Сотрудники охраны, не попрощавшись, дружно хлопнув дверями «Крузера» уехали на юг.
«Вольно! Разойдись!» – скомандовал Фролов.
«Куда разойтись?» – со смехом спросил начальник ГАИ Махмут Укибаев.
«У каждого в жизни свой путь, Маке!» – прозвучало в ответ. Эти слова вряд ли кто услышал. Все, одновременно, делились впечатлениями, при этом никто никого не слушал. Выговорившись, усталые сотрудники побрели на берег реки, где, накануне вечером разбив лагерь, готовили пищу, кушали и спали. Лежа у костра смотрели в ясное ночное небо и размышляли, кто в слух, кто молча.
Утро заканчивалось, близился полдень.
* * * * * *
Очередной перелет произошел быстро. Настроение НАНа, его возбужденность, веселость располагали к разговорам. В салоне почти все, за исключением силовиков и Гостя, что-то кричали в ухо соседям. Взлет–посадка. Вот и мавзолей Алаш-хана. Кто этот таинственый Алаш-хан до сих пор достоверно незнает никто. Этот мавзолей построен позже, чем Джучи. И удивительная вещь, казахи, помнящие до седьмого колена свою родословную, не сохранили достоверные воспоминания об Алаш-хане, жившем в 15 веке, по историческим меркам всего «вчера».
Из вертолета выходили почти в той же последовательности. Серые безликие милиционеры у мавзолея. За их спинами десяток любопытных из припаркованных на автотрассе, проходящей в десятке метах от мавзолея, автомашин. Памятник конца ХIII века, мавзолей Алаш-хана, с трех сторон окружен современным мусульманским кладбищем. Современным местным баям воздвигнуты мазары в соответствии с их общественным и служебным положением. Вот мазары из огнеупорного кирпича, применяемого в металлургическом производстве, а вот из кислотоупорного кирпича. Все с медеплавильного завода. Вот на мазаре изображена чаша, обвитая змеей, значит, похоронен врач.
Не успел смолкнуть двигатель вертолета, как Григорий Петрович начал давать пояснения. НАН, из вежливости немного послушав, в тот момент, когда гид на секунду замолк, вбирая в легкие очередную порцию воздуха, перебил его:
«Григорий Петрович, дорогой, ты же сам говорил, что строители мавзолея пытались скопировать его с Жоши-хана? Давай пару минут на осмотр и летим дальше. Мы уже вышли из графика, а в Улу-Тау нас ждут».
Григорий Петрович радостно закивал головой. Вместе с ним одобрительно загалдели и закивали головами и окружающие. Молчали и не кивали только фотографы, они с увлечением выполняли свою работу.
В салоне расселись на привычные уже места и, не успевший еще до конца остановиться, винт вертолета, заработал вновь, подняв клубы пыли, понес машину в сторону Улу-Тауских гор.
«Значит, решился все-таки объявить себя ханом, – думал Григорий Петрович, глядя на степь в иллюминатор. – Кем же в этом ханстве будем мы? Нойоны? Наместники? Губернаторы? И будем ли?»– вздохнул и посмотрел на НАНа. Взгляды их встретились. Вертолет заходил на посадку возле села Уты-Тау. В нескольких километров от него, там, где из ковыльной степи появились подножия Великих Гор, сдерживаемая цепью сотрудников местного районного отдела милиции и приехавших им на помощь сотрудников областного УВД, замерла, подняв в небо головы, толпа жителей райцентра. В первых её рядах находились работники облисполкома, председатели соседних райисполкомов, директора совхозов, аксакалы. Почти в центре огромной площадки – квадратная фигура председателя Улы-Тауского райисполкома Досанова, а рядом с ним, меньше ростом с несоразмерно большой головой и такой же громадной фуражке на ней, в больших очках, щупленький начальник местной милиции по прозвищу «Пиночет». У самого подножья была видна белая коробка небольшого строения, а за ней, удерживаемая под уздцы джигитом в национальном костюме, белая лошадь. Она была единственной, кто не задрал голову вверх.
Побеленное строение было предметом особой гордости Григория Петровича и последней произведенной Домостроительным Комбинатом областного центра блок-секцией типового туалета. В ходе подготовки визита НАНа на заседании оперативного штаба облисполкома возник нешуточный вопрос, что, если после перелета НАН захочет по малой нужде? Вопрос житейский. Но как это сделать в степи, тем более в свите дамы? А если физиологическая потребность возникнет у Сары Алпысовны? Кто-то из членов штаба предложил идею с блок-секцией, которую Григорий Петрович реализовал как собственную. Блок-секцию срочно изготовили на ДСК, оснастили импортным унитазом, обложили кафелем, накрыли сверху рифленым металлом, вывезли на панелевозе и, установив у подножия Улы-Тауских гор, сдали под охрану местной милиции. «Пиночет» лично проверил и принял объект залив в смывной бачёк ведро воды и дернув за ручку. Водопровода в степи, естественно, не было, вода из бочка понемногу капала в унитаз, а из него под блок-секцию на песок, и теперь у майора милиции Сыздыкова появилась дополнительная головная боль, содержать туалет в постоянной готовности, закрепив за ним отдельного сотрудника.
Прибывшие вышли из вертолета. В честь высокого гостя солисты ансамбля «Улы-Тау», в ярких национальных костюмах, исполнили под домбру песню на казахском языке. К НАНу подвели белую лошадь, самую красивую и самую смирную в округе, придерживаемую за узду с одной стороны юношей, с другой аксакалом. Он шагнул навстречу, забрался в седло. Ликующая толпа замолкла, все затаили дыхание, понимая, что присутствуют при историческом событии. «Пиночет» напрягся, впился глазами в НАНа. У стоящего рядом с ним Досанова задергался правый глаз. Лошадь, почуяв, что поводья ослабли, побрела в сторону белого строения, к которому успела привыкнуть за время ожидания, склонила голову, пытаясь через удила ущипнуть засохшую траву. Стояла такая тишина, что было слышно, как стрекочут кузнечики и шумит ветер. НАН замер в седле. Он не видел никого вокруг, как заправский актёр, изображая размышление. Лицо его было похоже на «Мыслителя» Родена.
Миг, и проворно соскочив с лошади, НАН пошел в сторону вертолета. Толпа зашумела и подалась за ним. У «Пиночета» от напряжения отвисла челюсть. Он силился, что-то крикнуть своим сотрудникам, но не мог этого сделать. Толпа теснила милиционеров к винтокрылой машине. Двигатель взревел, и это на мгновение остановило людей. Машина поднялась в воздух, толпа кинулась в след. То, на что надеялись эти люди, не состоялось. Белый ковер из верблюжьей шерсти с национальным орнаментом, лежащий на камнях за блок-секцией, оказался невостребованным. Казахстан не стал ханством, а НАН – ханом. Он выбрал другой путь. Его страна будет республикой, а он войдет в историю, как первый Президент первого Казахского государства. Тем более что первый хан уже был. НАН просто не захотел быть вторым.
В салоне вертолета все, кроме незнакомца, выражали восторг по поводу произошедшей встречи с «народом». Особый же восторг вызвало то, с какой ловкостью НАН обращался с лошадью. Фотографы уже купались в лучах славы от снимков НАНа на белом коне, не догадываясь, что эти снимки, впрочем, как и остальные этой серии, при их жизни не будут опубликованы.
НАН в мыслях был уже в Алма-Ате, выстраивал очередность действий по созданию государства. Решение принято, впереди работа по его осуществлению. При этом, как умный и дальновидный политик, НАН будет продолжать выступать за восстановление в том или ином виде развалившейся империи. Но ближняя цель, создание и укрепление буржуазно-национального государства Казахстан, им определена и с этой минуты уже осуществляется.
А в это время начальник Улутауской милиции Сапаржан Сыздыков зашел в блок-секцию, закрыв за собой на шпингалет дверь, справил малую нужду и дернул ручку унитаза. Вода, с шумом вырвавшись из бочка, как в губку ушла в песок. Сапаржан вышел наружу. Несколько минут назад запруженная народом степь была пуста. Рядом с блок-секцией бродила забытая в суете белая лошадь, которой не суждено было войти в историю, а из-за камней виднелся край белой кошмы. Главный милиционер Исторического казахского района отпугнул взмахом руки лошадь, поднял с земли ковер, намереваясь отнести его в стоящую вдалеке служебную автомашину. Потом бросил его на землю. Зачем нести на себе, когда можно подъехать на машине. Ему нестерпимо хотелось выпить.
На следующий день в прессе появилось сообщение: «Н. А. Н. завершил трехдневную рабочую поездку по Казахстану, в ходе которой посетил ………………… и провел рабочие встречи с руководителями областей, представителями общественности». Так тихо и незаметно рождалась национальное государство.
* * * * * *
Ровно через год Казахстан, последним из бывших Союзных Республик, ввел свою валюту – тенге. А еще через три месяца, к годовщине декабрьских событий в Алма-Ате, ставших теперь государственным праздником суверенного государства, на стол НАНа легла папка с представлениями на присвоения генеральских званий ряду руководящих работников МВД Республики. В числе представленных к званию «генерал-майор милиции» и полковник Викторов Н.Д. НАН, прочитав текст, отложил представление без подписи. «Какой, из фотографа, генерал?»– сказал он Сулейменову.
В тот же день, спустя час, Министр Внутренних Дел подписал приказ о присвоении сорокалетнему подполковнику Фролову М.М., досрочно (на две недели!), звания «полковник милиции». Все было прозаично. Спустили разнорядку, где УВД Джезказганского облисполкома представляло одного сотрудника к досрочному присвоению звания. А Джезказганские кадровики или не успевали или не хотели напрягаться. Представление же на присвоение Фролову звания полковник в срок 31 декабря уже лежало в Министерстве. «Вот ему и присвоим полковника досрочно!» – мудро рассудили в Министерстве. И до Фролова и после, в городе Сатпаеве, ранее звавшимся Никольским, такого звания никто еще никто не получал.
* * * * * *
Спустя сутки республиканских телевизионных новостях «Хабар» прозвучал фрагмент выступления президента. Речь шла об итогах работы Комитета по борьбе с коррупцией. В эфире НАН клеймил позором коррумпированных чиновников и называл конкретные имена.
После передали прогноз погоды. По всему Казахстану сухо и жарко. Впрочем, какая еще может быть в Казахстане погода в конце мая?
* * * * * *
Молодое государство остро нуждалось в деньгах. Административно-управленческий аппарат, сотрудников силовых структур надо было на что-то содержать. Все надо было создавать заново: новые государственные структуры, банковскую систему, свою армию и многое другое. А средств едва наскребли, чтобы заказать в Германии национальную валюту тенге. Как ни урезай и без того скудный бюджет, без самых необходимых расходов все равно не обойтись. Экономика в полном упадке, предприятия, заводы и фабрики, шахты и электростанции на гране полной остановки. Советники советуют каждый своё. Разумных решений по выходу из кризиса нет. Погруженный в свои мысли НАН, сидя за рабочим столом и не слышал, что говорил ему советник по национальной безопасности Сулейменов. Мысли были все о проблемах государства. Как правильно поступить? Чей опыт перенять? Иного опыта, кроме опыта большевиков, НАН не знал. Сейчас же надо было от него избавляться, и «открываться» иностранным капиталам. «Через тридцать лет народ обновляется», – провозгласил президент пословицу как национальный лозунг.
НАН поднял трубку телефона и пригласил управляющего делами президента Пака. Сулейменов, только сейчас понявший, что НАН его не слушает, смолк.
«Скажи, Владимир Васильевич, «Самсунг» согласен с нашими условиями по Джезказганскому горнометаллургическому комбинату?» – спросил он.
«Да»,– односложно ответил Пак, сохраняя лицо непроницаемым.
Как бы читая его мысли, НАН сказал: «Что же, будем считать, что вопрос решен. Это временная мера».
* * * * * *
Тамерлана Угрюмова решение о передаче горнометаллургического комбината южно-корейскому капиталу не застало врасплох. Он уже был к этому готов и предпринял определенные шаги. Накануне событий опытный и дальновидный семидесятилетний кавказец назначил главным инженером комбината директора самого современного рудника, и что немаловажно, корейца по национальности со звучной фамилией Квон. Сделал Угрюмов и другие важные шаги. Во время обсуждения с НАНом пути возможного выхода предприятия из кризиса он четко доказал, что работающий на полную мощность комбинат в течение всего нескольких лет поставит объемы шламов, достаточные для создания золотого запаса страны. Что уж говорить о том, что еще они поставляют на экспорт медь. Надо всего лишь не год-полтора «заморозить» долги предприятия. Хотя честно, по мнению Угрюмова, это были вовсе не долги, а хаос взаимных неплатежей последних лет. Комбинат может быть прибыльным.
Понимая, что правительство может не внять его доводам, Угрюмов вытащил из колоды козырного туза. Во время последнего приезда НАНа, он организовална медеплавильном заводе экскурссию по закрытому производству – цеху редких металлов. Цех этот был предусмотрен проектом и построен на заводе в средине восьмидесятых годов прошлого века. Он имел два назначения: производил перренат аммония и изотопа осмий-187. Перренат аммония, исходный продукт для получения одного из самых тугоплавких металлов, рения, продавали за валюту на Кипр. Осмий, редкоземельный металл, в природе в чистом виде вообще не существует. Здесь почти десять лет совершенствуя технологию и, получая в мизерных количествах из газов металлургического производства его изотоп, запаивали в пробирки и сдавали в спецотдел комбината. Продукт этот пока применения не имел и производился в СССР на всякий случай. Пусть будет. При необходимости не надо будет догонять потенциального противника. Работало в цеху менее ста человек, доходы от реализации перрената аммония давали большие деньги, а затраты по производству изотопа осмия были ничтожны и, естественно, никак не отражались на себестоимости, производимой комбинатом продукции. И рений, и осмий с печными газами вылетали в трубу медеплавильного завода. Цех, существование которого было просто невозможно без основного производства, работал в круглосуточном режиме и за все годы своей произвел всего около килограмма продукта. С развалом Союза спецслужбы ряда иностранных государств стали проявлять к осмию повышенный интерес. Тут еще случилось так, что около ста граммов его было вывезено за рубеж и, как полагается, случился несчастный случай и осмий был арестован одним из Швейцарских банков в качестве залога. Возникло предположение, что осмий производился под несостоявшуюся программу «Буран» и сейчас представляет интерес для американцев, в частности НАСА. Убежденность в этом возросла, когда стало известно, что американцы в лабораторных условиях, потратив на это 130 тысяч долларов, получили один грамм изотопа осмий-187.
В итоге, решение НАНа было поистине Соломоновым. Джезказганское месторождение он отдал «Самсунгу», при двух важных условиях: содержащие драгоценные металлы шламы они обязаны были передавать Казахстану по мере их производства бесплатно, тогда как цех редких металлов переходил в собственность государства. Говорят, что было еще и третье условие. Но мало ли что говорят…
В декабре 1995 года Угрюмов стал директором Государственного Республиканского предприятия «Жезказганредмет». За полтора месяца до этого Квон стал техническим директором горнометаллургического комбината, перешедшего под управление германского филиала южно-корейской корпорации «Самсунг».
* * * * * *
Его давно уже перестали звать НАН. Не то, чтобы прозвище не прижилось. Просто он сам выбрал себе более достойное и подходящее его статусу. Однажды, узнав о своем прозвище, он наложил на него запрет. «Я вам не кусок хлеба, а отец родной!»– раздраженно и категорично заявил он советнику Сулейменову, который сам по возрасту годился ему в отцы. Так, с подачи его самого, вначале ближайшее окружение, а за ними и чиновники рангом ниже, стали называть его Папа. НАНу это нравилось. Почему бы и нет? Был же Хозяин, он же Отец Народов. Теперь и у казахского народа есть свой Папа!
Глава вторая. Размышления, за которыми последуют воспоминания.
Сотрудники возвращались после выполнения задания на прибывшем за ними автобусе. Впереди на «Нисане» Игорь вез Фролова и Укибаева. Махмут дремал на заднем сиденье. Фролов, казалось, подремывал периодически то, закрывая то, открывая глаза.
Не такой уж и безжизненной была эта степь, как могло показаться на первый взгляд. Вон, в трех километрах от Уйтас-Айдоса, видна родовая зимовка акима города Сатпаев Байдалы Даулетова. Она обозначена на самых подробных картах Генерального Штаба Министерства Обороны, как развалины саманной зимовки. Да, были развалины, рядом с которыми родители Даулетова, уже на пенсии ставили летом юрту и пасли скот. Каждая очередная долгая зима, проведенная в квартире благоустроенного дома поселка Рудник, была для них всего лишь подготовкой к очередному выезду на джайляу. Старики считали, если пережили зиму, значит, аллах подарил им еще один год жизни. Ну, разве можно умереть в своей стихии среди степи, когда пьешь майский целебный кумыс, пьянея от этого напитка и свежего воздуха! Когда вечером засыпаешь в юрте безмятежным сном младенца, а утром, совершая намаз, видишь, как встает солнце! А когда оно, обласкав и согрев своими лучами остывшую за ночь степь, начинает нещадно палить, приоткрыв в юрте шанрак и лежа в прохладе на кошме и подушках, обдуваемый ласковым ветерком, пить горячий ароматный чай! Байдалы Даулетов, еще будучи директором автобазы Облпотребсоюза, восстановил дом своих далеких предков и превратил его в родовую зимовку. Раньше рядом, в 7 километрах, ставил юрту для родителей начальник ГАИ Махмута Укибаева. Но отец его умер, а мать, состарившись и став немощной, доживала свою старость у него в квартире. Из скота у Махмута остался только табун лошадей, который сам пасся в степи, и который надо было периодически проверять. Построить зимовку он, конечно же, мог, но не стал. Статус сотрудника органов внутренних дел не позволил этого делать. За спиной, где остался Уйтас-Айдос, в нескольких километрах от мазара Джучи-хана второй год, распахав землю и выкопав фанзы, сажает бахчу кореец Алексей Нам, используя для полива артезианскую воду. Направо, в сторону поселка Северный, в урочище Караган-сай стоит зимовка директора автотранспортного цеха комбината Абекена Мамахова. Про этого изворотливого и хитрого человека ходили легенды! Это про его табун лошадей в шутку говорили, что, если лошади идут домой на согнутых ногах, да еще по дну глубокого сая (овраг, каз.), то это, точно, лошади Мамахова. Только его табун выдрессирован, самостоятельно скрываться от учета и налогов! Абекен держался за хозяйство не из-за бедности и уж тем более не из-за жадности. Он, работая, как вол, на производстве, и требуя этого же от других, не смог оторваться от образа жизни своих предков. Дав своим детям и всем многочисленным племянникам высшее образование, в быту он оставался дремучим средневековым патриархом и требовал беспрекословного подчинения и почитания. Ему приписывались бесчисленные, с глубоким житейским и философским смыслом, высказывания и выражения. Рассуждая о жизни, Абекен заявлял, что человек приходит на этот свет голым, беззащитным и со слезами. Так же он и уходит из него, оставив все и оплакиваемый родными и друзьями.
«Празднуем, радуемься жизни и веселимся мы все вместе, а умирает каждый в одиночестве!» – любил повторять аксакал в назидание молодым.
«Умирает каждый в одиночестве!» – вертелись в голове Фролова слова. «Кто это сказал? Абекен, или кто-то из философов? А впрочем, разве Абекен не философ?»
Машина пылила по степной дороге. Со стороны могло показаться, что Фролов спит. Но он просто сидел с закрытыми глазами и размышлял. Мысли уносили его в далекое прошлое и возвращали в день сегодняшний. Он пытался заглянуть в будущее и, ничего там не разглядев, возвращался опять, то в детство, то в сегодняшний день. Чуть больше года назад в далекой Москве произошло нечто необъяснимое, имеющее свое продолжение. Здесь, в глухой провинции и августовский путч, и Беловежское соглашение, и сложение затем Горбачевым полномочий Президента СССР не воспринималось всерьез. Все это большинству людей представлялось как нелепый бред или кошмарный сон. Вот настанет завтра, и все встанет на свои места. Но нет, не встало. И, вроде, уже никогда не встанет. Медленно, год с лишним, доходило это до сознания людей. И вот дошло. Сегодня. По крайней мере, до Фролова. Те умники, которые спустя много лет будут говорить, что они все заранее знали и предвидели, просто блефуют. Такого исхода не знал и не мог предположить никто. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Шеварднадзе, и уж, тем более, гэкачеписты с трясущимися руками и перерожденцы-секретари в обкомах. Все перечисленные, и еще многие и многие другие, миллионы людей в громадной стране просто выжидали, наивно полагая, что там, наверху в Москве все решат правильно. Но верхи уже не могли, а низы больше не хотели. Вот и получилось, что получилось. Прав Абекен, умирает каждый в одиночку.
Создаются и рушатся империи, а здесь, в степи, все остается неизменным: ходит скот и дает жить пасущим его людям. Так было во времена Жошы-хана, так и сейчас. Воины Чингисхана, пройдя через эту степь, ушли в небытие. Кто остался здесь, их потомки или потомки завоеванного ими народа? А может, смешались и те и другие? Что заставляет заместителя директора ДГМК, почти советского миллионера, имеющего в центре города коттедж держать в сарае корову и дойную кобылу? Это не жадность. Это образ жизни, унаследованная от предков тысячелетняя привычка. Все это им надо для души! А что надо тебе? Огородик возле дома с грядками помидор и картошки? Пожалуй, да, но не только это… Деньги? Вон, люди шутят, что Абекен продает каждый нечетный месяц своему соседу кобылу за тысячу рублей, а каждый четный покупает её назад за ту же цену. Когда его спрашивают, за чем эта бессмыслица, Абекен отвечает, что смысл как раз есть и очень даже глубокий! Деньги в тюфяке могут просто сопреть, если их периодически не ворошить. Деньги… Их всегда и всем бывает мало. Так что же хочешь ты? Мысли вернули его в далекое детство.
Глава третья. Детские шалости.
Выражение, что мытье полов – это равномерное распределение грязи по их поверхности в этом случае явно не соответствовало действительности. Громадная тряпка из грубого мешка из-под кубинского сахара с трудом вмещалась в ведро с холодной, ломящей руки, водой, толком не отжималась и полосами размазывала грязь по полу класса. Мишка уже выбился из сил, за окнами стояла кромешная тьма. Муслима Барбасовна, сидя за учительским столом, сосредоточенно проверяла контрольную работу 5 «г» по математике. Она преподавала математику и была классным руководителем. Математик она, может, была и сильный, а вот с русским языком явно не в ладах. Слово «икс» у нее звучало как «ыгыс». Иногда, не находя нужного слова, она долго стучала казанками худых и тонких, перепачканных мелом, пальцев по классной доски. Этого было вполне достаточно, чтобы кличка «Мадам Ыгыс» затмила прежнюю «Барбосовна».
Тогда был явно не лучший день его жизни. Попался со шпаргалкой на контрольной, а на перемене, когда убегал от одноклассника, чуть не сшиб с ног Мадам Ыгыс. За эти грехи был оставлен мыть полы в классе, который школьная техничка «Швабра» категорически отказалась убирать еще неделю назад. «Хватит с меня коридоров! – категорически заявила она директору. – Большие уже, пусть за собой сами убирают!» В функции Швабры, кроме мытья коридоров двух этажей школы и младших классов, входила уборка директорской, учительской и спортзала. Но самым важным был контроль сменной обуви учеников. Этому она посвящала все дневное время, перенося мытье пола на вечер.
Как только Мадам Ыгыс заметила, что Мишка закончил мыть полы, она собрала тетради и сложила в сумку. Мишка понял, что в качестве дополнительного наказания ему предстоит их тащить. Такое уже бывало не раз. Мадам Ыгыс была дальней родственницей директора школы и временно проживала у нее. А дом директора был крайним на улице, сразу за домом, где жила Мишкина семья.
По улице Мишка и Мадам Ыгыс шли молча. Учительница налегке с полупустым Мишкиным портфелем, а он выламывал под тяжестью её сумки по очереди то правую, то левую, руки. Жаль, что контрольная по математике проходила во всех пятых классах. Волосы на голове под шапкой и спина взмокли от пота, ноги скользили по первому рыхлому снегу, нестерпимо хотелось пить. У калитки Мишкиного дома, видя, что он окончательно выбился из сил, Мадам Ыгыс забрала свою сумку. Она не забыла поделиться своими планами: «Какой ваш номыр телепон? Буду все говорить мама!»
«Сорок семь, пятьдесят семь», – честно сказал Мишка, юркнул в калитку и побежал к дверям дома. Швырнул под порогом портфель, сбросил ботинки, пальто и шапку, а перед тем, как шмыгнуть в зал, заметил сидящего на кухне за столом отца. Старший Фролов собирался ужинать. Мать Мишки была в больнице, и ужин накрывала бабушка. Отец налил рюмку водки, подцепил вилкой соленый огурчик и ждал горячее.
Подбежав к стоящему на тумбочке телефону, Мишка левой рукой снял трубку, а правой аккуратно открутил на трубке верхнюю крышку. Выхватил из выдвижного ящика отвертку, отсоединил наушник и спрятал его в карман. Так же аккуратно завернул на место крышку и положил трубку на рычаг. Посещение на летних каникулах кружка «Юный радиотехник» не прошло даром. Отступив на полшага назад, он полюбовался своей работой и остался ей недоволен. Сторона трубки, которая без наушника, предательски приподнималась вверх. Несколько раз поправил её, но вторая половина с микрофоном и шнуром все равно перевешивала. Мишка открыл выдвижной ящик и увидел в нем металлическую баночку с вазелином, быстро поместил её внутрь трубки взамен снятого наушника. После этой процедуры телефонная трубка легла на рычаги должным образом. Довольный своей работой Мишка пошел в детскую.
Фролов-старший одним глотком осушил отпотевшую рюмку и хрустнул огурцом. Перед ним, возбуждая и без того зверский аппетит, стояла тарелка с бараньими ребрышками, обжаренными до янтарного цвета, издающими чесночный запах. Внезапно зазвонил телефон. Зная, что звонить могут только ему, недовольно поморщившись, Фролов положил вилку и, хрустя огурцом, пошел к телефону. Проглотил остатки огурца, снял трубку: «Слушаю Вас. Говорите. Я вас слушаю». Немного подержав трубку у уха, недоуменно пожав плечами, положил её на место и вернулся к столу. Затем обратно придвинул тарелку с мясом, секунду подумал и налил себе вторую рюмку. День сегодня был тяжелый. В ту же секунду вновь раздался телефонный звонок. Фролов чуть не поперхнулся, сердито бросил вилку на стол и пошел к телефону. Подняв трубку и дожевывая огурец, не в силах скрыть раздражения, сказал: «Слушаю Вас, говорите же, черт возьми!». А в трубке опять была гробовая тишина.
«Говорите, что хотели?» – попросил Фролов. Тишина. Он положил трубку и остался у телефона. Аппарат молчал. Фролов вернулся на кухню, придвинул к себе тарелку и опасливо посмотрел на запотевшую бутылку. Налил третью рюмку, но пить не стал, а взял рукой ребрышко. Раздался телефонный звонок. Раздосадованный он положил ребрышко на край тарелки и, вытирая руки на ходу кухонным полотенцем, пошел к телефону. Стараясь сохранить спокойствие, сухо сказал: «Говорите, я Вас слушаю», и снова в ответ тишина. Фролов терпеливо и молча держал трубку у уха примерно минуту. Все это время на другом конце провода так же молчали. Фролов вновь положил телефон и вернулся на кухню. Стоя выпил третью рюмку и, как только взял остывшее ребрышко, раздался очередной телефонный звонок. Волевой и терпеливый по характеру человек не выдержал. Мишка впервые в жизни слышал, как умеет материться его отец
Утром, учившийся во вторую смену Мишка, проснулся около десяти часов. Отец, как всегда, в шесть уехал на работу. Сестра училась в первую смену, а бабушка и дедушка возились на кухне. После завтрака Мишка вставил наушник на место в телефонную трубку и побежал во двор играть с собакой. Несколько дней спустя, после очередной провинности, снова под тяжестью сумки Мадам Ыгыс, Мишка Фролов слушал вольное изложении русской пословицы, что яблоко от яблони недалеко падает.
Глава четвертая. Город и его жители.
Городок со стотысячным населением вырос на самом краю Голодной Степи. Образован он был из нескольких рабочих поселков, разбросанных по обе стороны реки. Левый Берег, Первый, Второй и Третий Аулы, Офицерский поселок и Пятый Район. Между ними и станционным поселком примыкающим к вокзалу и железной дороге рос новый Джезказган. Дальше, на северо-запад тянулись саманные дома компактно поселившегося казахского населения, поселок 11-ой геологоразведочной экспедиции. А еще дальше, через 25-30 километров, другая группа поселков, так называемая рудничная площадка: крепкий и основательный поселок Рудник и бараки быршего лагеря, насмешливо переименованные в поселок Комсомольский, а дальше капитальные дома поселков Станций Весовая и Перевалка, самострой Крестовского, осевших здесь бендеровцев. Еще северней – поселок геологов Северный.
Все это ранее, носившее название Большой Джезказган, в декабре 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было преобразовано в город Джезказган. Председателем оргкомитета по образованию Джезказганского горисполкома стал отец Мишки Фролова, родившегося годом раньше в поселке Большой Джезказган. Но начало освоения целины внесло коррективы в биографию Фролова-старшего, его отправили на партийную работу в целинный район Карагандинской области. Вернулся он только спустя семь лет пополнив семью дочкой-целиницей, получив за работу премию ВДНХа и … наказание по партийной линии .
Известных людей, связанных судьбой с Джезказном немало, а вот рожденных в нем – единицы. В 1944 году в поселке Большой Джезказган родился в последствии известный артист Олег Янковский. В 1956 году в городе Джезказгане – космонавт Сергей Жуков . Вот, пожалуй, и всё.
В конце шестидесятых годов это был уже 60 тысячный город. Он и проектировался под такое количество жителей. Большая часть жителей – это бывшие заключенные Степ лага, расформированного после восстания в 1954 году. Первая, после смерти Сталина, амнистия 1953 года выплеснула на волю из лагерей только осужденных за уголовные преступления. Политические терпеливо ждали своей очереди. Забавно, но в течение года почти все уголовники «вернулись» назад в лагеря. Тогда в лагерях и зонах страны, стихийные и массовые формы стало принимать неповиновение администрации. Зэки занимались или имитацией кипучей деятельности, или откровенной халтурой. Невыполнение планов и низкое качество работ, там, где применялся их труд, становилось обычным явлением.
В Джезказганских лагерях Степ лага, в отличие от многих других, протестные настроения приняли организованную форму. Был создан подпольный конспиративный центр по организации восстания.
Восстание началась одновременно на Кенгирской и Рудничной площадках. Охрану разоружили и выгнали за ворота. В Кенгирском лагере, между мужской и женской зонами, сломали забор. Собственно, это и была конечная цель примкнувших к бузе уголовников, полагавших, что пока руководство Степ лага восстановит порядок, урки вдоволь потешаться на «воровской свадьбе». Но работу «дубаков» по наведению порядка в зонах неожиданно для уголовников выполнил объединенный комитет, экстренно сознанный из конспиративного центра ОУНовцев и примкнувших к нему «политических». Их было большинство, они были организованны и сплоченны. Уголовники, начавшие бунт, благоразумно отступили и подчинились комитету. Начинать внутризоновскую войну из-за баб было не «по понятиям» уголовников. Да и к чему «воровская свадьба», решили воры, если женскую ласку можно получит «по согласию».
На работы тогда не вышел ни один человек, однако, все вспомогательные и подсобные службы по обеспечению «жизнедеятельности» лагерей (столовые, пекарни, бани, клубы, прачечные, фельдшерские пункты и прочее) продолжали работать. Лагеря кипели как муравейники, по ним, не слыханное ранее дело, по одиночке и мелкими группами, одновременно в разных направлениях, без конвоя передвигались люди. Продовольственные склады, по вновь установленным нормам, производили отпуск продуктов. Этих новых повышенных норм по подсчетам должно было хватить года на полтора. Руководители восставших понимали, столько времени им не отпущено, и что ни на какие переговоры власть не пойдет, жестко подавит их бунт.
Власти и руководители Джезказганского промышленного района находились, в буквальном смысле слова, на осадном положении. В Москву и Алма-Ату летели телеграммы и депеши с мольбой о помощи. Руководство Джезказганского рудоуправления сообщало о критической ситуации в Минцветмет, Совмин и ЦК. Треста «Казмедьсрой», соответственно, в Министерство строительства и так же Совмин и ЦК. Геологоразведочной экспедиции – в Министерство Геологии, Совмин и ЦК. Руководство отделения железной дороги – по ведомственному подчинению, а также в Совмин и ЦК. Весь Джезказганский промышленный район был парализован, над всеми предприятиями и организациями, расположенными на его территории нависла реальная угроза. И помощь пришла. Ранним утром проснувшийся лагерь увидел в сотне метрах от своего основного ограждения, перед железнодорожной колеей, цепь автоматчиков, а на горизонте паровозный дым. К лагерю через распадок меж сопок неспешно и деловито двигался паровоз с открытыми платформами, накрытыми брезентом. Паровоз, пыхтя паром и клубами дыма, с лязгом остановился. На землю высыпали люди в черных одеждах, сноровисто сдернули с платформ брезент, и не успели заспанные дозорные из боевой дружины на вышках протереть глаза, на пыльную степную землю, ревя моторами и, воняя соляркой, съехало семь танков. Грозные боевые машины, как на маневрах, выстроились в шеренгу за автоматчиками фронтом к лагерю. В зоне началась паника. Люди метались из барака в барак, члены боевой дружины спешно строились на плацу.
Автоматчики отступили за танки, а танкисты, не глуша двигателей своих машин, развернули стволы орудий в сторону железной дороги, тоесть …противоположную от лагеря. Любопытные, оседлавшие забор бурно жестикулируя, передали информацию об этом в лагерь. Паника прекратилась так же быстро, как и началась. Танки, дымя работающими двигателями, продолжали стоять на месте. Время шло. Через полчаса над забором взвился белый флаг, и показались парламентеры. Восставшие решили пойти на переговоры. Реакции на белый флаг не последовало. Автоматчики, собравшись по двое-трое, продолжали затянувшийся перекур и попивать из фляжек воду. Солнце уже пекло основательно. Парламентеры, оставив флаг на заботе, ушли. А на башнях танков захлопнулись люки, двигатели взревели, и машины, выбрасывая из-под гусениц клубы пыли и песка, устремились в лагерь. Легко пробыв кирпичный забор ограждения, боевые машина, следую строго на север, прошли через территорию лагеря, круша и давя все встречающаяся на своем пути. В степи, с северной стороны лагеря, машины, развернувшись, выстроились в шеренгу и на несколько минут замерли. Потом, взревев двигателями и синхронно пробив новые бреши в ограждении, вновь смерчем промчались через лагерь, давя и круша все на своем пути. Перед железнодорожным полотном танки развернулись кругом и повернули в сторону восставших стволы орудий, а к образовавшимся в кирпичном заборе брешам бросились автоматчики. Солдаты не стали входить на территорию, а заняли позицию в проломах. Участь восставших была решена. Бежать в проломы в заборе с северной стороны было равноценно самоубийству. Куда убежишь по голой степи, подавят танками. Останешься в лагере, подавят все равно.
* * * * *
В очищенной от зэков жензоне солдаты устроили фильтрационный пункт, выявленными членами комитета и активистами, участниками боевой дружины забили штрафной изолятор. Прибыл прокурор и судьи и начался пересмотр дел осужденных. Все, кроме помещенных в ШИЗО и уголовных преступников были освобождены. Кто по амнистии, кто досрочно, мизерная часть по реабилитирующим основания. С каждого освобожденного взяли подписку не покидать территорию административного района, в зависимости от части не отбытого срока, от полугода до пяти лет. Это был явный перебор. Многим и так некуда было ехать, но большинство не хотело возвращаться к своему прошлому. Они решили, сохранив свои жизни, пока затаиться. Вчерашние узники в одночасье стали свободными людьми, но без средств существования, как погорельцы на пепелищах.
Восстание заключенных Степ лага в лагпункте Кенгир 16 мая 1954 года, значащееся в конспиративном центре его организаторов, а затем и среди всех заключенных-участников событий под кодовым наименованием «Сабантуй», длилось сорок дней и ночей. Большинство открытых источников, в том числе и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына руководство восстанием приписывают участику войны бывшему капитану Красной Армии Кузнецову. О нем известно, что звали его Капитон. Возможно, от имени произошло и звание «капитан». Якобы до ареста он был командиром полка в оккупированной Австрии и в звании полковника В разных источниках сведения о количестве учестников Джезказганского восстания и подавлявших его сил существенно разняться. Скорее всего, численность восставших заключенных составляла около 8 тысяч человек, а в подавлении бунта участвовало 13 тысяч военнослужащих, сотрудников органов и семь танков. Доподлинно известно, что один из «руководителей» восстания заключенный Кузнецов сразу после разгрома дал показания на сорокатрех листах, чем, очевидно, и спас свою жизнь. Кто он, Кузнецов – мученик или иуда? Бывшие зеки этого так и не узнали.
Во время подавления восстания погибло около шестисот заключенных. Приговор в отношении его руководителей привели в исполнение, осужденных разбросали по лагерям и тюрьмам, а освобожденные активно включились в мирный созидательный труд по строительству города. В одном строю с ними на полях трудовых сражений стояли бывшие трудоармейцы, немцы Поволжья, объединяемые пока ещё спецкомендатурами, и выселенные в Казахстан поляки и чеченцы. Коренное казахское население было почти незаметным в этом столпотворении Великого Переселения народов, и в основной своей массе, спокойно занимались сельским хозяйством. А растущие на степных просторах города и рабочие поселки хлынула за лучшей долей молодежь по комсомольским путевкам и вербовке. Все эти люди, не вспоминая о своем прошлом и никогда не рассказывая о нем, жадно жили днем сегодняшним, с надежной и верой смотрели в будущее. Рабочий барак после лагерного или землянки в разрушенном войной селе, были для них сущим раем, а скорость, с которой строилось и распределялось жилье и рост благосостояния были весомей любой партийной агитации.
В бескрайних степных просторах, как грибы после дождя, выросли совхозы, названные в честь родных мест, прибывших по комсомольским путевкам: Киевский, Черниговский, Смоленский, Самарка … Под стать совхозам и поселки: Молодежный, Красная Поляна, Степной… Вот и под Карагандой безымянный полустанок назвали Ялтой. Правда, это уже из другой оперы. Говорят, в самом начале освоения Целины, передовику-трактористу, чье имя не сохранила история, дали путевку в ялтинский санаторий. Провожали счастливца всем целинным совхозом, с песнями под гармошку, напутствиями, и обильным возлиянием. Изрядно «напровожавшегося» передовика оставили на безымянном полустанке стрелочнику с поручением посадить на поезд. Немного протрезвев, отпускник вышел по мартовскому талому снегу из будки стрелочника и искренне удивился пейзажу: «Это что, Ялта, что ли?!». Так и стал полустанок и появившийся около него поселок из трех домов называться Ялтой.
Глава пятая. Приколы маленького городка.
Костя Мержанян, во время отсидки в лагере, был хлеборезом. Николай Николаевич Болтушкин – ВОХРовцем. В 1954 году, после подавления лагерного бунта, приговор по делу Мержаняна был пересмотрен, и он оказался на свободе, а Николай Николаевич остался без работы. Костя, в свои 38 лет, был одинок, как перст. Оказавшись на свободе, тем не менее, был ограничен в выборе места проживания. Николай Николаевич ограничений по выбору места жительства, естественно, не имел, но был по рукам и ногам связан женой и четырьмя малолетними детьми. Оба остались устраивать свою жизнь у развалин Степ лага в Большом Джезказгане, связанном с внешним миром лишь одноколейной железной дорогой.
Удивительная и непредсказуемая судьба свела их на обогатительной фабрике. Мержанян выбился в заместители директора по материально-техническому снабжению, а Болтушкин в его заместители. Первое время они ссорились без всякого повода, просто по причине нахождения в прошлом по разные стороны баррикад. Затем ссоры их перешли в разряд беззлобного зубоскальства и безобидных взаимных упреков. Так бывает в некоторых семьях, когда близкие люди откровенно высказывают взаимные упреки, но не выносят сор из избы. Снабженцы многое переняли друг у друга.
Николай Николаевич постепенно стал вести себя в семье так, как ведет себя большинство кавказских мужчин. Обеспечивая семью всем необходимым и полностью содержа её, он запретил жене работать, возложив на нее все домашние обязанности и заботу о воспитании детей. Перестав с ней советоваться, он стал сам принимать решения по различным семейным и бытовым вопросам. Костя, постоянно общаясь с семейным человеком, стал часто с тоской вспоминать, что где-то в смоленской деревеньке осталась женщина, у которой, во время войны, он два месяца скрывался, будучи в окружении, и как потом установил СМЕРШ, все эти два месяца вместо борьбы с ненавистным врагом, боролся только с ней. В период трудового отпуска Мержанян поехал на Смоленщину. Там выяснилось, что ничего общего с фронтовой любовью, кроме шестнадцатилетнего сына, у него нет. Колхозница возражать не стала и отдала ему для дальнейшего воспитания и обучения подростка по имени Петя. После школы Мержанян отвез Петю в Москву, в институт стали и сплавов, где Петя, следуя воли отца, прилежно учился.
Зарабатывал Костя очень даже неплохо. Но природная предприимчивость толкала его на поиск дополнительных заработков. В бурно растущем молодом промышленном городе ощущался явный дефицит продуктов. Мясом говядины, баранины, конины и даже степной антилопы сайги город был в буквальном смысле завален. Существовавший в ту пору сортовой разруб предоставлял населению огромный выбор, как по качеству, так и по цене. А вот свинина и тем более соленое сало, было дефицитом и сказочным лакомством для европейцев и смертным грехом для мусульман-казахов. Для последних таким лакомством были сваренные вкрутую куриные яйца, по-казахски «жемуртка», или громадных размеров переспевший желтый огурец с большими семечками внутри, похожий на невиданный в те годы банан. Костя, сварив на фабрике, из листов пятимиллиметровой стали, огромный металлический гараж, привез его и поставил на свободное место у дома, между каменными сараями. Утеплив его изнутри, он завез комбикорм, выменяв его в соседнем совхозе на кое-какой списанный фабричный хлам. Следующим этапом было приобретение у частников четырех поросяти и двух с половиной десятков, крупных уже, цыплят. Процесс, как говорится, пошел.
Привыкшая отдыхать летними вечерами на лавочке возле дома семья Уральских была в полном отчаянии. Теплый, столь приятный ранее вечерний ветерок, обдувавший их тела и лица, нес с собой, теперь, смрад свиного навоза. Раскаленные за день ярким солнцем стенки металлического гаража усиливали этот запах, а когда, после работы, Костя открывал ворота, чтобы накормить и напоить своих домашних животных, становилось невыносимым не только тем, кто сидел на лавочке, но и находился в комнатах окнами, выходящими во двор. Интересно, каково же было в гараже живности? К началу сентября то ли солнце стало меньше нагревать гараж, то ли ветерок стал по прохладней, а может Уральские «принюхались», но пахнуть стало как-то поменьше. Но стал больше докучать визг свиней, кудахтанье кур и крик петуха. Особенно по ночам и ранним утром. Незаметно к этим проблемам еще добавилась обычная человеческая зависть. Управившись в гараже и возвращаясь мимо отдыхающих на скамейке Уральских, Костя, стал проносить ведро с яйцами. Собственно, в начале было полведра. Но яйца было хорошо видно. Потом их количество стало с каждым разом увеличиваться и к концу сентября, в период начавшегося «бабьего лета», каждый вечер, Костя проносил мимо полное, с горой, ведро яиц. Проблема яйценоскости Костиных несушек стала главной темой всех разговоров в еврейской семье. Мама Уральских, Фаина Моисеевна, вела домашнее хозяйство семьи, регулярно покупала на рынке яйца и курочек к столу и знала, не только, сколь дорого они стоят, но как, порой, тяжело бывает их купить. После долгих обсуждений на семейном совете было принято решение начать держать в сарае курей. Но, вдруг, выяснилось, что у всех потенциальных продавцов куры несутся хуже. Фаина Моисеевна изповдоль начала переговоры с соседом-армянином. Сначала она купила у него два десятка яиц. Они соответствовали всем требованиям и стандартам. Затем она стала интересоваться условиями содержания несушек. Костя охотно делился своими знаниями и опытом и даже продемонстрировал ей бутыль с рыбьим жиром, добавляемым в корм для повышения продуктивности птицы. Наконец, Фаину Моисеевну заинтересовала порода несушек и место их приобретения. После уклончивого ответа она все-таки спросила прямо, по какой цене Мержанян их уступит. Костя, в общем-то, птицу продавать не собирался. Вырастил, так сказать, для собственных нужд. Но с учетом настоятельных просьб соседей готов продать половину, а это дюжина курочек. Выбрать их из числа остальных Уральские могут сами. Назвал он и цену. Услышав её, Фаина Моисеевна и два её великовозрастных сына вначале смутились, но потом, дома, посчитав продуктивность несушек, сочли хоть и грабительской, но для семьи приемлемой. Процесс изучения проблемы, принятия решения и переговоров занял, в общей сложности, несколько дней. Так что дюжина несушек перекочевала в сарай Уральских к средине ноября.
Костя стал носить домой только по полведра яиц, а Уральские находили в оборудованных гнездах своего сарая в день от силы два-три. В семье начались ссоры. Сноха отказалась ухаживать за птицей. Фаина Моисеевна, в силу своего преклонного возраста и статуса, делать этого не могла. Старший, женатый сын, страдал экземой и не мог пачкаться. Младший, сорокалетний холостяк, как выяснилось, просто боялся живых курей. Тем не менее, ухаживать пришлось именно ему. Очень скоро, устав от бесконечных упреков членов семьи, из-за слабой продуктивности несушек, он не вытерпел и предъявил претензии соседу. Наглый армянин поднял его на смех.
«Разве нармалный курыц будэт нести яиц бэз пэтух?»– спрашивал он соседей .
«Ваш курыц дает яиц по ынерцый, от мой пэтух!» – ответил Костя, завершая получасовую лекцию по зоологии.
В семье Уральских воцарил трехдневный траур. На четвертый день, Фаина Моисеевна «случайно» встретив Костю у подъезда дома, плавно перевела разговор по поводу ухудшающейся на глазах погоды, на тему возможной продажи им петуха. Сосед, в принципе, не возражал, но и однозначного согласия не дал. Через неделю Фаина Моисеевна уломала Костю, но на крайне невыгодных для себя условиях, цена была заоблачной. По первому морозу, продав петуха, Мержанян в тот же день перерубил всех куриц. Уральские были этим шокированы, ведь только глупец рубит курицу, несущую хозяину золотые яйца.
С появлением в курятнике Уральских петуха, куры не стали нестись больше, а к декабрю прекратили и вовсе. Фаина Моисеевна, пересилив гордыню, задала Косте законный вопрос. Специалист в области птицеводства разъяснил ей и, так некстати, собравшимся на лекцию соседям, что в холодный период времени, каковым является зима, природные инстинкты петуха и куриц снижаются, следствием чего и является уменьшение, а то и полное прекращение воспроизводства яиц. Оказывается, в этот период времени года, хрупкий организм птицы нуждался в особой поддержке, и Костя предложил соседке, совершенно бесплатно, остатки пшеницы и бутылку рыбьего жира.
В гараже у Мержаняна визжали свиньи, в сарае Уральских кричал петух. Соседи роптали на обе семьи, но открыто недовольство не высказывали. А в отношениях между свиноводом и птицеводами возникла пауза. В Новогодний праздник пауза переросла в крупный скандал, следствием которого стало то, что последующие десять лет своего проживания в доме на улице Мира Уральские вообще не разговаривали с Мержаняном. Виноват в этом, наверняка, был он сам. В Новогоднюю ночь, будучи в изрядном подпитии, он рассказал соседям по дому, как два месяца морочил голову Уральским, нося ведро, наполненное опилками, с положенными сверху куриными яйцами. Но не розыгрыш пуще всего обидел Уральских, а то, как бессовестно и нагло высмеивал их Костя в своем рассказе перед соседями в ту Новогоднюю ночь.
В Рождество и все последующие дни семья Уральских ела домашнюю курятину. Курочки были и очень вкусные, и очень дорогие. Что делать, жизнь с каждым днем дорожает!
Глава шестая. Розыгрыш.
Мемуары или воспоминания пишутся участниками событий или нанятыми ими литераторами, в основном, с одной главной целью – возвысить роль в описываемых исторических событиях одних людей или обстоятельств, и уменьшить степень участия или влияния на эти события других. Уже первые летописцы грешили истиной в пользу конкретных лиц, а то и откровенно фальсифицировали излагаемые ими события. Человеческая память – крайне ненадежный и хрупкий носитель информации. С появлением письменности задача по сохранению информации упростилась. Написали великие мудрецы книгу и её читают многие поколения людей два тысячелетия. И уже каждый сам решает, принимать на веру описываемые в ней события, или нет. Чем больше существует человечество, тем больше документальной информации о себе оно накапливает. Мы становимся похожими на древнего летописца, завалившего глиняными дощечками с письменами половину дворца своего властелина. Уже некогда, некому, а самое главное – незачем перечитывать эту гору написанного, а он продолжает писать на табличках, обжигать их и складывать в кучу. Одна книга в семье была ценностью, источником знаний. Множество книг стало измеряться кубометрами. Их почти никто, за исключением узких специалистов и больших книголюбов, в наше время не читает. Двадцать первый век компьютеров и Интернета завалил человечество колоссальным объемом информации. И измеряем мы её теперь уже в байтах. Значительно реже написание воспоминаний рассматривается их автором как источник получения дополнительного дохода. В наше время, наоборот, за издание или публикацию надо заплатить, и весьма немало.
Однако и в первом и во втором случаях тем человеком, фамилия которого значиться на обложке, или подписана та или иная публикация, движет, в первую очередь, тщеславие. Наверное, не исключение в этом и автор этих строк. В глубине души он гордится тем, что первым поведал человечеству о славном городе Джезказгане, его окрестностях и происходящих там, в теперь уже далекие годы, событиях. Сегодня может быть кто-то не согласиться с достоверностью описания, усомниться в объективности оценок и правильности выводов. Но пройдут годы, уйдут очевидцы и участники, и даже вымысел станет правдой.
Розыгрыш, о котором я сейчас пойдет речь, заслуживает того, чтобы быть вписанным золотыми буквами в историю Джезказганской партийной организации, следовательно, и самого города. Это не было своевременно сделано в силу различных причин и обстоятельств. И сейчас просто необходимо взять смелость и ответственность, чтобы исправить эту историческую ошибку. Я не был автором и исполнителем этого розыгрыша. Автор и непосредственный его исполнитель – инструктор организационного отдела горкома партии Досан Булатов, бюрократ во втором поколении. Родители Досана, партийно-советские работники, выпестовали его по своему образцу и подобию, передав своему отпрыску, вместе с положительными качествами, гремучую смесь партийного карьеризма и присущих национальной элите черт. Он и внешне то походил на карикатуру чиновника из сатирического республиканского журнала «Ара-Шмель»: большая, несоразмерная узким плечам, голова, пухлые, сложенные в слащавой улыбке, губы, хитрые, заплывшие жиром, бегающие глазки, ласковый негромкий, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах и ни в чем не отказывающий, голос. В общении с руководством он делался маленьким и тщедушным, прятал за спину или под стол пухлые холеные руки. Если, по его мнению, собеседник был ниже рангом, Досан важно надувал щеки, выставлял на показ руки аристократа и распрямляясь во весь свой немалый рост. Первым пунктом его трудовой биографии значилась работа слесарем-сборщиком Целиноградского завода сельскохозяйственных машин. Это трехнедельное событие коренным образом повлияло на всей последующей его карьере. Досан закончил Целиноградский сельхозинститут, который за него и для него выбрали родители. Женился на скромной кроткой девушке, которую для него в достойной, по их понятиям, семье ему так же подобрали мама и папа. Родители принимали за него решения и по дальнейшему карьерному росту. Он не возражал маме и папе, не проявлял собственной инициативы, плыл по течению жизни и стал секретарем Целиноградского обкома комсомола, и вот теперь, когда его папу перевели в Джезказган заместителем председателя облисполкома, сын с семьей хвостом последовал следом и, по решению родителей, был определен в аппарат горкома партии. Досану было 34 года и по родительской программе, в 35, он должен был перейти на работу в аппарат обкома партии, а в 40, возраст, когда мужчина-мусульманин получает право носить волчью шубу и шапку, стать секретарем какого-либо городского, или крупного районного комитета партии. Отец двоих детей, сам, по сути, взрослый ребенок, добродушный и безобидный Досан уже месяц, изнывая от скуки, изучал Устав КПСС, Инструкцию по делопроизводству в первичных партийных организациях и другую методическую и справочную литературу. Потом, такие как он, равнодушно встретив развал Советского Союза, организованно и дружно пересели в кресла больших и маленьких руководителей суверенного Казахстана.
В одном кабинете с Досаном, всего на два месяца раньше его, расположился и 22 летний инструктор горкома Фролов. «Курс молодого бойца» к тому времени он уже прошел, и поэтому планировал свою работу, в том числе, и за стенами горкома партии. В его обязанности, кроме прочего, так же входило посещение собраний в первичках, оказание им практической помощи в ведении делопроизводства. Когда Фролов собирался отлучиться по этим делам Досану, становилось грустно и тоскливо. Их кабинет № 21 располагался на втором этаже, а на первом, в кабинете №12, трудился на партийных хлебах ветеран городского комитета партии Леня Баклицкий. Ему было, уже далеко за сорок и он казался молодым работникам аппарата, если и не ветераном Великой Отечественной войны, то уж, по крайней мере, сыном полка или пионером-партизаном тех грозных лет. Высокого роста, худой, с пробивающейся среди слегка вьющихся длинных светло-русых волос лысиной, он казался им, желторотикам, незаменимым специалистом в агитационно-партийной работе. На первомайские и октябрьские праздники охрипший, с мегафоном на плече, регулировал он порядок и скорость движения праздничных колон демонстрантов, затмевая в этом важном деле и городского военкома и начальника милиции, со всем их радированным войском. Длинные его, как у страуса ноги, перемещали худое тело с невообразимой скоростью немыслимыми маршрутами. Его энергии хватило бы на ансамбль песни и пляски Советской Армии. Его золотая голова рожала в невообразимо короткие сроки полуторачасовые доклады первому секретарю на пленумы и активы, изобилующие цитатами из трудов классиков марксизма-ленинизма и руководителей партии и Государства. При этом Леня был не промах по части выпить-закусить и приударить за представительницами второй половины человечества. Все у него получалась легко и просто, как бы на ходу. Одно не нравилось Фролову и Досану – уж больно высоко задирал свой нос, в упор не желал видеть молодых инструкторов. И у Досана Булатова, аккурат к 1 апреля 1977 года, созрел коварный план.
Накануне, заведующим отделом организационной и партийной работы обкома Компартии Казахстана был назначен первый секретарь Каражалского горкома Макаров. Человек он, как это принято сейчас говорить, в масштабах области был недостаточно публичный. Сидел себе в своем городишке с 18 тысячным населением и руководил им ни шатко, ни валко. Звезд с неба не хватал, крамолы не чинил и глупостей не делал. И вот, неожиданно даже для себя самого, продвинулся по партийной карьерной лестнице. Эту ситуацию и решил использовать Досан.
* * * * * *
Леня откровенно бездельничал, раскачиваясь на кресле в рабочем кабинете. До этого он на славу потрудился и сейчас мог позволить себе пустопорожние разговоры. Разговаривать, кроме соседки по кабинету Раисы Камзиновны, было не с кем. И он травил её очередную байку. Время до обеда тянулось медленно. Зазвонил телефон. По опыту, зная, что звонок может принести не нужные проблемы, Леня не стал торопиться брать трубку. Но телефон настырно продолжал звонить.
«Горком партии, Баклицкий слушает!» – привычно проговорил он в трубку, раскачивая под собой на двух задних ножках деревянный стул-кресло с подлокотниками. В кабинет в это время зашел, по внешнему виду одолеваемый от безделицы и скуки молодой инструктор Фролов. Баклицкий, подняв вверх косматые брови и, как бы спрашивая: «Что приперся?», всем своим видом выражая большую занятость, показал ему рукой на свободный стул, напротив, со стороны стола Раисы Камзиновны. Фролов присел на краешек.
«Здравствуйте, Леонид Апполонович!» – раздался в трубке вальяжный голос.
«Здравствуйте!» – насторожился Баклицкий и перестал раскачиваться на стуле.
«Не устали на ниве идеологической партийной работы?» – твердо и уверенно прозвучал вопрос звонившего.
«Да вы знаете, нет! – немного оробев, что было для него абсолютно несвойственно, ответил Леня в трубку и, прикрыв её ладонью, громко шепнул Камзиновне. – Интересно, что за нахал звонит?». Сидящего на стуле Фролова для него просто не существовало.
Как бы отвечая на заданный вопрос, голос важно сообщил: «С вами, Леонид Апполонович, говорит зав. огротделом обкома партии Макаров. Я тут, понимаешь, принимаю дела. Естественно, в первую очередь изучаю кадры. Вот, смотрю, вы работаете дольше всех в аппарате горкома. Ну, если не считать некоторых технических работников. Не засиделись ли? Не набило ли оскомину? По своему личному опыту знаю, что работу надо раз в три-пять лет менять, так как один и тот же вид деятельности рано или поздно надоедает. А как считаете вы, не пора ли?».
Леня, прижав плечом телефонную трубку к уху, энергично рылся в ящике стола в поисках телефонного справочника аппарата обкома партии и, наконец, раскрыв его разочарованно поморщился. Сведений о новом заведующем орготдела в справочнике не было. Прикрыв трубку ладонью, без какой-либо надежды, просто не имея других вариантов, Баклицкий беспомощно прошептал соседке по кабинету: «Как зовут Макарова?». Та, скорчив гримасу, отрицательно мотнула головой.
«Василий Михайлович…» – негромко сказал Фролов. Баклицкий поверх очков оценивающе посмотрел на молодого инструктора. Пауза явно затягивалась, времени на проверку и раздумье еже не осталось.
«Да нет, на мой взгляд, работа в отделе агитации и пропаганды интересная, многогранная», – избегая называть собеседника по имени- отчеству, ответил Леня и осененный догадкой энергично пролистал последние страницы справочника. В разделе Каражалский горком Компартии Казахстана имелась информация о его первый секретаре: Макаренко Василий Михайлович и номер телефона. Леня заметно оживился. «Знаете, Василий Михайлович! – сделал он ударение на имени и отчестве (Пусть зав. отделом знает, что ветеран горкома знает своих областных руководителей, пусть даже только что назначенных на вышестоящую должность). – Моя работа у всех на виду, с интересными людьми. Как я уже говорил, многогранная. Какая там оскомина! Сегодня сладкое, завтра кислое… Сегодня одно, завтра другое, а то и несколько дел одновременно! Только успевай поворачиваться! Вы сами, Василий Михайлович, только что с земли. Вам хорошо известно, как на местах приходится работать. Как говорится не числом, а умением… Конечно, все мы рядовые бойцы партии. Партийная дисциплина для каждого коммуниста – прежде всего. Но я считаю, каждый должен заниматься тем делом, которое ему по душе, которое он умеет и делает лучше других и…».
«Знаю, знаю! Хорошо знаю, каково на передовой! – недовольно прервал его собеседник.– Знаю и то, что есть работники грамотные, я бы сказал талантливые, способные принести партии большую пользу, но которым или роста не дают, или сами они живут по принципу «тебя не трогают, и не высовывайся». Вы у нас, Леонид Апполонович, работник партийного аппарата и грамотный, и талантливый. Вот только никак не пойму, почему до сих пор в инструкторах. Или необъективно в городском комитете партии оценивают вас, или вы сами не желаете продвигаться по карьерной лестнице».
Прикрыв рукой микрофон, Леня громко прошептал откровенно скучающей Раисе Камзиновне: «Куда-то «сватать» на работу будет! Только в район я не поеду…»
Фролов сделал вид, что почувствовал себя лишним при серьезном разговоре, выскользнул из 12-ого кабинета и пулей помчался на второй этаж в 21-й, где важно развалившийся на кресле Досан, перевоплотившись в заведующего организационного отделом Джезказганского обкома Компартии Казахстана, неспешно и важно вел беседу по телефону с инструктором отдела агитации и пропаганды горкома Баклицким. Пока Макаров-Булатов пространно разъяснял Баклицкому основные положения о руководящей и направляющей роли партии в жизни советского общества, Фролов, сделав ему насколько коротких корректирующих записей на листе бумаги, убежал в кабинет инструкторов отдела пропаганды.
Там прижав трубку к уху, Баклицкий внимал монолог заворготделом обкома. Раиса Камзиновна напряженно смотрела на коллегу, стараясь по выражению его лица понять, о чем идет речь. Фролов, проявляя полное безразличие к происходящему, с беззаботным видом присел на краешек стула. Наконец Макаров перешел, по мнению Баклицкого к истинной теме разговора: «Я полагаю, Леонид Апполонович, вы можете принести значительно больше пользы партии, возглавив, скажем, идеологическую работу на периферии. А как считаете вы сами?»
«Я, Василий Михайлович, область совсем не знаю, как приехал в Джезказган мальчишкой, так живу и работаю здесь. Были предложения, – вдохновлено врал Баклицкий. – Но тёща часто болеет, нуждается в постоянном уходе. А там двое детей незаметно подросли, школьники, глазом не успеешь моргнуть, как в ВУЗ поступать. В хорошей школе учатся, жалко срывать с места…». С женой в это время Баклицкий жил, мягко говоря, плохо, а с тёщей уже несколько месяцев не разговаривал. Эти обстоятельства были хорошо известные всем работникам аппарата горкома партии.
«Да, я вот тут смотрю по вашему личному делу, – в трубке у Баклицкого послышался шорох страниц, это Досан, прижав свою к уху плечом, мял перед ней руками вчерашнюю газету.– Вы с девятнадцати лет в Джезказгане».
«Да, как не прошел по конкурсу в Белорусский университет на факультет журналистики, сразу приехал в Джезказган», – поддержал разговор Леонид Апполонович малоизвестным фактом своей биографии. Несбывшейся мечтой его юности было стать военным корреспондентом.
Всем своим видом показывая, что неловко себя почувствовал при личном разговоре, Фролов бесшумно выскользнул из кабинета. Всего спустя несколько секунд он уже шептал в ухо Булатову неизвестную тому, но одну из самых ярких страниц биографии Баклицкого.
«Ба, да вы просто уникум! Вы, Леонид Апполонович, единственный в нашей области награждены за работу в комсомоле орденом «Знак Почета»! Это, знаете ли … Я такого человека не встречал! Секретарь комитета комсомола ПТУ – орденоносец!» – неподдельно восхитился завотделом эпизодом трудовой биографии инструктора, тряся перед трубкой в комок измятой и полностью готовой к применению по очередному своему назначению газетой.
Леня, явно конфузясь, вяло отбивался: «Тогда, Василий Михайлович, Джезказган входил в состав Карагандинской области. Нас, орденом «Знак Почета», двоих наградили…»
«Да, но в нашей области, Леонид Апполонович, вы один с такой серьезной наградой за работу в комсомоле, – стоял на своем его собеседник. – Я настоятельно рекомендую вам серьезно подумать о наших предложениях…»
Баклицкий, зажав микрофон рукой, брызжа слюной, скороговоркой протараторил Раисе Камзиновне: «О каких предложениях подумать? Полчаса говорит ни о чем…».
«Мы не ждем от вас быстрого решения, поскольку не предлагаем вам что-либо конкретное» – Как бы прочтя его мысли, сообщил Макаров и плавно перевел разговор к изложению материалов последнего Пленума ЦК КПСС.
Внимательно слушая собеседника, Баклицкий упер свой взгляд поверх очков на бесшумно возвратившегося в кабинет и усевшегося на стул Фролова. Смутная нехорошая догадка мелькнула в его голове. По мере того, как рассуждения заворготделом все больше и больше напоминали изложение материалов Пленума в прессе, догадка усиливалась. Примерно по истечении почти часового разговора, выслушав очередной пассаж заворготделом, о том, что «партийно-политическая работа в массах, это не болты-гайки, её штуками и кубометрами не измеришь. Вы правильно заметили, что мы все рядовые бойцы партии, а генерал у нас один – Генеральный секретарь ЦК КПСС», – Баклицкий, не спуская глаз с Фролова, бросил трубку на телефон. Лицо его исказилось в страшной гримасе, грохот отброшенного кресла почти слился с грохотом брошенной телефонной трубки. Раиса Камзиновна, очнувшись от накатившейся на неё дремоты, побелела от страха. Таким свирепым и страшным она не видела своего коллегу никогда. Косматый, широко раскинув руки, во весь свой исполинский рост, и в то же время сгорбившийся, как чудище из сказки «Аленький цветочек» возвышался он над своим рабочим столом, сразу заполнив собой почти половину кабинета.
«Что, щеглы, пошутить решили? – ревел он во всё свое луженое горло. – А я-то думаю, чего он тут шныряет туда-сюда… Корректировщик хренов. Я вам сейчас такого Макарова устрою, прохвосты…»
Не став искушать судьбу, Фролов пулей вылетел из кабинета. Следом за ним, на всякий случай, шмыгнула и Раиса Камзиновна.
* * * * * *
Оставшись наедине и взяв себя в руки, Баклицкий около минуты ждал повторного звонка, приготовившись сослаться на плохую слышимость и сказать, что поэтому перезвонит сам. Таким образом, он решил проверить, действительно ли это звонит Макаров. Затем, открыв обкомовский телефонный справочник, Леня сам решительно набрал номер заведующего организационным отделом обкома партии. Левая его рука легла на кнопки телефонного аппарат, что бы только услышав голос абонента, сразу отключить его. Вызов шел, но никто не отвечал. Леня окончательно убедился, его разыграли. Приступ бешенства снова охватил его, во много крат превзойдя предыдущий. Он кричал, топал ногами, бил руками по столу. На шум прибежал зав. отделом агитации и пропаганды Мухин, из дверей своих кабинетов расположенного здесь же горкома комсомола выглядывали любопытные лица его работников.
Шли дни и недели. Баклицкий выражал полное презрение двум молодым инструкторам, для него их просто не существовало. Веяло холодком в общении и от других сотрудников аппарата. Шутка оказалась явно не удачной, с «душком». О ней знали все работники горкома, кроме, пожалуй, первого секретаря, и все хранили молчание. Розыгрыш никто не одобрял и не осуждал. Его просто не существовало для серьезных взрослых людей занятых ответственной работой. Он, наверное, забылся бы так же, как и неуклюжая перепалка директора комбината общественного питания Аукеновой и директора птицефабрики Ганзы на партийно-хозяйственном активе города «О ходе реализации Продовольственной программы». Тогда, Раиса Абельмаженовна в своем выступлении с трибуны, отклоняясь от текста, сделала следующее критическое замечание: «Вот, Бидайкская птицефабрика поставляет нам яйца крупные и чистые. А у Ганзы, товарищи, яйца и мелкие, и грязные…». На что Ганза, симпатичный статный мужик лет шестидесяти, с пышной седой шевелюрой, вскочив с места, бойко ответил: «Это не правда! Товарищи не верьте! У меня с яйцами все в порядке». Аукенова и Ганза, каждый, посчитав себя оскорбленным, на долгие годы потом сохранили натянутые отношения. А вот у нехорошей истории с Баклицким последовало неожиданное продолжение с почти счастливым концом.
Шла четвертая неделя после произошедшего. Весна выдалась ранней и дружной. Булатов и Фролов курили на крыльце, греясь на солнышке. В результате организованного Баклицким бойкота их начали сторониться даже работники горкома комсомола. В актовом зале закончилось совещание с работниками образования. Основной поток его участников дружно валил из дверей на улицу, а меньшая часть растекалось по кабинетам решать какие-то вопросы. Фролов, докуривая сигарету, увидел через стеклянную дверь, как Баклицкий с несколькими директорами школ зашел в свой кабинет. Спустя несколько секунд Леня энергичной походкой прошел по коридору и довольно быстро вернулся назад со свертком в одной руке и плиткой шоколада в другой. «В буфет за шампанским бегал!» – догадался Фролов и повернулся спиной к двери. На душе было гадко. Бросая окурок в урну Фролов, неожиданно увидел на другой стороне сквера явно направляющуюся в сторону горкома женщину, похожую на жену Баклицкого. Внимательно присмотревшись, он понял, что не ошибся. Досан сосредоточенно стряхивал пепел с сигареты в урну. Время на раздумья не было. Фролов быстро вошел в здание и решительно подошел к двери кабинета Баклицкого. Из-за плотно закрытой двери, застекленной матовым стеклом, слышались женские голоса и смех. Фролов нажал на ручку. Дверь была закрыта изнутри. Постучав казанками пальцев в стекло, чтобы привлечь внимание и услышав, что люди в кабинете притихли, Фролов негромко, но отчетливо, сказал: «Леонид Апполонович! Ваша жена идет к вам на работу!» После секундной паузы в гробовой тишине раздался надменный голос Баклицкого: «Да пошел ты, шутник хренов! Найдите себе ровню для ваших дурацких шуток». За дверью поднялся веселый галдеж, раздался звук откупориваемой бутылки шампанского.
Фролов в полной растерянности стоял против дверей. В здание зашел Булатов, подозрительно посмотрел на коллегу, и, ровным счетом ничего не поняв, направился к противоположному правому лестничному маршу на второй этаж. Фролов постучал кулаком по деревянной раме двери. «Апполоныч, я вовсе не шучу! – в полном отчаянии, стараясь не привлечь лишнего внимания и в то же время быть услышанным, произнес он. – Ваша жена уже поднимается на крыльцо!». Никакой реакции на это предупреждение не последовало, наоборот, веселье за дверью усилилось. Входная дверь распахнулась и в коридор плавно вошла жена Баклицкого. Фролову ни осталось ничего другого как направиться к ближайшему левому лестничному маршу, изобразив, что он именно туда и направляется. Остановившись у лестницы, он видел, как добродушное выражение сходило с лица Баклицкой, остановившейся напротив двери кабинета мужа. Как бы не веря своим ушам, она, вначале, отступила на шаг, а затем, вплотную подойдя к дверям, замерла, стараясь хоть что-нибудь разобрать в веселом гомоне и смехе. Разобрать же ничего было невозможно, кроме одного: за дверью среди женского щебета и смеха, раздавался гусиный гогот её мужа! Баклицкая надавила на ручку двери. Дверь не поддалась. Женщина постучала. Реакции не последовало, веселье за дверью продолжалось. Баклицкая, что было силы, начала стучать в стекло и громко потребовала: «Леня, немедленно открой!». За дверью воцарила гробовая тишина. «Леня, открой, я знаю, что ты там!» – потребовала она срывающимся от волнения и обиды голосом.
Из-за двери раздался восхищенный возглас Баклицкого: «Вот дают, сволочи! Им в филармонии работать, а не в горкоме! Голос моей жены имитируют!». Притихшие было за дверью женщины, снова защебетали.
«Я тебе сейчас, кобель, поимитирую! Открывай дверь, или я стекло сейчас вынесу!» – взревела оскорбленная супруга.
За дверью вначале наступила полная тишина, потом заметались тени, послышались звуки падающих стульев, шушуканья и разбившегося стакана. Дверь с шумом распахнулась и из кабинета, как сухой горох из стручка, посыпались испуганные женщины. Среди них Фролов узнал жену заместителя начальника КГБ директрису школы № 3 Кильдееву. Вместе с женщинами из кабинета выскочил Баклицкий, и, подхватив свою жену под руку, увлек её на улицу. «Лариса, пожалуйста, не поднимай шум, я тебе все объясню!» – скороговоркой тараторил он, чуть ли не на руках неся её на улицу. Скандала в здании горкома Баклицкому все-таки удалось избежать, а вот без ссадин на лице не обошлось. Фролов видел через стеклянную дверь, как Леонид Апполонович дотащил супругу до середины сквера. Там Лариса, вырвавшись из его рук, ногтями прошлась по его левой щеке. Они еще долго размахивали руками, стоя по середине сквера: он в сторону дома, она в сторону горкома. И, наконец, утомленные, разошлись в разные стороны.
* * * * * *
За два дня до Первомая, проходя с одним из своих многочисленных приятелей мимо стоящих у горкома Булатова и Фролова, не глядя на них, Баклицкий громко, что бы его услышали, сказал: «Другие бы давно взяли бутылку, и пришли, хоть не прощение просить, так помириться. А эти что-то гнут из себя, невесть что…»
Глава седьмая. ДГМКа.
Джезказганский горнометаллургический комбинат был преобразован из рудоуправления в конце пятидесятых годов прошлого века. Говорили, что он производил до тридцати процентов меди Союза. Первый спецотдел комбината строго хранил государственную тайну, а в открытой печати подобного рода сведения не публиковались. Этой громадной махиной или, используя фразеологию того времени, флагманом цветной металлургии СССР, почти тридцать лет руководил бессменный директор, Виктор Васильевич Гурба. Кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического труда, награжденный множеством Правительственных наград, Государственными и иными премиями, множеством других наград, он стоял во главе уникального двадцатитысячного коллектива. Комбинат имел законченный цикл производства: от добычи медной руды, до выпуска готовой продукции – меди. Медная руда добывалась на пяти подземных и одном открытом рудниках. В средине 60-х годов под землей впервые начали применять подземную самоходную технику, завершили строительство второй, самой крупной в мире обогатительной фабрики по производству медного концентрата, а в начале 70-х – первой очереди медеплавильного завода по выпуску черновой меди. Затем ввели в строй цех по выпуску методом электролиза меди, зарегистрированой на Лондонскои бирже, как эталон качества, с чистотой содержания металла 99,99 % . Вступили в строй крупнейшие в мире шахты-гиганты. За эти годы рядом с комбинатом выросло два крупных промышленных города, множество поселков, в которых проживало, в общей сложности, около 300 тысяч человек. Как мощный монстр раскинулся он на протяжении сорока километров в длину своими предприятиями, врос в спепную землю на громадную глубину стволами шахт и горных выработок, зиял, как открытыми ранами воронками карьеров, дымил трубами различных вспомогательных производств, создал для своих нужд два огромных водохранилища. И всем этим надо было управлять, обеспечивать энергией, людскими и иными ресурсами, материалами, сырьем! Это было созданное на базе Степлага государство внутри государства, четко организованное, почти самодостаточное и дающее колоссальную прибыль стране. Комбинат расширял себя, свои города и поселки, социалную и культурно бытовую инфраструктуру, коммуникации, подпитывал старшего брата, Балхашский горно-металлургический, медным концентратом, обеспечивал Ульбинский афинажный завод сырьем для производства золота и серебра, а страну – стратегическим металлом и иностранной валютой.
Виктор Васильевич добросовестно делал свое дело и в помощники себе подбирал людей только по профессиональным и организаторским качествам. Главный инженер комбината Башилов Борис Иванович на выпускном курсе Московского горного института в 1938 году был осужден по 58 статье за участие в молодежной антисоветской организации и отсидел в лагерях пятнадцать лет. Работал бригадиром, мастером, начальником участка, главным инженером рудника. Назначить человека с такой биографией на номенклатурную должность ЦК надо было еще суметь! Виктор Васильевич сумел. Более того, поселил его в соседнем с собой коттедже, и они открыто поддерживали семьями дружеские отношения.
Заместитель по социальным и бытовым вопросам Агамов Ашот Григорьевич, так же отсидевший десять лет по пресловутой 58 статье, бывший первый секретарь ЦК Комсомола Нагорного Карабаха, был находчив и изворотлив. Как фокусник он умел все! И не только работать. Его вальс-чечетка, исполняемая в особо праздничных случаях, всегда проходила на “бис”, а тосты и анекдоты молва приписывала затем “Армянскому радио”.
Светлым пятном, в смысле отношений с Законом в своем прошлом, был заместитель по экономике Исаев Ордабай Достаевич. Он разработал и внедрил на комбинате СИСТЕМУ бухгалтерского учета и отчетности. Все, произведенные громадным предприятием, затраты были досконально учтены и отнесены на производство конечной продукции. Материалы, сырье и оборудование поступали на комбинат либо на склады отдела материально-технического стабжения, либо сразу в специализированные цеха, и уже от туда на рудники и другие цеха по так называемой внутрицеховой системе учета, распределения и отчетности. Например, поступившие на комбинат, после оплаты, горюче-смазочные материала, буровая сталь, лес и пр., как бы сразу переставали существовать, их стоимость тут же включалась в затраты на производство меди. Бензин, дизельное топливо и масла частично хранились еще на складе, но уже числились за рудниками и цехами. Списание же этими рудниками и цехами производилось по нормам расхода. А норма – единица измерения приблизительная. Попробуй проследи каждый килограмм, литр, штуку, погонный или квадратный метр. При этой системе важно было не хватить лишку и не закупить меньше. Зам. директора по экономики Исаев знал свое дело и, как говаривал Ашот Григорьевич, «каждый день средняя температура по больнице была 36,6 0С».
Заместитель начальника городского отдела внутренних дел капитан милиции Фролов иногда “злоупотреблял” по мелочам. Собрав деньги на Новогодние подарки для детей сторудников можно было сдать их со списком в профком комбината, где их проведя по какому либо цеху и добавив к каждому сданному рублю еще один профсоюзный, возвращили кульками со сладостями. Можно было вселить сотрудника в пустующую квартиру жилфонда ДГМКа, на месяц определить молодого специалиста в профилакторий, по письменному ходатайству отправить отпускника по путевке на санаторно-курортное лечение, детей – в ведомственный детский сад или пионерский лагерь. Знание системы, помогало положительно решать многие, а точнее почти все вопросы.
* * * * * *
«Что пришел, Мишка, что хочешь?» – лежа в кресле спросил Исаев зашедшего в кабинет Фролова-младшего. Несведущий человек мог подумать, что перед ним лежит возомнивший себя баем заевшийся чиновник. Это было не так. У Исаева перелом позвоночника, он затянут корсетом. Его мучают постоянные боли в спине.
«Нет, Ордабай Достаевич, ничего не хочу. Шел вот мимо. Зашёл поздороваться, узнать как дела»,– ответил Мишка.
Исаев приподнял голову не скрывая удивления:
«Неужели ничего не надо твоей милиции, сынок?»
Фролов-младший отрицательно мотнул головой, а Исаев нажав кнопку внутреннего телефона сказал сосредоточенно глядя на него: «Галя, мы выпьем с Мишкой по чашке чая».
«Садись, дорогой, рассказывай сам»,– пригласил он.
Мишка сел, пожал плечами: «Новостей нет».
«А у нас новостей много, и плохих,– начал разговор Ордабай.-Умер Виктор Васильевич, похоронили. Тебя видел на похоронах, а на поминках нет».
«Я не смог, служба. Заходил потом домой к вдове покойного»
«Да, так вот, умер Виктор Васильевич, похоронили ,– не слушая продолжал Исаев.– Знаешь, Мишка, есть такая притча. В старо-давние времена, лев, царь зверей долго правил лесным царством. Он один был львом, а все остальные звери тиграми. Других зверей тогда небыло вообще. Время шло, лев старел и дряхлел и однажды умер. Жена его, львица, не могла его похоронить, так как лежала в логове и ждала потомство. А тигры, вместо похорон, стали спорить, кто из них станет царем зверей. Но достойного среди них не нашлось. Собрались они вкруг возле свое мертвого царя и посмотрели друг на друга. И оказалось, что они вовсе и не тигры. Один был глупый баран, другой подлый шакал, третий трусливый заяц, четвертый вонючий козел и так дальше. Тигром остался только один, который не пришёл участвовать в споре. С тех пор в лесу стало много разных зверей и они не хоронят друг-друга, не устраивают поминки».
Отхлебнули по нескольку глотков чая, помолчали. Ордабай продолжил: «Вот и мы, каждый, возле Виктора Васильевича, считали себя тиграми. А сейчас, смотрим друг на друга и видим упрямых ишаков и послушных баранов. А на поминки, сынок, надо ходить. Мы люди».
* * * * * *
Пройдет совсем немного времени, новый директор комбината
Угрюмов Тамерлан Михайлович соберет новую команду. Но следом наступят другие времена, и не будет уже той стабильности и ощущения незыблимости устоев. Шахтеры и металлурги комбината никогда не будут активно участвовать в забастовках и митингах перестроечного периода, но и этот гигант начнет лихорадить и давать сбои. Являясь одним из сегментов экономики страны он обрастет долгами по зарплате и налогам, будет нести колоссальные убытки из-за недопоставок материалов и оборудования. Но как сказочный исполин будет стоять несмотря ни на что. Комбинат начнет отдавать долги по зарплате шахтерам и другому рабочему люду товарами народного потребления. Эквивалент будет немыслимый: долг по зарплате за 2-3 месяца отдавался автомашиной на Польской или Румынской границе СССР, в Бресте или Чопе. И, шахтеры организованные в группы ехали не на забастовку, а чартерными рейсами, прихватив канистры для бензина, на Западную границу рассыпающейся страны за своей зарплатой.
* * * * * *
Перед самым началом Перестройки председателем комитета народного контроля комбината был избран Углубек Кубеев. Молодой человек с большими амбициями на первых порах был скромен и тих. Понемногу осваивался, входил в курс дел. Параллельно, решив получить второе высшее образование, был зачислен на четверты курс вечернего факультета Джезказганского политехнического института по специальности “автомобильный транспорт” и оказался в одной группе с зав. промотдела горкома партии Поляковым, бывшим инструктором этого же отдела, а ныне главным инженером мясокомбината Деминым.
В этой же группе числился бывший инструктор горкома партии, а ныне заместитель начальника отдела милиции Фролов, появляющийся за занятиях довольно редко, но регулярно сдающий экзамены и зачеты в период сессий. Здесь же учились директор автобазы Шенк, инспектор уголовного розыска Найманов и другие обремененные дожностями лица. Группа была дружной и редкостной по своему составу даже для повидавших всякого преподавателей.
Отношения поддерживали и после окончания института. Особенно стремился к этому Кубеев, прозванный однокашниками «Тупеевым». Сейчас, пригласив Полякова и Фролова, Углубек закрыв дверь кабинета на ключ, выставил литр водки, и подливая в рюмки гостям, поддерживал вяло текущую беседу. Поляков был человек непьющий и застенчивый. Чтоб Углубек не обидился он по-малу пригублял из рюмки, чувствовал себя явно не в своей тарелке, кляня в душе за то, что смалодушничал и не отказался от выпивки. Углубек тоже только пригублял свою рюмку. У него был план, подпоить бывших однокашников и выведать «военную тайну». Фролов был непрочь выпить, но поведение собутыльников что-то отбивало всякую охоту. Разговор явно не клеился. Поляков засобирался домой. Фролов заставил всех выпить по полной на “посошок” и приятели стали прощаться.
Угулбек не вытерпел и задал свой главный, заранее заготовленный, вопрос: «Где, что и как можно разбазаривать и расхищать на комбинате?». Поляков и Фролов переглянулись. Оба они, независимо друг от друга, намеревались перейти на работу в комбинат. Поляков, устав от низкой горкомовской зарплаты неделю назад был на беседе у директора комбината Угрюмова, где получил перспективное предложение. Как раз сейчас он и обдумывал, как убедить первого секретаря горкома отпустить его «на вольные хлеба». Фролов не балее как вчера был приглашен на разговор к Угрюмову. Комбинат вводил должность заместителя директора по режиму и охране и он был наиболее вероятным кандидатом.
«Комбинат, это такая бездна в которой один-два миллиона, как одна-две копейки в бюджете семьи»,– буркнул Поляков.
«Посмотри внутрицеховую систему бухгалтерского учета и отчетности»,– буркнул Мишка закусывая конским мясом и вставая из-за стола.
Попрощавшись с Кубеевым они вышли на улицу. Неспеша шли по вечернему городу, разговаривая, долго не могли расстаться, подходя по очереди то к дому одного, то к дому другого.
«Парень явно хочет или отличиться, или прославиться», – как-то без всякой связи с темой на прощание сказал Поляков.
* * * * * *
На очередное заседание комитета народного контроля комбината был вынесен один единственный, но какой вопрос: «О путях снижения себестоимось выпускаемой продукции». В кабинете тщательно подобранная Кубеевым команда единомышленников – члены райкома НК, председатели групп и постов народного контроля рудников, цехов и крупных участков. Теснота, как говориться, яблоку негде упасть. Отдельной группой приглашенные – главный бухгалтер комбината Абдулла Такишев, замдиректора по материально-техническому снабжению Тусупбек Аккойшиев, начальник отдела материально-технического снабжения ( ОМТС) Александр Рерих, вновь назначеный начальник отдела сбыта Виктор Поляков.
В пухлых папках справочный материал, полученный с боем в центральной бухгалтерии, плановом отделе, ОМТС, отделе сбыта, рудниках и цехах комбината. Целые простыни с громадным перечнем материалов, оборудования, сырья, здесь же, таблицы, колонки и столбцы цифр. Все это в сравнении за несколько последних лет. Здесь же, свежеотпечатанный, только что с пишущей машинки проект решения комитета народного контроля, державшийся до последней минуты в строжайшей тайне. В нем сведения об объемах производства и себестоимости черновой и рафинированной меди за истекшую пятилетку и три последних года – строго охраняемая Государственная тайна, вырванная из недр спецотдела комбината активистами народного контроля. Кубеев шел к этому дню целый год. Два месяца назад прошли перевыборы народного контроля комбината. В его структуры Кубеев провел людей горластых, активно ищущих изъяны в работе администрации. Понятие принципиальность и доброжелательность, в большинстве своем, они подменяли критикой всего и всех, оголделым хамством и демагогией. Некоторые из них были откровенными шизофрениками, или людьми с не сложившейся служебной карьерой, непомерными личными амбициями. Волна перестройки сделает их востребованными, на своем гребне вознесет высоко вверх, к самым вершинам политического Олимпа и бросит назад в бездну, из которой только что подняла. Но это будет позже. А сейчас, они только входили во вкус борьбы с недостатками, изучали экономические показатели родного комбината. Бой был неравный. С одной стороны баррикады были выращенные системой и обласканные ею сторонники, досконально её знающие и беззаветно любящие. С другой стороны – те, кого возбуждал только один вид этих счастливчиков. Они не были против Системы, они были против взращенной ей номенклатуры и готовы были немедленно её заменить собой.
Первый бой не принес победы ни одной стороне. Представители администрации ушли доложить, сославшемуся на занятость и непришедшему на заседание комитета, Генеральному директору Угрюмову его результаты. Комитетчики остались обсудить план дальнейших действий. Вина администрации в нерачительном использовании народного добра осталась недоказанной. Экономического образования Кубеева, старания его помошников, имеющейся информации было недостаточно, чтобы победить. Небыло главного – убедительных фактов и доказанной безхозяйственности. И комитет завернув проект постановление на дароботку негласно поставил задачу найти факты и доказательства. Поиск их затянется более чем на год. Будут распределены роли: мозговой центр, руководители групп, рядовые активисты.. “Народные” контролеры будут проверять правильность расходования буровой стали, сжатого воздуха, электроэнергии, чуть ли не каждого гвоздя. Но ничего из ряда вон выходящего так и не найдут.
Постепенно их энергия и пыл, организованность и сплоченность перейдут в разряд борьбы политической. Борьба выйдет за пределы комбината на улицы города. Люди с плакатами «Угрюмов не пройдет!» будут митинговать на улицах и площадях, протестуя против его выдвижения кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В ход пойдет компромат на его сына, совершившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Отец погибшей девочки, получивший в комбинате новую квартиру улучшенной планировки, кирпич на строительство мазара, автомашину вне очереди и кучу других благ, будет выступать то за одну сторону, то за другую. А горняки и металлурги будут по прежнему трудится на своих рабочих местах в кухонных беседах сочувствую тем или иным бойцам политического фронта, но не принимая активного участия в ни на чьей стороне. Усилия активный борцов всей страны с Системой заведет Перестройку в тупик, Советский Союз развалится, а его осколок Суверенный Казахстан отдаст комбинат, по сути дела, в концессию Южно-корейскому “Самсунгу”. Структура народного контроля исчезнет раньше создавшего её государства. В ноябре 1990 года Народный Контроль будет упразднена. Уже много позже корейцы-капиталисты быстро сделают то, что не смог НК комбината. Они установят жесткий контроль за расходованием оборудования, материалов и сырья и, как всякий собственник, быстро разберутся с неугодными, кому заплатив за лояльность, а кого просто выгнав.
* * * * * *
Ожидание затягивалось. Не вытерпев, Фролов сам пошел к начальнику отдела кадров комбината. С Сабыром Жанабаевым они были хорошо знакомы еще со времен совместной работы в аппарате горкома комсомола, а затем и пратии. Осторожный, уклоняющийся от прямых ответов, Сабыр на этот раз ответил конкретно. Кандидатура Фролова на должность заместителя директора комбината по режиму и охране не прошла по пятому пункту. На верху, или в ЦК, или в Совмине, внесли корректировку – нужен кандидат коренной национальности. Это было эхо декабрьских событии в Алма-Ате. Вот по этой причине, на должность сейчас и ищут сотрудника милиции казахской национальности. Фролов пожал плечами, мол дело ваше, ищите.
«Что ты скажешь о Бораше Баранбаеве?» – поинтересовался Сабыр.
«Я его деловых качеств не знаю ,– ответил Фролов.– Поинтересуйся у руководства областного УВД».
Пожав друг другу руки они расстались.
Через три месяца Бораш Боранбаев, тучный тридцатидвухлетний майор милиции с вьюшимися черными волосами по кличке Барашка Баранович, был откомандирован в Минцветмет Каз.ССР для назначения на должность заместителя директора ДГМК по режиму и охране с сохранением в кадрах МВД. А майор милиции Фролов был назначен заместителем начальника ОБХСС УВД области. Они были ровестники и даже звания “майор” получили одним приказом. Так же одним приказом они станут подполковниками, но на этом схожесть их судьбы заканчивалась. Уже сейчас, их дороги незаметно расходились. Они шли по жизни, вроде рядом, вроде бы в одну сторону, но уже каждый в свою.
Глава восьмая. РЗД.
Через неделю после назначения Фролова заместителем начальника Джезказганского ГОВД по политико-воспитательной работе в его новый кабинет мягкой кошачьей походкой зашел Борис Михайлович Кан. Плотно притворив за собой двойные двери, присел на краешек стула у приставного стола, перевернув титульным листом вниз какое-то дело. Нездоровое, воскового цвета, его лицо было непроницаемым.
«Здравствуй, Миша», – мягким бесстрастным голосом сказал так, будто не виделись день-два. Михаил не видел Кана четырнадцать лет, с того самого дня, когда Фролов старший организовал семейный выезд на уху на берег водохранилища. Кан был с женой Машей, пышнотелой и большеглазой буфетчицей ресторана и дочерью, ровесницей Мишки, большеротой, похожей на лягушонка и свою мать, толстушкой. Отец Мишки, тяжело переживая смерть жены, таскал всюду с собой его и младшую сестру Ирину. Мотористы насосной станции сварили уху из сазана, Кан лично приготовил хе. Потом взрослые вели свои разговоры под брезентовым навесом у насосной, а дети катались на вертлявой плоскодонке. Лодка угрожающе кренилась, черпая бортами воду, и взрослые выгнали детей на берег. Кан поставил на камень пустую бутылку и дал Мишке и Ирине по разу выстрелить из пистолета. Потом оставшиеся в обойме патроны расстреляла его дочь Наташка. Бутылка стояла целой и невредимой. Борис Михайлович вытащил из кармана один патрон, вложил его в патронник, и одним выстрелом разбив бутылку, убрал пистолет. Из этого пистолета в декабре он трижды стрелял в воздух, когда гроб с телом Александры Ильиничны Одинцовой, Мишкиной и Ирининой матери, опускали в могилу. Спустя год, после пикника на берегу, у Кана забрали пистолет и удостоверение, сняв с него капитанские погоны, уволили из органов внутренних дел и отдали под суд. Суд вернул дело на доследование и его, в конце концов, прекратили. Но в органах и партии не восстановили. Не найдя себе применения в гражданской жизни, все эти годы, Борис Михайлович был резидентом по линии уголовного розыска. Каждый раз, с очередной сменой начальника милиции, с резидентом прекращали сотрудничество и, каждый раз, возобновляли. Зарплата резидента, стыдливо называлась ежемесячным денежным вознаграждением, видимо из-за своих скромных размеров, 120 рублей. Кроме того, один раз в год Борису Михайловичу выплачивали вознаграждение с освобождением от выполнения задания на месяц и выдавали к этому отпуску единовременное пособие в размере 40 рублей. За время сотрудничества с органами внутренних дел в качестве резидента Борис Михайлович один раз воспользовался возможностью санаторно-курортного лечения, получив бесплатно под расписку путевку, приобретенную в другом ведомстве из средств статьи «оперативные расходы». Это было выдающееся событие, так как за предыдущую службу в органах он ни разу не был на санаторном лечении. Но все-таки самым выдающимся событием в жизни Бориса Михайловича стало то, что он заработал себе пенсию. Уволенный из органов внутренних дел без пенсии, он пришел к ней другим, тернистым, путем. Выйдя на заслуженный отдых, Борис Михайлович продолжал сотрудничество с родным уголовным розыском в той же роли. Правда, в связи с изменившимся социальным статусом, денежное содержание ему уменьшили. Тем не менее, Борис Михайлович продолжал заниматься тем единственным делом, которое бесспорно умел делать великолепно.
«Здравствуйте, Борис Михайлович!»,– стараясь сделать это как можно дружелюбней, ответил Фролов. На днях, случайно увидев его торопливо удаляющимся по коридору отдела, он был в полном неведении того, что здесь делает Кан.
«Я поздравляю тебя, Мишка, с назначением. Ты не возражаешь, если я выскажу по этому поводу свое мнение?» – поинтересовался он.
«Что Вы, Борис Михайлович, с удовольствием Вас послушаю»,– любезно ответил Фролов, внутренне насторожившись. За эти несколько дней он успел услышать уже много противоречивых мнений по поводу своей новой работы.
«Основой деятельности органов внутренних дел является оперативно-розыскная работа ,– продолжил Борис Михайлович. – Если ты всерьез решил посвятить себя службе в милиции, если ты намерен сделать здесь карьеру, надо готовить себя к оперативной работе и я готов тебе в этом помочь. Знай, что замполиты, работники кадровых и финансовых аппаратов, сотрудники многих других милицейских структур, это всего лишь вспомогательные работники в милицейских погонах»
* * * * * *
Секретарь горкома партии Николай Григорьевич Нагорнов был вне себя. Город наводнили тунеядцы и попрошайки, а этот сияющий начищенными сапогами капитан вчера нес чепуху про какую-то агентурную информацию о предстоящей воровской сходке, а сегодня додумался до того, что пришел просить разрешения на вербовку члена партии.
«Тебя послушать, Борис Михайлович, так своей тени пугаться начнешь. Город у нас маленький, специфический. Половина населения бывшие ОУНовцы, «изменники Родины», «диверсанты», да «шпионы». Их под конвоем сюда привезли, почти всю другую половину населения – по вербовке. Что, некого в агенты вербовать, решил перейти на коммунистов? Эдак ты и нас вербовать начнешь, кстати, а нас то самих, ты к какой половине относишь?» – Нагорнов махнул рукой от стоящего Кана и до безмолвно сидящего за соседним столом для заседаний, покрытым зеленым сукном, председателя горисполкома Левченкова.
«Нас с Вами партия сюда направила на работу, а от этих, бывших, да вербованных подальше советую держаться», – огрызнулся Кан.
«И что теперь, нам людей на партийные документы фотографироваться к Ваське-фотографу, бывшему резиденту японской разведки, не отправлять? А у бывшего переводчика, пособника оккупантов Нахтигаля, ни мне, ни тебе, не подстригаться? – распалялся Николай Григорьевич. – Ты сам где стрижешься?»
«Меня жена дома стрижет»,– тихим, но твердым голосом ответил Кан.
При упоминании о жене на висках Николая Григорьевича вздулись вены, а на скулах появились желваки. Его и без того выдвинутая нижняя челюсть хищно подалась вперед.
«А вот это зря, денег не будет! Иди. В общем, согласия на вербовку я не даю. Лучше почисть город от тунеядцев»,– заключил он.
Кан, по-военному повернувшись кругом, неловко качнулся, на вощеном паркете и вышел из кабинета.
Левченков, до этого все время молчавший, заговорил: «Бериевской закваски, сволочь. На всех компромат собирает. И жену свою приплел не к месту. Стрижет она его, видите ли. Говорят, что в компаниях, о прежней работе официантками, вместе с вашей супругой, чрезмерно часто она упомина…»
Закончить фразу он не успел. Нагорнов, огрев кулаком по столу и брызжа слюной, рявкнул: «В порошок сотру!»
* * * * * *
Рейд проходил успешно. Капитан милиции Кан стоял на крыльце отдела в начищенных до глянца сапогах и, не смотря на лето, в черных кожаных перчатках. Стройную фигуру в кителе и галифе опоясывала портупея. На правом боку, в кобуре, пистолет на кожаном шнуре. Слева от начальника милиции, удерживаемая старшиной Максимишиным на поводке, громадная, с черной спиной, овчарка. Делая уже третью ходку, во двор милиции въезжал «воронок» темно-синего цвета с красной полосой, на базе ГАЗ-51, битком набитый антиобщественными элементами. Овчарка, натянув поводок, кинулась с лаем на подъехавшую машину. Из здания отдела выскочил десяток милиционеров, выстроились живым коридором между «воронком» и дверью дежурной части. Прибывшие на машине милиционеры стали поочередно открывать двери крохотных камер, сопровождая пинками и подзатыльниками выпрыгивающих на асфальт людей. Сразу же, попав в живой коридор конвоя и, ничего не успев понять, они как биллиардные шары, укладываемые один за другим в лузу опытным игроком, влетали в дежурную часть. Разгрузка закончилась молниеносно. Кан, в сопровождении старшины со служебно-розыскной собакой зашел в дежурную часть. Собака, только что, трусливо поджимая хвост рядом с Борисом Михайловичем, при виде доставленных, злобно рыча, опять стала рвать поводок. Максимишин едва держался на ногах от её резких рывков, намотав брезентовый ремень на обе руки.
«Уйми собаку»,– распорядился Кан, проходя вперед и поворачиваясь лицом к издающим смрадный запах, одетым в невообразимые одежды построенным в жалкое подобие двух шеренг, людям.
«Вы не люди, вы позор нашего города»,– при первых же произнесенных им словах овчарка поджала хвост и трусливо прижалась к старшине. Стоящий в первом ряду бродяга по кличке (может, это была фамилия?) Пырх, опасливо прижал руками свою паховую грыжу. Рядом с ним, Женька Орехов, великовозрастный тунеядец, сидящий на шее престарелых родителей, выставил перед собой кулак левой руки, поддерживая его кистью правой.
«Что ты мне, Орехов, под нос суёшь?» – сделав надменное лицо, спросил Борис Михайлович.
Женька разжал кулак. На левой руке его мизинца не хватало одной фаланги, свежей рана кровоточила.
«Дурака валяешь? Откусил что ли, придурок?» – спросил Кан и грозно посмотрел на инспектора уголовного розыска Ванника, квадратного, небольшого роста с красным лицом гипертоника, руководившего доставкой этой партии задержанных. Тот, по достоинству оценив подсказку начальника, извлек из кармана широченных, подвернутых у форменных ботинок и закрепленных на огромном животе милицейским кожаным ремнем гражданских брюк, недостающую фалангу пальца с длинным желтым ногтем.
«Товарищ капитан, мы думали, что случайно при посадке отрубили палец дверью в автозаке,– начал он, оправдываясь и перейдя на гневное обличение, завершил. – А эта сволочь, оказывается, специально сам себе откусил, чтобы дискредитировать органы в глазах гражданского, так сказать, населения! Видите, у него и губы в крови!»
Женька Орехов, перед этим зализывавший рану, чтобы остановить кровь, от изумления потерял дар речи. На его губах действительно были следы крови.
«Вот вам и карты в руки! Профильтруйте туниядцев и алкоголиков, проведите с ними профилактическую работу!» – дал команду Борис Михайлович. Выйдя из дежурной части, направился через дорогу в буфет ресторана, выпить у буфетчицы Маши, как всегда, воскресные сто пятьдесят грамм «Столичной». Он не изменял этой привычке, появившейся в молодости в период работы в уголовном розыске города Караганды. Так и прикипел к этой хохотушке-буфетчице ставшей, к тому же, материю его ребенка. Вшитая в перчатку, со стороны ладони, свинчатка приятно оттягивала руку.
Вечером в отделе внутренних дел началась «фильтрация». Процессом руководил капитан милиции Ванник, успевший основательно принять вовнутрь портвейна. Били задержанных всех подряд, жестоко и умело, а не куда придется. Вот только Женьке Орехову зачем-то на оба глаза засветили синяки, разбили губы, сапогами сломали ребро. Опытный Пырх опережая первый удар, упал на пол и свернулся калачиком. Ему досталось меньше всех. Кан, как и его подчиненые, тоже был не прочь дать волю рукам. У него были свои «коронные» удары. Когда Борис Михайлович хотел свалить с ног, то бил снизу вверх в подбородок. От такого удара человек, оторвавшись ногами от земли, как мешок падал на землю, теряя сознание или от удара в челюсть, или от удара головой о землю. На лице его, как привило, явных следов не оставалось. Когда Борис Михайлович хотел, чтоб его жертве стало больно, он, также, хлестким коротким ударом, бил кулаком в солнечное сплетение. Третий вид удара он применял «на полное поражение». Жертва получала страшный удар головой в лицо. От такого удара человек мог не потерять сознание и даже не упасть, но на долгое время утрачивал всякую ориентацию.
* * * * * *
Часам к трем ночи пьяные милиционеры, закончив «фильтрацию» выгнали из горотдела часть избитых людей. Тех же, у кого не было постоянного места жительства, явных бродяг и тунеядцев, погрузив в «воронок» и вывезли за город в степь. Таких набралось 26 человек. Первую партию «26 Бакинских комиссаров» в количестве пяти человек вывели из машины и построили в одну шеренгу, лицом на восток. Напротив – шеренга милиционеров. Солнце уже проглядывало у горизонта, в предрассветном небе порхали птицы, дул свежий ветерок. Старшина Максимишин, став сбоку милицейской шеренги, достал из планшета вдвое сложенный лист бумаги и огласил приговор.
«Именем Казахской Советской Социалистической республики!»,– торжественно звучал в степи его хриплый пропитый голос. Из приговора следовало, что антиобщественные элементы, объединившись в преступную группу, именуемую шайкой, выбрав местом своих преступных деяний, город Джезказган, явно попирая Закон и нормы морали, в течение длительного времени ведут противоправную деятельность на территории этого города. Подробно перечислялись «заслуги» каждого, за что приговаривались:
«Пырх Вячеслав Ипполитович – к высшей мере наказания, расстрелу; Орехов Евгений Иванович – к высшей мере наказания, расстрелу;
Исмаилов Баймуса Исмаилович – к высшей мере наказания, расстрелу;
Егоров Степан Севостьянович – к высшей мере наказания, расстрелу;
Кухта Григорий Феофилович – к высшей мере наказания, расстрелу».
Услышав столь тяжелый приговор, повидавший всякого на своем веку Пырх, упав на колени, заорал дурным голосом: «Суда не было, беззаконие! Будем жаловаться прокурору!»
Сидор Максимишин, невозмутимо убирая «приговор» в полевую сумку, ответил: «Это приговор внесудебного заседания, утвержден прокурором города Ким Алексеем Петровичем. Обжалованию не подлежит, приводится в исполнение сразу после оглашения!»
«Приготовиться к исполнению!» – подал он команду милиционерам. Стоящий с другой стороны милицейской шеренги Ванник, желая продлить спектакль, жестом руки остановил достающих оружие коллег.
«Погодите. А могилы, что, мы рыть будем? Пусть сами приговоренные и роют. Сидор, неси лопаты!» – скомандовал он.
Только теперь до Пырха дошло, для чего в автозаке лежит шанцевый инструмент. Стоя на коленях, он прикидывал расстояние до железнодорожной насыпи. «Далеко, не добежать, пристрелят. А даже и добежишь, потом все равно ни куда не спрятаться, кругом голая степь»,– лихорадочно соображал Пырх загубленными политурой мозгами.
Максимишин принес лопаты, отошел к Ваннаку и закурил. Коротко бросил: «Копайте, сволочи!»
Пырх, ковырнув каменистую неподатливую землю, понял, рыть придется долго. Глянув исподлобья, увидел, через жидкую милицейскую шеренгу, как из «воронка» бесшумно выскальзывают по одному и, пригнувшись, бегут за железнодорожное полотно остальные «Бакинские комиссары». Пырх растерялся. Как поступить? Закричи он сейчас, укажи милиционерам на беглецов, и, может быть, в суматохе погони удастся спасти свою жизнь. Отвлеки сейчас внимание милиционеров на себя, и, быть может, беглецам удастся спастись. Самопожертвование Пырху было неведомо, и, бросив лопату, он закричал: «Сидор, смотри! Бегут! Бегут, гады! Смотри!». Максимишин и Ванник, все это время старательно делавшие вид, что не видят побега, уставились на Пырха вместо того, чтобы посмотреть в сторону беглецов.
«Чё орешь, падла! Землю рыть не хош?» – грубо оборвал его Сидор и матерно выругался.
Пырх скулил от бессильной злобы на этих тупых руководителей расстрела. Вместо слов из его рта раздавались нечленораздельные звуки. Женька Орехов, поняв, что побег организован самим конвоем, бросив лопату на землю, закричал: «Расстреливать, так уж всех… Чё ето, по-блату отпускать, то…»
«Ладно,– признал свою неправоту Ванник.– Можем и вас отпустить, если дадите подписку никогда не возвращаться в город!»
«Канешна дадим, зачем нам возвращаться эта город,– сразу согласился до этого не понимавший по-русски Исмаилов.– Давай, быстра кагаз пишем».
«Черт с вами!– согласился Сидор, доставая из сумки чистые листы бумаги. – Ставьте подписи на чистых листах, внизу. Текст расписки я потом сам напишу!»
Из первой пятерки в город, по прошествии несколько дней, вернулся один Орехов. В отличие от других, ему было, куда и зачем возвращаться.
Уголовное дело в отношении Кана прокурор города возбудил по другому факту массового избиения. После долгой волокиты в суд оно все-таки попало, но до приговора так и не дошло. Может на такой исход повлияли встречные заявления потерпевших, подтвержденные собственноручными подписями потерпевших, оставленные на чистых листах бумаги Сидору Максимишину.
Занятия с Фроловым по оперативно-розыскной деятельности Кан проводил раз в неделю. Собственно занятия были потом. Начал Борис Михайлович издалека. Карл Клаузевиц, Жозеф Фуше. Если о первой Фролов немного слышал на занятиях по тактике в сержантской школе, то существование второго было для него настоящим открытием. Затаив дыхание, слушал он рассказ о трижды Министре полиции Франции, создателе разветвленной системы политической разведки, провокации и шпионажа, основоположнике агентурно-оперативной работы. Фуше не был первым, кто платил за предательство. Иуды были востребованы всегда. Но он, Фуше, первым в масштабе целой страны на практике осуществил массовое использование платных агентов из преступной среды.
«Пуделю или болонке не одолеть матерого волка. Справиться с ним может или волкодав или прирученный волк. Так и с преступником может совладать лишь тот, кто по природе своей мент, или такой же преступник. Высшим искусством является умение оперативного работника одолеть преступника руками его же собрата по ремеслу»,– наставлял Кан. И опять, от Фуше к Клаузевицу: «Стратегические принципы необходимые для победы – полное напряжение всех сил, сосредоточение возможно больших сил на направлении главного удара, быстрота и внезапность действий, энергичное использование достигнутого успеха».
«В марксистском понимании, как ты знаешь, политика есть концентрированное выражение экономики. А Клаузевиц считает, что война, есть продолжение политики иными средствами, и … всякая эпоха имеет свои собственные войны»,– увлеченно наставлял резидент.
«А теперь от истории вопроса и теоретической части к практике. Вот тебе конкретное архивное агентурно-розыскное дело 1953 года по убийству с расчленением трупа в поселке Рудник. Внимательно его изучи, потом разберем его в деталях, и я отвечу на твои вопросы»,– завершил он вводную часть занятий по оперативно-розыскной деятельности.
* * * * * *
В средине августа 1986 года к Фролову зашел начальник уголовного розыска Геннадии Федосеев. Помялся у порога и, не понять почему, с видом провинившегося школьника промямлил: «Умер Борис Михайлович Кан, родственники просят помочь в организации похорон. Мы, от уголовного розыска, взяли на себя могилу».
«А что надо? Что хотят родственники?» – попытался уточнить Фролов.
«Да толком и не знаю. Вы бы зашли и уточнили, а?» – Гена увильнул от прямого ответа. Все он прекрасно знал, но говорил общие слова. Фролов тоже знал, что родственники, это жена и дочь, живущая в Караганде. С той поры, как бывшего начальника ГОВД капитана милиции Кана выгнали из органов внутренних дел, минуло девятнадцать лет.
Последние два года они жили по соседству. Кан в своей прежней квартире, Фролов переехал в дом по соседству. При случайных встречах, уже сильно больной, Кан делал вид, что они не знакомы. Перед обедом Фролов первый раз, за всю жизнь, зашел в квартиру Бориса Михайловича. Его поразили две вещи: полная нищета и стерильная чистота. В рабочем кабинете трехкомнатной квартиры, где Кан принимал агентов, обшарпанный стол стыдливо застелен оборотной стороной глянцевого плаката. На нем сияющий чистотой граненый стакан с аккуратно заточенными простыми и цветными карандашами, рядом расколотая лупа, ластик, стопка грубой бумаги и очки с бельевой резинкой вместо левой дужки. В комнатах, по давно не крашеному полу, протоптаны глубокие дорожки. В туалете аккуратна нарезанная стопка пожелтевшей от времени, не издающейся с 1973 года, газеты «Джезказганский рабочий».
Хоронили Бориса Михайловича на городском кладбище под троекратный салют автоматчиков, при участии жены и дочери, десятка сотрудников уголовного розыска, нескольких соседей и двух-трех разукрашенных татуировками неопределенного возраста мужиков. Прощаться с Каном таких мужчин и женщин приходило великое множество. Молчаливые и безликие, тенями проскользнули они мимо гроба, исчезнув так же незаметно, как и появились. На кладбище, таких, поехало трое. Потом, на поминках выходя из столовой возле дома покойного, один из этих мужиков неожиданно привлек к себе внимание, запев приятным хриплым голосом:
«Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казенный дом…
Быть может старая тюрьма центральная,
Меня парнишечку, поновой, ждет.
Таганка, те ночи полные огня,
Таганка, зачем сгубила ты меня…»
Через два года, проснувшись с похмелья в предрассветной тишине в своей пустой трехкомнатной квартире, лежа на измятой не свежей постели с мерзким настроением, Фролов услышит через приоткрытое окно этот голос и эту песню. Он будет лежать и слушать, стараясь запомнить слова и мелодию, боясь, что идущий по улице человек вдруг передумает и замолчит. Тошнота откатит от горла, чувство вины и тревоги пройдет. Он бросится к окну, распахнет его со странным желанием, разглядеть лицо певца, но, опоздав, увидит лишь его затылок. В это раннее утро Фролов поймет, что его квартира в сталинском доме так же убога и, потому так же аккуратно убрана, как и у его учителя.
«Значит, живу я не правильно»,– подумает он, погружаясь в дремоту. И ему приснится странный сон, в котором Д’Артаньян скажет интересную фразу: «Мы, гасконцы, бедные, но гордые и честные. А ты, майор, бедный, потому что гордый и честный».
Все смешалось в один громадный пестрый клубок. Социалистическое общество, перестроившись, начинало жить по воровским законам, основными принципами которых было: ни кому не верь, ни кого не бойся, ни у кого ничего не проси, отдай долю в «общак»…
«Что же будет с Родиной и с нами…» – пел на всю великую страну главный ленинградский ДДТшник Шевчук…
Глава девятая. Яблоки.
Полковник Аханов, находясь в дурном расположении духа, зашел в дежурную часть горотдела милиции. Не обращая никакого внимания на вскочившего и изобразившего подобие стойки «смирно» оперативного дежурного, подошел к радиостанции.
«Сто сорок два, сто сорок два! Где ходишь?» – крикнул в трубку.
«Иеду, иеду!» – ответил водитель-азербайджанец.
«Давай, возьми меня. Где знаешь!» – поторопил полковник и, положив трубку на рацию, погрузился в мысли. Мысли были не веселые. Вчера утром ему позвонила и попросила приехать на пост номер один по охране первого секретаря обкома партии его жена Тамара Николаевна Нагорнова. Разговор для Аханова был крайне неприятный. Тамара Николаевна, взяв у дежурного милиционера ключ, повела его в подвал. Там указала на стандартный деревянный ящик для фруктов. На дне ящика, среди стружки, лежало три крупных плода Алма-Атинского апорта
«Десять дней назад,– поведала она. – Николай Григорьевич привез из Алма-Аты ящик яблок. Поставив их в подвал супруг, через два дня, вновь поехал в ЦК, взяв с собой в Алма-Ату и меня. Вчера, мы вернулись. Готовясь, к встрече гостей, я пошла в подвал и обнаружила, что яблок нет. Вот, жалкие остатки»,– показала она рукой на ящик.
«Это неслыханно, – продолжала Тамара Николаевна.– Мы, с Николаем Григорьевичем, относимся к ребятам-охранникам как к членам семьи. Всю осень я разрешала им каждый день брать из кладовой по одному арбузу, угощала дынями, виноградом. Иногда, с праздничного стола, угощаю тортом или пирожными. Но чтобы самим, без спроса… это выходит за рамки! Пожалуйста, товарищ полковник разберитесь».
Протянув Аханову ключ, Тамара Николаевна пошла прочь. Полковник срочно вызвал инспектора своего отдела, командира роты патрульно-постовой службы и командира взвода, весь личный состав поста. Пол оставшегося дня и пол ночи бились Аханов и его помощники с четырьмя постовыми милиционерами. Результат был нулевой. Милиционеры, и вместе и порознь, твердо стояли на своем: «Яблоки мы не крали, знать, ничего не знаем, ведать не ведаем». Ночью Аханов уехал домой, немного отдохнуть, поручив помощникам произвести полную замену личного состава первого поста, а «штрафников» держать в отделе до его приезда. Ни свет ни заря, он продолжил дознание и попытался привлечь этой работе начальника милиции и его заместителя по службе. Но те, через начальника УВД, лихо, переведя стрелки на его же отдел, под благовидными предлогами, покинули расположение. Как не изощрялся Аханов, кто взял яблоки, оставалось загадкой.
На душе у полковника было гадко. Неожиданно его осенило и он, выйдя из дежурной части, поднялся на второй этаж. Не доходя до класса службы, решительно повернул в кабинет начальника политчасти. Войдя в него, сел на стул рядом с приставным столом и протянул руку Фролову, давая возможность молодому сотруднику поприветствовать ветерана органов внутренних дел рукопожатием. У казахов принято не так. Молодой должен первым протянуть две руки для рукопожатия аксакалу, а то, вяло, как бы нехотя, подать свою, но так, чтобы младший, для рукопожатия, или потянулся, склоняясь, вперед, или сделал еще шаг навстречу. Аханову, сейчас, было не до церемоний. Поправив на красном лице, с сизым, как у заправского выпивохи носом, большие очки в ядовито-желтой оправе, Аханов начал: «Уважаемый Михаил! Партия, проявляя заботу об органах внутренних дел, возродила в них политотделы. Это не халам-балам. Тебе оказали большо-о-о-е доверие, назначив начальником политчасти. Ты, теперь, выше, чем заместитель начальника милиции. Это надо понимать!»
Фролов, поставленные партией задачи понимал и утвердительно кивал головой. Аханов, распаляясь от собственного красноречия и кабинетной духоты, сняв с головы папаху и расстегнув шинель, продолжал: «Сотрудников, молодой человек, надо хорошо-о-о воспитывать. А они, в твоем отделе, часто и много чего нарушают! Ты должен вникать, как они несут службу. Контролировать. Воспитание непреры-ы-ы-вный процесс! Ты знаешь, что у Николая Григорьевича Нагорнова твои милиционеры яблоки в подвале украли? Не знаешь? Как же ты их воспитал? Иди, разбирайся. Они все там сидят». Полковник махнул в сторону класса службы.
«Поеду я, отдохну. А ты разберись и вечером доложи мне и в политотдел»,– подвел итог разговора, вставая со стула и нахлобучивая на голову папаху.
Настроение полковника немного улучшилось. У него появилась надежда, что ответственность за произошедшее все-таки удастся разделить с руководителями горотдела… Все меньше достанется самому! Аханов вышел на крыльцо и, не обнаружив автомашины, вернулся к радиостанции.
«Сто сорок второй, джуз кырк еке! Эй, где ты ходишь?» – грозно прорычал он в трубку.
«Уже, уже, иеду. Уже издес»,– по радиостанции вместе с гулом двигателя раздался звонкий голос водителя, а под окнами, характерный визг тормозов его милицейского УАЗика.
* * * * * *
Сержант Утенов был дальним родственником начальника отдела охраны общественного порядка УВД полковника Аханова и дежурного УВД подполковника милиции Курамшина. Отслужив в строительных войсках, после окончания сельского профессионально-технического училища, положенные два года, он решил не возвращаться в свой родной Карсакпай. После закрытия флагмана первых пятилеток медеплавильного завода работы там не было, поселок хирел на глазах. Даже узкоколейную железную дорогу частично демонтировали. По совету уважаемых и авторитетных родственников уволенный в запас ефрейтор Утенов с характеристикой из войсковой части дипломом об окончании Карсакпайского СПТУ по специальности «мастер машинного доения» прибыл в отдел кадров УВД. Спустя месяц, после качественно проведенной проверки по специальным оперативным учетам МВД, он был назначен на должность милиционера патрульно-постовой службы ГОВД. В первый же рабочий день его поселили в общежитие и заставили написать рапорт о включении в список очередников на получение жилплощади, а через год, приняв кандидатом в члены КПСС, перевели на пост № 1 по охране первого секретаря обкома партии. Пост, в виде небольшой теплой будки с громадными окнами, располагался во дворе пятикомнатного коттеджа, обнесенного глухим деревянным двухметровым забором, окрашенным в темно-зелёный цвет. Этот забор был оборудован сигнализацией с выводом одновременно на пульт вневедомственной охраны и будку поста. Семья первого секретаря обкома Нагорнов состояла из его самого и жены. Две его дочери давно вышли замуж и жили одна в Темиртау, другая в Чимкенте. Служба у Есена Аханова была спокойной и не требовала никаких физических и умственных усилий. Выспавшись, за сутки дежурства на посту и намаявшись от вынужденного безделья, Есен трое суток отдыхал затем дома. Годы летели незаметно, Есен женился, получил однокомнатную квартиру, жена родила ему двух дочек. Зарабатывал он по городским меркам немного, всего как рядовой инженер. Но мясо и масло привозил от родителей, форменную одежду выдавали на службе, проезд в городском транспорте был бесплатный, за квартиру, коммунальные услуги и электроэнергию платил пятьдесят процентов. Единственное, что не давало Есену покоя, это то, что каждый отпуск он не мог использовать бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Ему просто некуда было ехать. В первый свои милицейский отпуск Есен, подписывая у замполита отпускное удостоверение, застенчиво поинтересовался, где и как можно получить проездные документы для приобретения билета на автобус до поселка Карсакпай. Билет стоил 1 рубль 80 копеек. В советских «доперестроечных» рублях, по эквиваленту это было половина цены бутылки водки. Замполит, узнав, что Есен нигде в жизни не был кроме Карсакпая, областного центра и стройбата за колючей проволокой в степи возле станции Тюратам, убедил его переписать рапорт и оформить отпуск с выездом в Москву. Билет на самолете до Москвы стоил 48 рублей, или по тому же эквиваленты примерно 13 бутылок водки. За 26 бутылок бесплатной водки, вместо одной, Есен, слетав на три дня в Москву, побродил по Красной площади, побывал в Кремле и Мавзолее и, утомленный, полон впечатлений, остальную, большую часть своего отпуска, провел в родном Карсакпае. Правда, билет до него, на автобус, уже пришлось брать на свои, кровные.