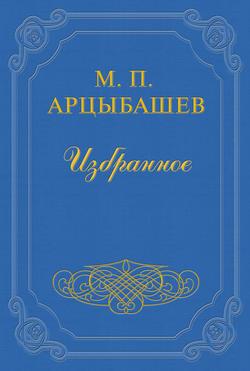Читать книгу Миллионы - Михаил Арцыбашев - Страница 1
I
ОглавлениеМежду темным небом и морем, как дымка, стоял ровный свет луны, кругло и ясно вставшей над горизонтом. На деревьях сада, точно рой откуда-то налетевших огненных колибри, качались и прыгали на невидимых проволоках маленькие разноцветные фонарики. С нелепо освещенной эстрады, где черный паяц-капельмейстер, потешно взмахивая руками и фалдочками, порывался куда-то взлететь, разлетались во все стороны отчеканенные скрипичные звуки, взвизгивали, смеялись и пели, легкими узорными хороводами вылетая из-под темных деревьев на открытый, завороженный лунным светом морской берег. Там танцевали они перед лицом светлой луны, как легкие эльфы, незримые и таинственные в своей призрачной минутной жизни.
Скрестив мощные руки на холодном мраморе столика, Мижуев молча и угрюмо посматривал по сторонам.
Когда он взглядывал на эстраду, все казалось ему суетливо мелким и бестолково шумным, а когда поворачивался в сторону моря, становилось величаво спокойно, задумчиво свободно, как сама высокая светлая луна.
Крутая русая борода его и массивные плечи возбуждали представление о страшной силе и твердой воле, но глаза Мижуева были нездоровые, углубленные, какие бывают у обреченных на смерть.
За соседним столиком кутила компания господ в белых шляпах, ухарски проломленных на боку, и нарядных дам, с резко красивыми лицами и неестественными, подрисованными глазами. Все они громко смеялись, чокались узенькими, как стрекозы, рюмочками, и не переставая острили, при каждой остроте повышая голоса и оглядываясь на Мижуева, причем и у мужчин, и у женщин было мелькающее, выжидательно ищущее выражение. А неподалеку, склонившись вперед, точно нежа под мышками свои белые салфетки, стояли лакеи и не спускали глаз с Мижуева, как будто собирались но первому его знаку бежать и стремглав бросаться в море.
Мижуев и видел все, и не замечал. Когда-то это забавляло его, но теперь было только докучно и так привычно, как воздух, от которого не уйдешь и уходить не надо.
– Теодор, отчего ты такой скучный сегодня? – спрашивала его Мария Сергеевна, робко дотрагиваясь пальчиком до крутого локтя.
На ней было вызывающее красивое платье, чуть-чуть открывающее ноги, а на темных пышных волосах качались нежно-розовые цветы шляпы, грустно гармонировавшие с ее подрумяненными щеками, печально мерцающими глазами и страстно окрашенными губами.
Мижуев медленно, как больной вол, повернул к ней свою упрямую голову и промолчал.
Она была так же возбуждающе красива, как и прежде, и так же сквозь черное кружево светилось ее необыкновенно выхоленное тело. При взгляде на нее у всякого мужчины рождалось острое и требовательное представление о каких-то невозможных сказочных наслаждениях. Но то, что она утратила свое прежнее имя – Марии Сергеевны – и стала называться Мэри, и то, что перестала называть его Федей и вы, а стала звать Теодором и ты, и то, что она бросила любимого мужа и стала жить с Мижуевым, убило в нем бывшую еще так недавно благоговейную страсть и возбуждало по временам холодную необъяснимую злобу.
Даже тогда, когда, возбужденный ее голым покорным телом, уже робко просящим ласки, Мижуев целовал и мял ее со звериной жестокостью, он уже не чувствовал былой радости, а испытывал только плоское жестокое удовольствие, придумывая неестественные положения, делая больно и унизительно.
Казалось, что он мстил ей за что-то, и видно было, что сам страдал какой-то невысказываемой мукой.
И Мария Сергеевна понимала, отчего это, и потому у нее стали печальны и робки глаза, как будто не смевшие молить о пощаде.
– Пойдем, – коротко сказал Мижуев, поймав остро любопытные взгляды в их сторону, и встал.
Она тотчас же торопливо поднялась и пошла с ним рядом, по всегдашней своей милой неловкости, которая когда-то до слез умиляла Мижуева, путаясь в кружевах юбки, теряя то платок, то сумочку и забавно пугаясь этого.
Они вышли на берег, где властвовали темное море да светлая луна, и на самом конце мостков сели на скамью.
Впереди и с боков, со всех сторон было море, и блестящая вода бурно крутила лунный столб. Какая-то бесконечная мелодия-шум, плеск и глухие удары о мол, – среди которой все время что-то звенело тоненьким хрустальным и слышным, и как будто неслышным голоском, непрестанно тянулась над безбрежным движущимся простором и трогала таинственные грустные струны, будя воспоминания и безотчетное отчаяние в самой глубине души. Порой налетал упругий ветер, и тогда невидимые брызги, заставляя вздрагивать, покрывали лицо и руки мелкой холодной пылью.
Мижуев смотрел на лунный столб, крутящийся в металлически темной воде, и молчал. Как всегда, когда он ночью смотрел в глубину, какое-то тоскливое чувство чуть-чуть шевелилось в нем. Было оно еле заметно и трудно уловимо, но за ним вдруг забывалось все, что окружало его. И становилось пусто и темно.
– Я хотела поговорить с тобою, Теодор, – заговорила Мария Сергеевна, и с первого слова было слышно, что она боится, как бы он не рассердился, даже не выслушав ее.
Мижуев молчал, и казалось, что он не слыхал ее слабого голоса за шумом и плеском прокатившейся под мостками волны. Далеко, пока видно было при луне, легла вдоль берега белая полоса пены и растаяла, как снег, а за ней уже надвигалась, бурля и вырастая, новая волна.
Мария Сергеевна полными никому не видных слез глазами посмотрела на Мижуева и, судорожно рванув платок, встала.
– Это невыносимо! – сдавленным слабым голосом сказала она, чувствуя, что вся дрожит и от унижения, и от холодного ветра. – За что ты меня мучаешь?
Мижуев упорно, не глядя на нее, пожал широкими плечами…
Мария Сергеевна замолчала, продолжая рвать свой платок и дрожа всем телом, казавшимся удивительно слабым и изящным на фоне огромного волнующегося простора.
– Я не могу больше… – заговорила она быстро, все возвышая голос. – Ты не имеешь права презирать меня!.. Не имеешь права мучить и унижать!.. Если я и не устояла перед твоими миллионами, как ты говоришь…
– Я этого никогда не говорил! – угрюмо возразил Мижуев, упрямо глядя в лунный столб, сверкающий в волнах миллиардами прыгающих голубых звезд и сливающийся на горизонте в таинственное светлое, резко отрезанное от темного неба сказочное царство.
Опять Мария Сергеевна внезапно замолчала, сбитая и раздавленная мучительным недоумением. Все существо ее знало, что он постоянно говорил это, а между тем память не могла подсказать ни одного похожего слова. И она только чувствовала, что погибает в холодном, пустом и неотвратимом, где она – такая слабая и беспомощная, что – даже не знает, что сказать, как защищаться и против чего.
– Но ты так думаешь… я знаю… А если это даже и так, то ведь… Ты сам хотел этого… Ну, пусть, пусть! – схватившись обеими руками за виски, с отчаянием заговорила Мария Сергеевна. – Но какою ценою я заплатила за эти миллионы! Они у меня душу отняли… я научилась презирать себя, как последнюю тварь… и что-нибудь одно: или… Как хочешь, но я не могу больше, не могу. Я…
Она опять потеряла слова и только отчаянным, бессильным взглядом оглянулась на темную страшную воду. Руки ее шевелились, и губы дрожали.
– Если ты сама презираешь себя, как последнюю тварь, то как же мне относиться к тебе? – вдруг неожиданно спросил Мижуев, не спуская блестящих глаз с воды.
– А! – потерянно вскрикнула Мария Сергеевна и, упустив сумочку и платок, которые сейчас же снесло в море, закрыла лицо руками и быстро пошла прочь, почти побежала, путаясь в длинном, подхваченном ветром платье. Тоненькая женская фигура неверно заколыхалась в пустом ветреном пространстве, над темной, неустанно катящейся на берег водой.
Мижуев проводил глазами маленький белый кусочек материи, который высоко поднялся над гребнем вспененной волны и вдруг сразу исчез во мраке упавшей холодной бездны.
Что-то теплое шевельнулось у него в душе, и, не выражая его словами даже самому себе, Мижуев встал и быстро догнал Марию Сергеевну.
Маленькие покатые плечи ее были сжаты и над ними смутно белел тонкий наклон бледной от лунного света шеи. Услышав его шаги, она сейчас же остановилась, но не подняла головы и стояла по-прежнему, закрыв лицо руками и опустив большую светлую шляпу. Такая маленькая, изящная и жалкая до слез.
– Ну, полно, Мэ… руся… – путая ее прежнее и теперешнее имена, с мгновенно выросшей жгуче-жалостливой лаской, сказал Мижуев и обнял ее за плечи. – Прости меня… Я не хотел тебя обидеть!
Он ждал, что она капризно оттолкнет его, вырвет руки, станет чужой и холодной, и страшно боялся этого. Ему показалось, что тогда он станет совсем одиноким. Но она только прижалась головой к его груди и робко подняла лицо навстречу его губам, беспокойно и вопросительно глядя большими от лунного света и слез глазами. И в мокрых глазах, и в уголках страдальчески улыбающихся губ Мижуев увидел покорное, обрадованно прощающее выражение, какое бывает у побитых и потом приласканных маленьких зверьков и детей.
И мгновенное чувство приятной ему самому теплоты и жалости исчезло, как не бывшее, оставив холодок досады и нарастающего раздражения. Он холодно поцеловал ее в теплые и влажные губы и, слегка отстраняясь, сказал:
– Не капризничай, пожалуйста… Это скучно, наконец… Чего ты хочешь… не понимаю!..
Он помолчал, упрямо глядя в сторону, и прибавил:
– Пора домой!
Как бы желая сказать: прости… может быть, я и не права, не знаю… мне показалось, что меня не любишь и презираешь, а это так невыносимо… – она растерянно улыбнулась и заторопилась. Они пошли рядом молча. Белая холодная луна и непрестанно шумящее море остались позади, а навстречу уже летел рой танцующих звуков. И что-то по-прежнему стояло между ними.
Когда они ехали домой, Мижуев ногою ощущал прикосновения ее упругого тела, ускользающего за сухой жесткой материей, видел тонкий, точно нарисованный бледными красками профиль женской головы, понурившейся в какой-то непосильной думе, и спрашивал себя:
– Что же встало между ними – человеком, который столько лет молился на нее, боясь даже думать о ее наготе и ласках, и милой, прекрасной женщиной, которая так любила своего тихого мужа, так просто, точно старшая сестра, относилась к нему самому, и казалась такой целомудренно чистой, несмотря на то, что была замужем.