Ирония идеала. Парадоксы русской литературы
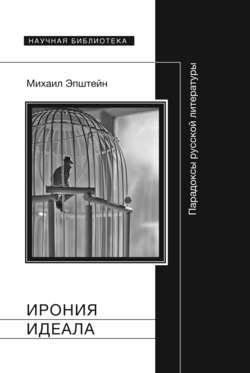
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Михаил Эпштейн. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Раздел 1. Титаническое и демоническое. Наследники Фауста
ФАУСТ И ПЕТР НА БЕРЕГУ МОРЯ: ОТ ГЕТЕ К ПУШКИНУ
МЕДНЫЙ ВСАДНИК И ЗОЛОТАЯ РЫБКА: ПОЭМА-СКАЗКА ПУШКИНА
РОДИНА-ВЕДЬМА: ИРОНИЯ СТИЛЯ У Н. ГОГОЛЯ
Раздел 2. Великое в малом. Потомки Башмачкина
БЛАЖЕННЫЙ ПЕРЕПИСЧИК: АКАКИЙ БАШМАЧКИН. И КНЯЗЬ МЫШКИН
ФИГУРА ПОВТОРА: ФИЛОСОФ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ. И ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОТОТИПЫ
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ: CИНДРОМ БАШМАЧКИНА-БЕЛИКОВА
Раздел 3. Ирония гармонии
ДЕТСТВО И МИФ О ГАРМОНИИ
ОСТРАНЕНИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО
ГЕРОИКА ТРУДА И ЭДИПОВ КОМПЛЕКС СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Раздел 4. Бытие как ничто
ПРОЩАНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ, ИЛИ НАБОКОВСКОЕ В НАБОКОВЕ
ТАЙНА БЫТИЯ И НЕБЫТИЯ У ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. МЕЖДУ НЕБЫТИЕМ И ВОСКРЕСЕНИЕМ
СОН И БОЙ: ОБЛОМОВ – КОРЧАГИН – КОПЕНКИН
Раздел 5. Молчание слова
ЯЗЫК И МОЛЧАНИЕ КАК ФОРМЫ БЫТИЯ
ИДЕОЛОГИЯ И МАГИЯ СЛОВА. СЛОВО-ФИКЦИЯ У А. ЧЕХОВА, Д. ХАРМСА И В. СОРОКИНА
РУССКИЙ КОДЕКС МОЛЧАНИЯ. ПОЛИТИКА И МИСТИКА
Раздел 6. Безумие разума
МЕТОДЫ БЕЗУМИЯ И БЕЗУМИЕ. КАК МЕТОД: ПОЭТЫ И ФИЛОСОФЫ
ПОЭЗИЯ КАК ЭКСТАЗ. И КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Б. ПАСТЕРНАК И О. МАНДЕЛЬШТАМ
ЛИРИКА ИДИОТИЧЕСКОГО РАЗУМА. ФОЛЬКЛОРНАЯ ФИЛОСОФИЯ. У Д.А. ПРИГОВА
ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
SUMMARY
The Irony of the Ideal: Paradoxes of Russian Literature. Mikhail Epstein
Отрывок из книги
В момент своего зарождения, в середине XIX века, сравнительно-исторический метод был направлен против романтической эстетики, для которой главным было проникновение в творческий дух произведения, его своеобразие и неповторимость личности автора. Новизна и ценность сравнительной методолoгии состояли в том, что была открыта зависимость произведения от литературной среды и влияний. Художник, еще недавно представавший свободным гением, теперь стал рассматриваться как посредник в обмене сюжетов, образов, идей, переходящих из одной литературы в другую.
Однако последовательное применение этого метода, трактующего литературу не как плод органического творчества, а как среду культурного общения, в конце концов стало тормозить развитие литературоведения5. По справедливому замечанию Д. Дюришина, «второстепенные писатели с контактно-генетической точки зрения часто гораздо более пoказательны, чем первостепенные, потому что они осуществляют преемственность межлитературных ценностей более прямолинейно»6.
.....
Правда, у Гeте появляется чета стариков, чье патриархально-идиллическое счастье, да и сама жизнь разрушены наступательным прогрессом фаустовского труда. Это заставляет усомниться в его нравственной ценности. Но здесь разница с пушкинской поэмой выступает особенно зримо. Филемон и Бавкида прожили жизнь сполна, их, старцев, оттесняет молодое время, их гибель как бы предрешена естественным порядком вещей. Пушкинские Евгений и Параша – молоды, через них сама природа еще не успела достичь задуманной цели, их союз разрушен в самом начале. Удар, нанесенный государственной утопией семейной идиллии, тут приходится глубже – по самому основанию. Утрата – противоестественнее и болезненнее, да и место ее в пушкинском повествовании иное, чем у Гeте: не как предварение последним славным деяниям Фауста и его итоговой минуте, а как опровержение петровских свершений и вызов его памяти и памятнику – увековеченному мгновению. Филемон и Бавкида, Евгений и Параша – в обоих случаях именно супружество оказывается несовместимым с единоличной волей строителя, определяющей судьбы людей. Гибнет родовое – утверждается личное, гибнет частное – утверждается государственное, личность во главе государства, государство личности, власть «я». Но если последнее слово Пушкина – о погибшем Евгении, то последнее слово Гeте – о восторжествовавшем Фаусте, не тихая печаль о бедном безумце, но громкое ликование о душе, обретшей бессмертие и высшую истину. Похожий сюжет развивается у Гeте и Пушкина в противоположных направлениях: от жертвы и разрушения – к осмысленному и свыше оправданному деянию; от великого устроительного свершения – к разрушению и жертве.
До сих пор мы не учитывали еще одну существенную разницу: Филемон и Бавкида гибнут по вине строителей – Фауста и Мефистофеля; Параша, а вслед за ней и Евгений – по вине разбушевавшейся стихии. Петр, кажется, не несет ответственности за наводнение, напротив, он всеми силами старался укрепить город. Но ведь и Фауст не приказывает убивать Филемона и Бавкиду, он только просит Мефистофеля переговорить с ними, посулить выгодное переселение, в результате же дом загорается, как бы заранее освобождая место для градостроительства. Виноват, конечно, Мефистофель – посредник между Фаустом и миром, искажающий добрые начинания героя. Но ведь и все строительство плотин, весь грандиозный проект осушения болот и поселения «народа свободного на земле свободной» – тоже осуществляется Мефистофелем, который выступает как «смотритель» работ: Фауст уже слеп от старости. Толпы рабочих, которые целыми днями орудуют лопатами, олицетворяя грядущее трудовое человечество, – лишь подставные фигуры для наведения идиллического глянца на дьявольский замысел. На самом деле работают по ночам какие-то адские силы, озаряющие мрак, о чем говорит Бавкида: «Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых: Пламя странное ночами Воздвигало мол за них» (перевод Б. Пастернака).
.....