Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров
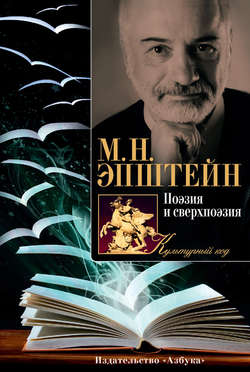
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Михаил Эпштейн. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров
Предисловие
Введение. О целях поэзии
Часть I. Поэзия
Раздел 1. Легенды и каноны
От Орфея до Мандельштама. О природе поэзии
Три лика классики: Державин – Пушкин – Блок
Вещее косноязычие
Тайная свобода
Творимая легенда
Манящая бездна
Раздел 2. Голосов перекличка
Поэты-рифмы
Гёльдерлин и Батюшков: свет безумия
Лермонтов и Пастернак: мудрость лета
Под занавес. Театральность у А. Пушкина и О. Мандельштама
Чудо и закон. О поэтических мирах Б. Пастернака и О. Мандельштама
Иноязычие. Поэзия и каббала
Пастернак, хасидизм и «искры мироздания»
Мандельштам, талмудизм и «учебник бесконечности»
Золотой локон и розовая точка: интуиция живого у Пушкина и Тарковского
Зимние стансы: И. Бродский и Е. Евтушенко
Раздел 3. Новые движения в поэзии
Между концептуализмом и метареализмом
Поэзия как самосознание культуры
О концептуализме
О метареализме
Шкала поэтических стилей
От метафоры к метаболе. О «третьем» тропе
«Как труп в пустыне я лежал…» От лирического «я» к лирическому «оно»
Манифесты новой поэзии (1980-е)
Зеркало-щит. О концептуальной поэзии (1985)
Что такое метареализм? Факты и предположения (1986)
Каталог новых поэзий (1987)
Приложение. М. Эпштейн – И. Кутик. Диалог о современной поэзии (1995)
Раздел 4. Текст и судьба
Возраст поэта
Развоплощение себя. О Д. А. Пригове
Лирика сорванного сознания у Д. А. Пригова
Народное любомудрие
Сорванное сознание. Мир без резьбы. Всечто и всекто
Банальность абстракции. Многодумное бессознательное
Поэт древа жизни. Космизм и приватность у Алексея Парщикова
Книга Иова. Космизм и метареализм
Приватность
Авангардная эпичность
Метареальное сообщество
Текст и судьба
«Как нас меняют мертвые…» И. Бродский и А. Парщиков
Раздел 5. Оригинальность и цитатность
О новой сентиментальности. Т. Кибиров и другие
Поэзия как состояние
Безавторская поэзия
Поэтический шум. Неофольклор
Симбиоз писателя и читателя
Ворованное и дарованное
Поэтический кристалл – бесконечное стихотворение
Часть II. Сверхпоэзия
Раздел 6. Поэзия природы
Поэзия природы и природа поэзии
Лирическая философия природы
Пейзажи воображения
O приемах пейзажной фантазии
Раздел 7. Поэзия общества
Поэзия хозяйства
Поэзия права. Белый дуб в Афинах
Поэзия и власть
Раздел 8. Поэзия вещей
Лирический музей
Между складом и свалкой. Поэзия домашнего
Новая мемориальность. От эпики к лирике
Значение единичного. Космодицея и антроподицея
Вещи-метафоры
Фантик
Калейдоскоп
Вещь как слово о себе
Вместо заключения. О мудрости вещей
Раздел 9. Поэзия мысли и языка
Лиризм в философии
Афористика как поэзия понятий
Логопоэйя. Слово как произведение
Что такое логопоэйя?
Слово в поисках смысла
Типы новых слов
Специфика логопоэйи как жанра
Стилевое и структурное многообразие однословий
Прием скорнения. Поэтизмы и прозаизмы
Однословие, афоризм, гипограмма
Искусство вариации. Анафразия и полифразия в языке и литературе
Что такое анафраза?
Анафраза и хиазм
Структурные варианты анафраз
Четыре уровня анафразии. Фразоизменение и фразообразование
Полифраз как литературный жанр
Анафразия как генератор метафор и образотворчество
Анафразия и перевод
Двойная спираль языка. Поэзия синтагмы и парадигмы
Раздел 10. Сверхпоэзия: поэтический вектор цивилизации
Прогресс и поэзия
Антропопоэйя и технопоэйя
Физика поэзии
Космопоэйя и биопоэйя
Социопоэйя и эконопоэйя
Ноопоэйя. Наука как сверхпоэзия
Ритм и система ограничений
Самотворение человека
Заключение. Власть поэзии
Библиография
Рекомендуемые книги о поэзии
Работы Михаила Эпштейна о поэзии
Summary
Отрывок из книги
Эта книга – о поэтическом во множестве его проявлений: языковых, образных, исторических, космических. Поэзия – это не только стихи, она живет в природе и в обществе, в бытии и в мышлении.
Что мы, собственно, понимаем под поэзией? Это особое, творческое восприятие мира, которое улавливает в каждом явлении образ других явлений, их отражение, отголосок. Например, внешнее пространство выступает как образ внутреннего, и наоборот:
.....
Сопоставление Л. Толстого с Державиным кажется неожиданным, но есть нечто общее, национально-архетипическое в богатырских фигурах этих двух старцев, стоящих на рубежах веков, в начале и конце русской классической литературы, и придающих ей тот героический масштаб, ту тягу к великому и чрезмерному, которая менее ощутима в середине XIX века. Державин и Толстой – корневые явления русской литературы, самые мощные и жизнеспособные выходы в нее из народной почвы. Недаром оба они дожили до глубокой старости, превзойдя в этом отношении почти всех именитых соратников по литературе, – их жизнь поистине вековая, подводящая итог тем столетиям (18-го и 19-го), опыт и смысл которых они вобрали, успев перешагнуть в следующие века, чтобы передать им наследие и завет предыдущих. Все сполна испытали они в жизни: бранные тревоги и мирный, обильный плодами труд, заботы большого хозяйства, радости и горести семейного очага, энтузиазм общественно-устроительных дел, гнев сильных мира сего и всенародную славу. Ничем не обделила их судьба, но именно поэтому оба остро ощущают скоротечность и тщету жизни как таковой, неполноту в ее полноте, недостаточность своего достатка и изобилия. Оба глядят прямо в глаза небытию и не могут отвести завороженного взора. Впервые в русской литературе именно у Державина появляется двойная острота материального ви́дения: того, что есть, и того, что уходит, исчезает. Эта двойственность преследует и Толстого: тут общий комплекс барского благополучия и усиленного им трагизма небытия. «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти… а там этот злой черт голод делает уже свое дело… так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде – достанется»[14]. Здесь у Толстого тот же румяно-желтый колорит помещичьей трапезы, что и у Державина («румяно-желт пирог»), те же нежные, сочные краски, передающие как бы таяние пищи во рту («багряна ветчина, зелены щи с желтком»), и одновременно – чувство нарастающей катастрофы, с той, однако, разницей, что для Державина это личная смерть, а для Толстого – всеобщий голод («предстоящее народное бедствие голода»).
Еще одно сходство Толстого с Державиным, обусловленное коренной демократичностью их миросозерцания, – это стилевая громоздкость, кряжистость, которая «оземляет» и фонетику и синтаксис, лишая их воздушной легкости, напевности. Нагромождение сталкивающихся и неблагозвучных согласных у Державина, длинных причастных оборотов и придаточных предложений у Толстого – все это «бесит разборчивое ухо» (Пушкин), но и властно приковывает к себе: затрудняя восприятие, усиливает воздействие. Знаменательно, что критика упрекала Толстого, как и Державина, в тяжеловесности и неповоротливости стиля. И в самом деле, Державин стоит на исходном рубеже русской классики, когда литературно-художественный язык еще не образовался, не сложился в гармонию; Толстой же идет на разрыв с этой классической гармонией, она кажется ему искусственной, призрачной, и он дробит ее, как стекло, «тяжким млатом» своего стиля. Вход в классику и выход из нее – вот откуда сходство стилевой походки у двух писателей, казалось бы имеющих мало общего: это походка – неровная, спотыкающаяся – через порог веков. Перефразируя Толстого, сказавшего о Чехове, что это «Пушкин в прозе», про самого Толстого можно сказать, что это Державин в прозе.
.....