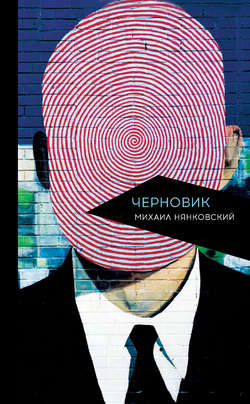Читать книгу Черновик - Михаил Нянковский - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление© Нянковский М. А., 2016
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
В субботу он проснулся до обидного рано. Так рано, как ему никогда не удавалось просыпаться в будни. Она еще спала, отвернувшись от него и слегка приоткрыв рот. Хорошо, что до утра проспал как убитый, иначе желание отделаться от нее возникло бы посреди ночи, когда и на улицу не выгонишь и засыпать снова вместе уже не захочется. Вчера, после полбутылки коньяка, услышать ее согласие на небрежно брошенное «Поехали ко мне» было, конечно, приятно, но готовить ей натрезво завтрак, смотреть на ее не очень изящную фигуру и не вполне привлекательные черты лица: на эти растрепанные волосы, что сейчас разметались по подушке, на размазанную по щекам косметику и на этот нелепо приоткрытый рот… Сомнительное удовольствие… А еще нужно будет сказать: «Знаешь, у меня сегодня в одиннадцать встреча». Причем сказать так, чтобы она поняла, что сразу надо одеваться, потому что до встречи он только-только успеет отвезти ее домой. И когда она будет одеваться, придется смотреть на ее поношенное белье, которое еще надо будет собирать по всей квартире, начиная с прихожей, где он, собственно, и начал ее раздевать. Или это произошло еще на площадке?
…А она все не просыпалась. Он встал, прошел на кухню, громко хлопнул дверцей холодильника и для верности включил кофемолку, хотя только вчера намолол кофе дня на три. Пожужжав машинкой дольше обычного, он наконец услышал из комнаты тихое похныкивание.
– Прости, я тебя, наверно, разбудил. Просто хотел принести тебе кофе в постель.
На самом деле единственное, чего он хотел, так это чтоб она поскорее ушла. И причем навсегда. В надежде, что она все-таки встанет и позавтракать можно будет на кухне, он стал медленно нарезать хлеб, потом сыр.
* * *
Самостоятельно знакомиться с девушками ему давно уже было лень, поэтому всеми своими случайными связями последних лет он был обязан исключительно Мишке. Мишка Хохлов учился с ним на одном курсе, но довольно быстро понял, что филологическое образование не принесет ему ни достатка, ни радости, и уже на втором году обучения стал тихо прифарцовывать заграничными дисками, книжками, изданными в «Ардисе», джинсами и прочими товарами, цена которых на черном рынке кратно превышала их себестоимость. Мишкино обаяние, общительность, прекрасно подвешенный язык позволили быстро расширить круг нужных знакомств, так что очень скоро маленький бизнес стал процветать. Те же качества, особенно разговорчивость, помогли ему закончить университет, не слишком утруждая себя изучением всевозможных наук. Получив диплом, Хохлов, благодаря знакомствам в кругу высокопоставленных лиц (а среди его клиентов, покупавших «фирму», были и такие) устроился на работу учителем в сельскую школу в десяти минутах езды от города. Причем его недельная нагрузка составила шесть часов, и все эти часы с согласия завуча и директора, которым, конечно, пришлось кое-что подкинуть из фирменных неликвидов, выпадали на субботу. Статус сельского учителя позволил Мишке избежать призыва в ряды Советской армии, чью боеспособность он таким образом, по его же собственным словам, только укрепил, а удобное расписание освобождало целую неделю для более полезных и прибыльных дел, нежели преподавание русского языка и литературы потомкам многострадальных российских крестьян.
На рубеже восьмидесятых – девяностых Мишка побывал в турпоездке в Польше и понял, что дружба со странами народной демократии может быть взаимовыгодной не только на уровне Совета Экономической Взаимопомощи, но и на уровне частных контактов. Он стал покупать в Союзе дешевые комплекты постельного белья, приборы ночного видения и прочую дребедень, возить все это на продажу в Польшу, а взамен приобретать буржуазные товары, спрос на которые не могла удовлетворить советская легкая промышленность. Мишка быстро овладел искусством скрывать от пограничников и таможенников в потайных отсеках вагона ввозимую и вывозимую продукцию, и довольно скоро у него появились деньги, которые и присниться не могли его бывшим однокурсникам. Постепенно штучный товар уступил место целым партиям, Хохлов стал ездить в Польшу на своей машине, быстро выучив, на каком посту сколько надо заплатить и на какой границе какую часть товара отстегнуть официальным лицам. Вскоре он начал вести борьбу за новые источники сырья и новые рынки сбыта. К источникам добавилась Турция, а рынком сбыта стал бывший колхозный рынок в самом центре города, на котором в советские времена труженики села реализовывали продукцию со своих приусадебных участков и то, что плохо лежало на колхозных полях. Теперь он превратился в толкучку, на которой Мишка приобрел два стационарных торговых места.
Бизнес становился все более прибыльным, но вскоре стало понятно, что все «челноки», мотающиеся за границу и обратно с огромными клетчатыми баулами, привозят на родину одно и то же. Пришлось задуматься над узкой специализацией, и Мишка сосредоточил свое внимание на алкоголе, который стал поставлять в магазины, рестораны и кафе родного города. Вскоре в городе не осталось ни одного владельца подобных заведений, кто не водил бы с Мишкой дружбу. Сам Мишка стал внимательно присматриваться к своим новым друзьям и их бизнесу и вскоре вложил деньги в одно дышавшее на ладан кафе, чем спас его от закрытия и вселил оптимизм в душу начавшего потихоньку спиваться бывшего единоличного владельца. Правда, в эйфории этот туповатый паренек, бывший владелец, пребывал недолго. Доверив своему новому компаньону все управление и бухгалтерию, он скоро остался не у дел, лишившись своей доли в совместном бизнесе. Обнаружив это, он пытался наехать на Хохлова с помощью каких-то быкоподобных друзей, но был бит Мишкиными приятелями аналогичного вида, после чего простился с мечтами о деловой карьере и стал спиваться уже с чистой совестью.
Мишка, став хозяином, развернул бурную деятельность, довольно быстро превратив убогое, построенное еще в советские времена кафе «Юность» в процветающий, хоть и небольшой, клуб, который назвал, памятуя о своем филологическим образовании, «Онегин».
Главной «фишкой» заведения была живая музыка, но не та – в диапазоне от шансона до попсы, – которую исполняли во всех ресторанах; у Мишки по выходным звучал классический рок. Когда-то, в семидесятые – восьмидесятые, во всех школах и вузах как грибы после дождя росли вокально-инструментальные ансамбли. Большинство из них давно почили в бозе, но многие музыканты пронесли через десятилетия верность своему увлечению, хотя давно занимались совершенно другими, весьма далекими от музыки делами. Кое-кого из них Мишка знал еще в студенческие годы и теперь разыскивал по всему городу, чтобы вернуть к жизни их творческий потенциал. Ребята давно уже не мечтали о больших залах, но время от времени поигрывали на своих кухнях хиты «Битлз» и «Роллинг Стоунз», а потому Мишкино предложение выступать в его клубе восприняли с энтузиазмом. Постепенно из поседевших и полысевших, но не пропивших свое мастерство «мальчиков» сложилось несколько вполне приличных групп.
Сергей, не видевший своего институтского приятеля со времени выпуска и ничего не знавший о его головокружительной, хотя и столь типичной для недавних смутных времен, карьере, лет пять назад – он в это время никак не мог прийти в себя после разрыва с Кристиной – заехал в это кафе выпить кофе. Они встретились как старые друзья. Мишка стал рассказывать Сергею про себя, про свой клуб, про «потрясающих ребят», играющих здесь по пятницам и субботам, и пригласил зайти послушать. С тех пор Сергей стал бывать в «Онегине» регулярно. Нельзя сказать, чтобы ему очень нравилось это заведение, да и фанатом рока он никогда не был (правда, хиты шестидесятых – восьмидесятых все-таки слушал с ностальгическим удовольствием), но для него было важно, что здесь он никогда не оставался в одиночестве, хотя и приходил всегда один.
В «Онегине» за несколько лет существования сложился круг постоянных посетителей, многих из которых Сергей знал еще по студенческим годам, а с кем-то пересекался по работе, но даже с незнакомыми у Мишки он сходился быстро. Завсегдатаями клуба были в основном сверстники музыкантов, то есть люди под сорок, слегка за сорок или далеко за сорок, как правило, побывавшие, как и Сергей, в браке, но не очень-то склонные возвращаться в это состояние. Неслучайно Сергей стал называть Мишкино заведение «Клуб одиноких сердец». И хотя люди здесь собирались очень разные – среди них попадались и таксисты, и дизайнеры, и менеджеры, и бизнесмены средней руки, – в «Онегине», благодаря музыке, на которой они выросли и которую сами нередко играли еще на школьных вечерах, они становились просто сверстниками и легко находили общий язык.
Кроме того, Хохлов обладал уникальной способностью налаживать контакты, знакомить людей между собой. В его маленький клуб народу набивалось порой под завязку. Мест хронически не хватало, но для своих он место всегда находил. Стоило кому-то из завсегдатаев появиться на пороге заведения, Мишка тут же бросался навстречу, подводил к какому-нибудь столику, усаживал и сразу же начинал представлять тем, кто сидел рядом. При этом он, не скупясь, рассыпал комплименты и награждал вошедшего мыслимыми и немыслимыми регалиями. Сергея он представлял как «крупнейшего журналиста современности, пера которого как огня боятся правящие элиты России, стран СНГ и Балтии». Зная привычки и вкусы своих посетителей, Мишка всегда точно определял, к какой компании надо посадить того или иного человека.
Помимо «возрастной» публики, в «Онегине» нередко появлялась и составлявшая меньшинство молодежь. Как правило, это были девицы с гуманитарным образованием, просиживавшие свои джинсы в обтяжку и мало что скрывающие юбки в малых и больших компаниях в качестве офис-менеджеров, помощников руководителей или менеджеров по работе с документацией (слово «секретарша» в их лексиконе не допускалось как почти непристойное). Классический рок, привлекавший их в этот клуб, звучал для них без ностальгической окраски и скорее воспринимался как музыкальное направление, более достойное их почти забытого историко-филологического прошлого, чем современная попса. Хотя обилие одиноких и в основном обеспеченных мужчин в «Онегине» тоже нельзя было сбрасывать со счетов в качестве фактора привлекательности. Личная жизнь у этих девчонок, заваленных бумажной работой в течение дня, протяженность которого зависела от прихоти начальства, как-то не очень складывалась, если не считать сексуального домогательства шефов, но они эту личную жизнь скорее отравляли.
Чтобы начать ни с того ни с сего разговор с незнакомой девушкой лет двадцати пяти – тридцати, каждый раз нужно было что-то изобретать, чего Сергею совершенно не хотелось делать, но опять на выручку приходил Мишка. Он старался подсаживать друга за столик, где собиралась исключительно женская компания.
«Милые дамы! Наконец-то я разбавлю ваш девичник интереснейшим собеседником противоположного пола, – восклицал хозяин заведения. – Перед вами великий журналист! Представляете, он брал интервью у самого премьер-министра. Фамилию премьера сейчас никто не помнит, потому что он продержался всего три месяца, а потом его сняли. И никто, кроме Сереги, не успел взять у него интервью. А Серега успел! И напечатал. А потом того сняли. Не Серегу – премьера. Почему его сняли?! А вот это вы спросите у моего друга Сереги, почему его сняли». Затем Мишка бросался встречать следующего посетителя, а Сергею оставалось с небрежным видом продолжить начатый разговор, поскольку интерес к его персоне в этих очаровательных созданиях Хохлов уже пробудил. От снятого (кстати, совершенно без участия Сергея) премьер-министра разговор переходил на других знакомых преуспевающего журналиста, потом на журналистику вообще, на телевидение, искусство, музыку. Обсуждали играющих сегодня музыкантов и публику, собравшуюся в клубе, причем Сергей рассказывал всяческие пикантные подробности о взаимоотношениях некоторых присутствующих пар, которые, впрочем, не были секретом для большинства посетителей. Затем начинались двусмысленные разговоры о взаимоотношении полов вообще и не менее двусмысленные комплименты. Из-за грохочущей музыки говорить приходилось в самое ухо очередной девушки, иногда даже касаясь мочки, причем рука в этот момент всегда как-то случайно оказывалась на колене у новой знакомой с подъюбочным, как сказано, кажется, у Набокова, направлением пальцев.
Комплименты эти продолжались и по дороге из заведения, откуда они, в изрядном подпитии, выходили глубоко за полночь, а иногда и под утро, и разговор заканчивался уже в постели Сергея.
Правда, новые приятные знакомства, возникавшие благодаря Мишкиному радушию, не всегда заканчивались сексом. Иногда, хотя и нечасто, поехать к нему не соглашалась девушка, иногда он сам отказывался от такого продолжения вечера.
Всех женщин, с которыми он знакомился, Сергей разделял на три категории. К первой относились умные, энергичные, самостоятельные молодые женщины, как правило, после тридцати пяти, с которыми было о чем поговорить и которых приятно было слушать. С ними можно было даже поделиться сокровенным, что, впрочем, Сергей делал довольно редко, только когда точно рассчитывал на понимание. К таким женщинам Сергей испытывал уважение, заводил с ними дружбу и не старался любой ценой затащить в постель, хотя некоторые из них были вполне к этому готовы. «Любовницу еще найду, а друга потеряю», – объяснял он друзьям, не понимавшим, почему он отказывается от таких достойных кандидатур. Все эти женщины вправе были рассчитывать на длительные отношения с мужчиной или даже на перспективу брака, одна ночь была бы для них оскорбительной. Но что касается длительных отношений, то ему вполне хватало Кристины, а о новом браке он даже не помышлял, и не потому, что его опыт супружеской жизни казался столь уж печальным. Скорее наоборот – многолетний опыт жизни в одиночестве привел к тому, что пребывание на его территории в общем-то посторонней женщины в течение длительного периода, то есть более трех дней, стало вызывать в нем раздражение. Его раздражало, что кто-то берет его вещи и никогда не кладет на место, его раздражало, что свое времяпровождение, которое он столько лет ни с кем не согласовывал, приходилось увязывать с привычками и желаниями другого человека, его раздражало, что он должен ходить дома в джинсах, хотя привык ходить в трусах, и даже красивое женское белье, которое еще вечером так возбуждало, утром, разбросанное где попало, тоже начинало его раздражать.
Ко второй категории относились девушки помоложе, глаза которых едва ли не в самом начале разговора выдавали согласие провести с ним ближайшую ночь, а руки оказывались в районе его паха раньше, чем его собственная рука ложилась к ним на колени. То, что длительные отношения для таких девушек необязательны, было очевидно, и хотя это вполне устраивало Сергея, он старался не водить их к себе домой – для него это было как-то уж совсем дешево. В его постель они попадали только в исключительных случаях, то есть когда количество выпитого им коньяка превышало обычную норму и проводить ночь в одиночестве ну никак не хотелось, но ничего более пристойного в поле зрения не попадало.
Наконец, была и третья категория. Милые, славные девчонки, с которыми было о чем поговорить, но не было необходимости делиться сокровенным. С ними не надо было изображать из себя крутого и опытного самца, но вполне достаточно было быть самим собой. Им можно было делать пикантные комплименты, не переходя на пошлости. В глазах у этих девчонок читалось: «Я знаю, что я тебе не нужна, ты другой, ты старше и мудрей, но за одну ночь я буду тебе благодарна». Вот эти последние чаще всего и становились предметом его интереса. Утром он расставался с ними навсегда, ничего не обещая, не спрашивая номер телефона и не оставляя свой. Он знал, что рано или поздно они снова встретятся в «Онегине» – они оба это знали, – но эта встреча отнюдь не выльется в драматическую разборку. Нет, увидев ее, он поздоровается, как старый друг, искренне и радушно, но к ее столику не подсядет, а в конце вечера, вполне возможно, уйдет с другой, так же искренне улыбнувшись на прощание «девушке предыдущей ночи».
Увы, сегодня его спутницей была, как он сам определил, девушка из второй категории. Вчера хотелось в очередной раз напиться. От злости на самого себя. Ну зачем он позвонил Кристине?! Сколько раз говорил себе: не надо ей звонить, все равно, даже если они снова будут вместе, ничего хорошего из этого не получится. Сначала – безумная ночь, как в первый раз, но уже с утра – взаимные придирки и раздражение, а потом – серые будни, встречи по субботам, как по расписанию, и звонки в надежде, что в эту субботу она будет занята. Ему давно стало скучно с Кристиной, но без нее уже через неделю все валилось из рук, и, несмотря на клятвы, данные самому себе, он все чаще тянулся к телефону, лежащему на прикроватной тумбочке. Однако стоило вообразить предстоящий разговор, это неизбежное выяснение отношений, как рука сама падала на подушку. Ему надоело просить у нее прощения за то, чего он не совершал. Он каждый раз надеялся, что она скажет: «Прости, я была неправа», – и тогда о произошедшей размолвке можно будет не вспоминать, но каждый раз он был уверен, что этого не произойдет, что ему снова придется выслушивать бесконечные разговоры о том, что неправ был именно он, и либо в очередной раз соглашаться с тем, с чем не согласен, либо, не выдержав, бросить трубку, чтобы тем самым добавить ей аргументы для следующего разговора о его неправоте.
Когда они расставались надолго, он сначала злился, потом начинал тосковать, вспоминать все хорошее, что их связывало, вспоминать ее стройное тело, которое она всегда обнажала не спеша, ее нежную, чуть бархатистую кожу, ее небольшие, почти девичьи груди и, наконец, тот момент, когда она из строгой, ироничной и неприступной красавицы, как будто повинуясь его невысказанному желанию, превращалась в податливую, стонущую от удовольствия уличную девку. Ему казалось, что Кристина из его воспоминаний не может осыпать его упреками, называть жлобом, придираться к каждому сказанному им слову, совершенному и несовершенному поступку и обсуждать детали его поведения в постели с интонацией заводского парторга. Поддавшись искушению, он звонил, но ее «алло», сказанное сухо и равнодушно, несмотря на то что у нее на телефоне стоял определитель номера, возвращало его из мира фантазий в мир повседневности.
Вчера он в очередной раз сорвался и позвонил, но, выслушав нравоучительную лекцию о том, что она заслуживает гораздо больше внимания, чем он ей оказывает, бросил трубку и отправился к Мишке. Там он долго напивался у стойки, а потом подошел к компании веселых, разбитных девчонок, сидевших за столиком рядом с эстрадой. Сказав какую-то пошлость, вроде того, что такие красивые девушки не должны пить на свои, он заказал бутылку шампанского и, разливая его по бокалам, сразу приобнял сидевшую с краю девицу. И вот теперь она жалобно постанывала в его кровати, недовольная тем, что ее разбудили, а он думал, что ее надо везти домой и было бы неплохо, чтобы она жила не на другом конце города, потому что в машине придется с ней о чем-то говорить. А говорить не хотелось. Хотелось как можно быстрей вычеркнуть из памяти и ее, и вчерашний разговор с Кристиной, и вообще, как бы это ни было трудно, не думать о Кристине и, воспользовавшись тем, что в эти выходные он ни при каких условиях не будет с ней встречаться, да и на работу не нужно будет срываться, поскольку очередной номер журнала был только что сдан в типографию, наконец-то засесть за рукопись.
В последние месяцы после долгого перерыва он снова вернулся к этой работе. Материалы для нее он начал собирать много лет назад, почти сразу после окончания аспирантуры, планировалось, что это будет его докторская диссертация. Потом он мечтал выпустить монографию – первую в отечественной, да и в мировой науке монографию о писателе Павле Гордееве. Это имя было на несколько десятилетий вычеркнуто из русской литературы и почти совершенно забыто. Интерес к нему вспыхнул в начале девяностых после выхода в свет романа, никогда не публиковавшегося при жизни автора. В газетах и журналах стали появляться рецензии, статьи и небольшие исследования его творчества, но к двухтысячным этот интерес почти угас, и «возвращенный писатель Гордеев», не нашедший места в школьной программе, вновь стал забываться. На фоне детективной попсы и модного постмодернизма никому не хотелось читать вышедшего из крестьянской среды писателя, дебютировавшего в далекие двадцатые годы уже ушедшего двадцатого века.
С надеждами на докторскую степень Сергею пришлось расстаться довольно быстро, а написание монографии, которое он планировал завершить за два года, затянулось на двадцать лет. Он понимал, что сегодня эта «первая в мировой науке» книга о жизни и творчестве Павла Гордеева уже не станет литературной бомбой и, кроме узких специалистов, ее вряд ли кто прочтет и оценит, и все же время от времени, иногда раз в полгода, иногда чаще, упорно возвращался к рукописи, которая насчитывала уже несколько сотен страниц, но была все еще далека от завершения. Он никому не рассказывал о своей работе, а те, кто помнил, как она начиналась, вроде старого друга Толика Латынина, давно перестали о ней спрашивать. Не знали о ней ни коллеги по журналу, ни друзья из «Онегина», ни, разумеется, случайные подружки, ни Кристина. Однажды он заикнулся при ней о рукописи, но она пропустила его слова мимо ушей, даже не спросив, о ком или о чем он пишет. Да и имя писателя Гордеева она, скорее всего, никогда не слышала. Больше в разговорах с Кристиной Сергей к этой теме не возвращался. Он давно привык к тому, что работа над рукописью – это его, и только его, дело. И дело это он рано или поздно должен закончить. Это был его долг перед дедом – Павлом Егоровичем Гордеевым.
Русской прозой двадцатых – тридцатых годов Сергей увлекся почти случайно. Когда он учился в университете, скучнее курса, чем история советской литературы, не было. Это потом, когда в середине восьмидесятых все журналы наперебой начали печатать «потаенную литературу», выяснилось, что двадцатые годы – это Булгаков, Платонов, Замятин, а в то время о них даже не упоминалось или упоминалось как-то по касательной. Они казались безликой массой литераторов, которые не сумели понять исторической правды и с которыми активно боролись пролетарские писатели во главе с Горьким. Честно говоря, Сергея все это волновало очень мало, и попробовать почитать этих авторов, а не рапповскую критику о них желания не возникало. В то время он больше интересовался своими однокурсницами и весьма гордился тем, что число его побед над провинциальными барышнями с томиками Тургенева в руках увеличивается. Был даже один весьма затянувшийся роман с длинноногой Ингой (или, может быть, Инной – сейчас уже не вспомнить). Роман был бурный, особенно с учетом того, что у Инги-Инны была в распоряжении квартира родителей, которые надолго отправились, кажется, в Конго помогать местному населению. С ней не приходилось все время думать о том, удастся ли ее затащить в постель, и не надо было искать кого-то из друзей, чтобы перехватить на пару часов ключи от свободной комнаты в общаге. Он вдруг почувствовал, что влюбляется, совершенно забросил учебу, да и как было ее не забросить, если после бессонной ночи голова просто падала на стол в самом начале лекции. Летом они расстались на два месяца: он уехал в стройотряд, где без устали махал лопатой на строительстве какого-то коровника, а она отправилась по селам собирать остатки русского фольклора, еще сохранившегося в глубинке, хотя в основном в форме матерных частушек. Он писал ей каждый день, и она отвечала. Сначала часто и подробно, потом реже, и в письмах почувствовалась несвойственная ей лаконичность, которая все больше и больше отдавала холодом. На последние свои письма он ответа не получил. В городе он стал ей названивать, договариваться о встрече, но встречу она все время откладывала, пока наконец не сказала: «Хорошо, давай встретимся. В шесть на бульваре». Его, конечно, смутило приглашение на бульвар, а не к ней домой, но еще больше смутил ее холодный и даже слегка раздраженный тон. И все же он примчался на свидание едва ли не в полшестого, предварительно купив букет цветов, который здесь же, на бульваре, и пришлось бросить в урну. Он знал этого аспиранта, который руководил ее фольклорной практикой, много раз видел его на факультете, но ему и в голову не приходило, что этот сутулый, долговязый, ничем не примечательный парень, всегда носивший брюки, которые были ему коротки, всего за два месяца станет ей ближе, чем он. Он, с которым связано столько бурных ночей! Аспирант уже сделал ей предложение, которое она собиралась в ближайшее время принять.
Он возненавидел все и вся. Его раздражало каждое слово, услышанное дома, его раздражали однокурсницы из списка былых побед, его раздражали друзья, которые пытались ему помочь, но чья помощь не шла дальше распитой вместе бутылки водки и пьяного разговора по душам на тему «да у тебя этих баб еще знаешь сколько будет!». Но больше всего почему-то раздражали преподаватели с их «успехами социалистического строительства», «всемерным удовлетворением возрастающих потребностей граждан», «изображением действительности в ее революционном развитии» и прочими штампами, которые вдруг стали казаться ему отвратительными. Если раньше он, не думая, аккуратно записывал все это в тетрадь, чтобы потом, так же не думая, повторить на экзамене, то теперь ему хотелось спорить с каждым словом, не соглашаться ни с одним утверждением, а то и просто запустить тетрадью в физиономию преподавателю. Вот тогда-то Анастасия Сергеевна и упомянула о Писателе. Всего тремя фразами. Назвав пару его рассказов, она строгим тоном заявила, что «в них дано неверное, злобное изображение революции и Гражданской войны». Его особенно задело слово «злобное». Именно такое изображение окружающей его действительности он бы и сам дал сейчас, если бы был писателем. Он знал, что существует какая-то антисоветская литература, но никогда ее не читал. Он вообще читал только то, что было нужно. А это было не нужно. Но в тот момент ему страшно захотелось почитать эти «злобные рассказы». И он впервые подумал о том, что если когда-то они издавались, и немаленькими тиражами, то где-то наверняка остались. В университетскую библиотеку нечего было и соваться. Если там и хранились книги двадцатых годов, поскольку и университет, и библиотека существовали с середины девятнадцатого века, то кто бы их ему выдал. Мало того что не выдадут, да еще и настучат куда следует, что студент такой-то интересуется идеологически вредной литературой.
И тогда он вспомнил про Митрича.
Самуил Давидович Полянский был старинным другом его покойного деда. Они познакомились в каком-то литературном кафе в Петрограде в начале двадцатых. Оба голодные, в обносках, они приехали в столицу из глухой провинции (один – вятский, другой – смоленский), чтобы получить образование и стать великими писателями. Дед уже опубликовал несколько стихотворений в районной газете на Смоленщине; Полянский писал прозу, но печататься еще не пробовал. Свою первую повесть «Давид и Голиаф» он написал году в двадцать пятом. Воодушевленный восторгами друзей, которым он читал повесть в снятой совместно с дедом комнате на Выборгской стороне, он решил показать ее мэтрам. Через руководителя литературной студии, в которой они вместе тогда занимались, ему удалось послать рукопись одному из основоположников советской литературы, а позже напроситься и на аудиенцию. Основоположник был любезен, но лаконичен. «Талантливо. У вас могло бы быть большое будущее» – таков был его вердикт. Когда вечером того же дня студийцы собрались все в той же комнате на Выборгской, это уже была другая комната. Здесь жил подающий надежды, по мнению одних, и выдающийся, по мнению других, советский прозаик Самуил Полянский, чьи произведения получили высокую оценку классика отечественной литературы. Кто-то достал дешевого вина, и полвечера друзья проспорили о том, выдающийся он или подающий надежды, а вторую половину вечера и до поздней ночи выясняли, как же все-таки сказал Основоположник: «У вас большое будущее» или «У вас могло бы быть большое будущее». Что значит «могло бы быть»? Если бы что? В конечном счете пришли к тому, что будущее у Полянского есть, ибо, как ему не быть, если оно быть могло бы.
Вскоре повесть была опубликована, и счастливый дебютант стал с нетерпением ждать восторженных откликов критики. И отклики вскоре появились. К тому времени знакомство с Основоположником позволило ему войти в литературные круги, и, встречаясь с Полянским, знакомые писатели искренне хвалили сотканную им из гирлянд точных метафор историю скромного библиотекаря и начинающего поэта Давида Гуревича, мечущего, как камни из пращи, свои поэтические строки в грозного врага, пришедшего уничтожить многовековую культуру. В образе Голиафа выступал комдив Голиков, в финале повести врывающийся в бережно хранимую Гуревичем библиотеку и устанавливающий на сброшенные с полок фолианты артиллерийское орудие для отражения наступающих колчаковцев.
Пресса долгое время хранила молчание и ничего не писала о литературном дебюте Полянского. Каково же было его удивление, когда через несколько месяцев в одной уважаемой газете появилась статья «Бессильная злоба побежденных», в которой автор утверждал, что «некто Полянский, возомнивший себя писателем и хранителем культуры, пускает отравленные, но бессильные стрелы (почему-то именно стрелы!) в тех, кто пришел созидать новую культуру, которая станет достоянием широких масс, а не забавой для истеричных хлюпиков из числа буржуазных интеллигентов». «Нет, не культуру защищает Полянский, – восклицал критик, – а право безбедно жить на горбу трудового народа и, возмущаясь жестокостью большевиков, устраниться от борьбы, чтобы прийти потом на все готовенькое». После этой статьи прессу прорвало. Одна за другой газеты выходили с разгромными статьями, в которых автора называли «отрыжкой старого мира», «бешеной собакой», «недобитым врагом». Полянский был потрясен, но он еще не предполагал, что ждет его впереди. На страницах толстого литературного журнала была напечатана статья того самого Основоположника, в которой он называл публикацию «Давида и Голиафа» «в лучшем случае грубой политической ошибкой редакции, а в худшем – сознательной идеологической диверсией». Большое будущее закончилось. Пришел страх. Жуткий страх, который заставил Самуила Давидовича отвлечься от своих литературных опытов и, быть может, впервые оглянуться вокруг себя и попытаться понять, в каком мире он живет.
Не попрощавшись с дедом, Полянский уехал из Петрограда и поселился у своей тетки в Вятской губернии, откуда вернулся в начале тридцатых годов со свежей рукописью. Вскоре его новый роман «Заря над селом» был напечатан, и на Первом писательском съезде он вместе со всеми рукоплескал Горькому, думая: «Неужели?! Неужели я мог мыслить иначе?! Вот она, правда». В кулуарах съезда к нему подошел Основоположник, потрепал по плечу и как-то грустно спросил: «Ну что, с голиафами-то лучше?»
Из всех старых знакомых он снова сошелся только с дедом и даже подарил ему свой роман, на обложке которого было написано: «С. Д. Полянский», а на последней странице удивленный дед прочитал: «Полянский Семен Дмитриевич». О юноше Давиде теперь не напоминало ничто. Вот тогда-то дед и прозвал его Митричем. «Типичный Митрич!» – воскликнул дед, взъерошив густую черную шевелюру над огромным крючковатым носом Полянского.
Правда, этого «Митрича» Полянскому припомнили году то ли в пятьдесят первом, то ли в пятьдесят третьем, когда в какой-то газете появилась статья о том, кто на самом деле скрывается под русскими псевдонимами, но Полянский, к тому времени уже лауреат Сталинской премии, полученной за роман «Угольный гигант», член Правления Союза писателей СССР, не стал ждать, а сам бросился в редакцию «Правды», узнав, что есть возможность подписать письмо, обличающее врачей-убийц, действовавших по указке международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт».
В те годы, когда у Сергея произошел разрыв то ли с Ингой, то ли с Инной, Полянский мирно доживал свой век на писательской даче в Переделкине. Его почти не читали, но, будучи многократным лауреатом и депутатом Верховного Совета многочисленных созывов, он навсегда обеспечил себе место в истории советской литературы. К нему-то и собрался съездить озлобленный студент в надежде найти в обширной библиотеке писателя неправильные книжки о революции и Гражданской войне.
Он добрался до Москвы ночным поездом, чтобы успеть на Киевский вокзал к восьмичасовой электричке. «Вот еще возьму и курсовую про это напишу, назло Анастасии», – думал Сергей, стоя в прокуренном тамбуре и глядя на мелькавшие придорожные кусты сквозь мутное стекло вагонной двери.
Он любил бывать вместе с дедом на даче Полянского, любил слушать их разговоры о литературных новостях, недоумевал, когда Митрич вдруг замолкал, стоило деду заговорить о двадцатых годах или об общих знакомых, которых давно уже не было в живых. Сам Сергей в их беседах участия почти не принимал. Считал себя не вправе вмешиваться в разговор двух корифеев советской литературы, у одного из которых только что вышло собрание сочинений, а у другого были напечатаны всего несколько тоненьких книжек, потому что в прежние времена он на восемь лет забросил литературу и сменил писательство на работу в отдаленном леспромхозе, да и в нынешние времена не был дорогим гостем в редакциях толстых журналов. Пока дед разговаривал с Полянским, Сергей рассматривал книжные полки, уставленные томами Горького, Фадеева, Алексея Толстого, которые были украшены дарственными надписями с теплыми словами в адрес владельца дачи. Брать книги из библиотеки Полянского ему разрешалось, но, когда он вынимал их из книжных шкафов, хозяин, не прерывая разговора, внимательно следил за ним. Думая, что Митрич беспокоится о сохранности дорогих ему фолиантов, Сергей однажды сказал: «Да вы не волнуйтесь, я аккуратно». Но старик помотал головой, дескать, не в этом дело. А в чем – не сказал.
В этот раз на даче его встретила домработница Клава, служившая в доме Полянских с незапамятных времен. Она сразу же запричитала: «Ой, как вырос-то, как возмужал-то! И не узнать! А как на Пал Егорыча-то похож! Проходи-проходи, миленький!»
Сняв кеды на веранде и почему-то стараясь не шуметь, Сергей чуть ли не на цыпочках прошел в гостиную, где в кресле-каталке, укрыв колени клетчатым пледом, сидел патриарх советской прозы. Его некогда густая черная шевелюра была теперь совсем белой и заметно поредевшей, голова немного клонилась набок, на самом конце огромного крючковатого носа сверкали толстые цилиндрические очки, правая рука, в которой он держал какой-то листок, заметно дрожала, левая безжизненно покоилась на колене.
– Здравствуйте, Семен Дмитриевич! – хрипло проговорил Сергей. Горло перехватило, видимо, оттого, что он впервые сам, без деда, заговорил с Митричем.
Тот поднял глаза на гостя, как-то по-гусиному вытянул шею и, сощурившись, уставился на него поверх очков.
– Здравствуйте, это я, Сергей, Павла Егоровича внук, – все еще запинаясь и сглатывая слюну, сказал молодой человек.
– Чей внук? – почти шепотом спросил Митрич, поворачивая голову так, чтобы оказаться ухом к вошедшему.
– Павла Егоровича, – уже уверенно и громко повторил Сергей.
– Ах, Паши… – рассеянно пробормотал писатель.
– Мы с вами в последний раз на похоронах деда виделись. Вот, решил навестить. Простите, что раньше не приезжал.
– Да-да, на похоронах… – по-прежнему глядя в сторону, сказал Митрич, и Сергей не мог понять, говорит ли старик с ним или сам с собой.
– Я вот вам гостинцев привез, – сказал Сергей, доставая из рюкзака предусмотрительно купленные апельсины, яблоки и конфеты. Он понимал, что нельзя явиться в этот дом с пустыми руками, но, честно говоря, не знал, что именно преподнести старому человеку, которого не видел несколько лет, поэтому купил то, что обычно носил родным в больницу.
Митрич повернул наконец голову и неожиданно бодро, хотя по-прежнему почти шепотом, сказал:
– Решил побаловать старика? Правильно. И что приехал – правильно. А то уж никто не ездит. Думают, помер старик Полянский. А я, как видишь, отчасти жив.
Сергей хотел сказать что-нибудь бодрое, вроде «Да вы еще всех нас переживете», но, глядя на беспомощную фигуру, понял, что это прозвучит крайне неубедительно, и потому лишь улыбнулся в ответ.
– Только помирать надо было раньше, – продолжал Полянский, – чтобы и от Литфонда венок, и от Союза, и чтоб секретари что-нибудь пробубнили, хоть по бумажке. А то говорить-то совсем не умеют. Только писать. – Тут старик задумался, помолчал и добавил: – Да и писать не умеют. А Паша умел… А теперь помрешь, так и не узнают.
– А вы не помирайте, – уже немного придя в себя и подхватывая иронический тон Митрича, сказал Сергей.
– Вот-вот! Теперь надо до ста лет дожить. Будут к столетию статью в «Литературке» писать, напишут: родился Семен Полянский в 1902 году, а умер… А когда же он умер?! Ну, начнут звонить… А я и не умер! Вот конфуз-то! Придется же торжественное собрание устраивать, а у них и в бюджете такой строки нет! И дарить чего-то надо, а что дарить на столетие? Портсигар неудобно, а венок вроде рано… Ох, забегают!
Сергей заметил, как ожили глаза на потускневшем лице, как заискрились они в самых уголках, как на бледных щеках начал появляться слабый румянец, точь-в-точь как при разговорах с дедом.
– На могиле у деда бываешь? – неожиданно серьезно спросил Полянский.
– Бываю, – ответил Сергей, и это было правдой. Несмотря на свою суматошную студенческую жизнь и бесчисленные, хоть и скоротечные романы, на кладбище он бывал часто. Как-то до сих пор не мог смириться с тем, что деда уже нет. Хотя дед был как будто из другой эпохи, только в нем Сергей чувствовал по-настоящему родную душу, правда, не понимал почему.
– Эх, Паша-Паша, – Митрич сокрушенно покачал головой, – вот кому надо было до ста лет жить! Может, хоть тогда бы поняли…
Он не договорил, потянулся к столу, взял одно из привезенных Сергеем яблок и стал катать его по колену правой рукой.
– Ну, а ты что, тоже пишешь? – Он посмотрел на Сергея, как тому показалось, с едва уловимой усмешкой.
– Ну… я пока учусь…
– И чему же?
– Филологии, – с гордостью ответил Сергей, полагая, что старику будет приятно узнать, что молодое поколение готово, так сказать, подхватить знамя…
– А тебе-то это зачем? Лучше делу бы какому-нибудь обучился.
– Ну, как зачем? – растерялся Сергей. – Вы-то ведь тоже…
– Милый мой! – воскликнул Митрич. – Мы-то! Мыто филологию еще при ее жизни застали. Хотя и слова-то такого не было. Как же ее, бедненькую, тогда называли-то? Изящная словесность, кажется…
– А мы теперь уже вашу словесность изучаем…
– Да-да… Тут как-то ко мне приезжала одна барышня. Курсовую, говорит, пишу. «Руководящая роль партии в деле социалистического строительства в прозе Семена Полянского 30-х годов»… Или что-то в этом духе. А у самой юбка такая короткая, что тут и про партию, и про дело строительства забудешь.
– Я вот тоже насчет курсовой… – робко начал Сергей.
– А я думал, про меня только барышни пишут, – усмехнулся Митрич.
– Да я… собственно… – Сергей споткнулся, – не про вас…
– Ну, слава богу!
Митрич засмеялся мелким стариковским смехом, который быстро перешел в кашель.
– И про кого же? – прокашлявшись, спросил он.
И тогда Сергей назвал имя Писателя.
Полянский взглянул на гостя, и тот заметил, как быстро изменилось выражение его лица. Трудно было поверить, что секунду назад старик смеялся. Лицо вновь стало бледным и неподвижным, и только глаза пристально и серьезно смотрели на Сергея. Ему даже как-то не по себе стало от этого взгляда.
В гостиной повисла напряженная тишина, которую нарушил стук яблока, выпавшего из правой руки Полянского. Сергей почувствовал, что молчать дальше неловко; ему хотелось спросить, почему старик так странно отреагировал на это имя, но он никак не мог сформулировать вопрос.
– А что, вы его теперь… тоже изучаете? – Полянский сам прервал затянувшуюся паузу.
– Ну, так… мельком. А я вот хотел про него написать.
– И кто ж тебе такую тему дал?
– Я сам решил. Я еще не говорил ни с кем.
– И не говори, – с неожиданной твердостью сказал Полянский.
Сергей чуть было не спросил почему, но вдруг понял, что старик не ответит, и промолчал.
– Давай-ка чаю попьем, – сказал Митрич и, перейдя на громкий шепот, позвал домработницу: – Клава, завари-ка нам чайку.
Не прошло и минуты, как появилась Клава с серебряным подносом, на котором стояли знакомые еще по визитам с дедом старинные чашки, сахарница и корзиночка с неизменными Клавиными сухариками. Вскоре подоспел и самовар.
– Хоть и электрический, но все-таки самовар, – сказал Митрич. – На даче надо пить чай из самовара.
Он сам налил чай, ловко орудуя правой рукой (левая по-прежнему неподвижно лежала на колене).
– А вот у нас с твоим дедом не то что самовара, и чайника-то не было. Был ковш. Да-да, какой-то медный ковш, в котором мы кипятили воду. И пили чай! Не помню, из чего этот чай был. Уж точно не из чая. Но назывался чаем. А пили мы его не с вареньем, не с печеньем, а так… со святым духом. Даже друзей «на ковш» приглашали. Знаешь, тогда бедности не стыдились. Стыдились что-нибудь из последнего не прочитать…
– А вы… его читали? – спросил Сергей и вновь произнес фамилию Писателя, понимая, что надо вернуть старика к главной цели своего визита, хотя уже побаивался непредсказуемой реакции.
– И он меня тоже, – спокойно ответил Митрич.
– Он вас читал?! – изумился Сергей.
– А что ж ему меня не читать-то? Я ведь, молодой человек, какой-никакой, а тоже писатель. – Сергей понял, что сморозил глупость, но он был совершенно сбит с толку тем, как быстро менялось настроение Полянского. А тот продолжал: – Один раз мы дядьку даже «на ковш» позвали.
– Какого дядьку? – удивился Сергей.
– Так вот твоего Писателя, про которого ты, дурья башка, писать собрался.
– А почему он дядька?
– А потому что мы с твоим дедом к нему в литературную студию ходили. Вот он с нами и нянчился, как Савельич с Петрушей Гриневым. За это мы его «дядькой» прозвали.
– Так вы его ученик?!
– Ну-ну-ну! – Митрич замахал здоровой рукой. – Таких учеников раньше в гимназии розгами секли. Вот дед твой – это другое дело. Он даже хотел к какому-то юбилею статью об учителе написать, так не дали. Тогда решил письмо коллективное отправить в ЦК или куда-то там еще от имени учеников… Подписи начал собирать… – Митрич размочил в чае Клавин сухарик и стал посасывать его беззубым ртом. – Вот он был настоящий ученик.
– А у вас, – Сергей, собравшись с духом, решил перейти к главному, – книги его есть?
– Книги? – Митрич снова пососал сухарик. – Так их уж лет шестьдесят не издают.
– А старые? Ну, которые тогда выходили… в двадцатых…
Митрич запил сухарик остывшим чаем и, не торопясь, долил себе в чашку кипяток из самовара. Потом пристально посмотрел на Сергея – то ли о чем-то спрашивал, то ли что-то взвешивал. Снова повисло неловкое молчание.
– Поехали прокатимся, – наконец сказал Митрич и взялся правой рукой за рычаг своего кресла, которое со скрипом покатилось в сторону знакомой Сергею библиотеки.
Сергей последовал за хозяином.
Остановив кресло у старого книжного шкафа, Полянский еще раз взглянул на своего гостя, а потом сказал:
– Вон видишь собрание нашего графа? Вытащи-ка его. – И указал на десятитомник Алексея Толстого.
Сергей, подняв стеклянную крышку, начал аккуратно вынимать из полки желтые увесистые тома.
– Пошарь-ка там сзади, – сказал старик.
Сергей просунул руку в глубину полки и вытащил серый тоненький номер «Роман-газеты» с фотографией молодого, не по годам сурового человека.
– Эту не трогай, – резко прошипел Полянский.
Поспешно пряча книжку обратно, Сергей все-таки успел прочитать часть названия «Один день Ивана…». Сергей похолодел. Он мог предположить, что у Митрича с давних времен сохранились издания Писателя, но чтобы Сталинский лауреат прятал у себя в шкафу изменника Солженицына, ему и в голову не могло прийти.
– Правее поищи. Там, кажется, – продолжал наставлять Митрич.
Сергей сунул руку правее и нащупал толстую книжку в пожелтевшей от времени мягкой обложке из плотной дешевой бумаги. Он бережно вынул ее из шкафа:
– Эта?
– Эта, – выдохнул Митрич, опустил глаза, тяжело откинулся на спинку кресла и покатил обратно в гостиную.
Сергей смотрел на книгу и чувствовал, как начинают дрожать руки и ускоренно биться сердце. Это был номер литературного журнала за 1926 год. На первой странице поперек оглавления размашистым почерком выцветшими чернилами было написано: «Голиафу Давидовичу Полянскому, чтоб знал, как надо книжки писать. От дядьки». Вглядевшись в содержание, Сергей увидел фамилию Писателя и названия тех самых двух рассказов, которые упомянула в своей лекции Анастасия.
– Семен Дмитриевич, – Сергей выглянул из библиотеки в гостиную, – а я могу это… взять?
Старик, сгорбившись, сидел к нему спиной.
– Здесь читай, – просипел он. – Есть захочешь – кликни Клаву.
До Москвы Сергей добирался последней электричкой. В вагоне вместе с ним ехали две старушки, какой-то пьяница, проспавший всю дорогу, и миловидная девчушка, к которой Сергей непременно подсел бы, встреть он ее вчера или позавчера. Но сегодня он почти не обратил на нее внимание. В голове творилось что-то неладное, и это отнюдь не была «путаница молодых мыслей», как у князя Андрея после ночи в Отрадном. Ему вдруг вспомнилось устаревшее слово «смятение», которое как нельзя лучше характеризовало состояние его ума. Он дважды прочитал два крохотных рассказа Писателя и не нашел в них не только злобы, но даже Гражданской войны. В них не было ни белых, ни красных, ни образов коммунистов, ни руководящей и направляющей роли… В них были милые, добрые люди, страдающие от голода и холода, совершенно не понимающие, куда влечет их рок событий, но стойко переносящие все испытания ради любви друг к другу. А еще там было другое: то, чего Сергей не находил ни в одной из прочитанных им по программе книг маститых, как их неизменно называла Анастасия, советских писателей. Там были стремительный ритм, точные и выразительные детали, каждая из которых врезалась в память, там был невиданный прежде лаконизм, который исключал все ненужные описания и позволял автору одним штрихом, одной емкой метафорой сказать о герое все.
Он попросил почитать что-нибудь еще, и Полянский велел ему достать журнал, спрятанный за томиками Панферова. Там была большая повесть Писателя, которую Сергей прочитал от начала до конца, не обратив внимания, что уже почти стемнело, и не заметив, как заботливая Клава подвинула к его креслу столик с ужином.
Он ехал в электричке и думал: какой он, к черту, филолог, если даже понятия не имел, что где-то, на задворках старого книжного шкафа доживающего последние дни Сталинского лауреата, есть совсем другая литература, совершенно не похожая на ту, которую он равнодушно читал к семинарам, литература, способная так обжигать?
Конечно, ни о какой курсовой по творчеству Писателя он уже не помышлял. И вовсе не от того, что он передумал изучать его, а просто в сознании никак не соединялись Писатель и Анастасия с ее «маститыми». Чтобы никого не шокировать, он покорно взял другую тему, что-то про «пафос созидательного труда» в одной из поэм Твардовского, но никак не мог приступить к ней. Вместо этого каждую субботу с утра пораньше он отправлялся в Москву, а затем в Переделкино, чтобы снова и снова рыться на задворках книжного шкафа на даче Полянского, выбирая для чтения то Булгакова, то Платонова, то Замятина и даже Солженицына, наконец разрешенного Митричем. Уезжал он с дачи, как правило, в ночь на понедельник (на дом потаенных книг Митрич по-прежнему брать не разрешал) и лишь в электричке давал себе выспаться. Только в самом конце семестра он вспомнил про курсовую, которую для приличия все-таки надо было написать.
Вот тут-то и появилась Оксана. Собственно, она была и раньше, то есть училась с ним в одной группе с первого курса, но он никогда не обращал на нее внимания. Она не входила в число тех длинноногих девиц в коротких юбках или обтягивающих джинсах, в излишне расстегнутых блузках или полупрозрачных водолазках, девиц, которые составляли предмет его непостоянного интереса все студенческие годы. Невысокого роста, с крепкой, хотя и довольно стройной фигурой, с небольшой грудью, едва заметной в лыжных свитерах, которым она отдавала явное предпочтение перед всем иными видами одежды, с короткой стрижкой и почти мальчишеской челкой, Оксана казалась ему частью декорации, на фоне которой разворачивалось насыщенное действие его развеселой жизни.
В этот день он сидел в читальном зале и механически переписывал главы из какой-то монографии по Твардовскому. Читать всю монографию, как, собственно, и поэму, не было времени. Анастасия уже не раз подходила к нему с настойчивым требованием показать ей хотя бы часть работы. От тупого однообразного списывания очень быстро захотелось курить, и он спустился под лестницу. Мальчишки дымили в университете на всех лестничных площадках, и после безуспешной борьбы ректората с этим позорным явлением таблички «Не курить» были заменены на таблички «Место для курения». Девочки старались с сигаретами в здании не светиться, так как в то время это считалось, пусть и негласно, чем-то аморальным, но самые отчаянные отвоевали себе место для курения в тупичке под лестницей, которая вела в читалку. Там же обсуждались все самые секретные девичьи темы, что иногда привлекало в тупичок и некурящих, которые, правда, выходя оттуда, старались не попадаться на глаза преподавателям, чтобы не быть заподозренными в пагубной привычке. К последним принадлежала и Оксана, поэтому Сергей немало удивился, увидев ее в небольшой группе сокурсниц, жавшихся под лестницей с сигаретами.
Он остановился у противоположной стены, в том месте, которое было видно от читалки, и закурил с независимым видом, показывая, что и стесняться ему нечего, и слушать их неинтересно. Но обрывки разговора все же долетали до него.
– …так какой, ты говоришь, журнал?
– «Москва», – ответила Оксана. – Последний номер за шестьдесят шестой и первый за шестьдесят седьмой.
– И что, потом ни разу не переиздавали?
– По-моему, ни разу.
– А дай почитать.
– Нет, девочки, – извиняющимся голосом проговорила Оксана, – мне самой на одну ночь дали. Сегодня возвращать.
– А как думаешь, в нашей библиотеке есть?
– Есть, да не про вашу честь, – вмешался Сергей, быстро поняв, о чем идет речь. Всего три недели назад он сам держал в руках эти номера «Москвы» с «Мастером и Маргаритой». – Не выдадут их вам. Не вы-да-дут! – проговорил он по слогам.
– Это почему?
– Чтобы не забивать ваши светлые головы буржуазными идеями, чтобы завтра, придя в советские школы, вы воспитывали борцов за светлое будущее, а не истеричных хлюпиков, называющих себя русскими интеллигентами. – Финальную цитату он произнес с хорошо знакомой всем картавостью и в том же духе продолжил: – Перечитайте лучше роман «Мать». Очень своевременная книга!
– Да пошел ты! – сказала одна из девчонок, бросила сигарету и обратилась к подружкам: – Пошли, девочки.
И вся компания вереницей потянулась на лестницу.
– Вот и разберись: то ли я пошел, то ли девочки пошли… – как будто в пустоту проговорил Сергей.
– Все остришь! – оглянулась на него шедшая последней Оксана, и на ее невыспавшемся лице он увидел снисходительную, но, как ему показалось, добрую улыбку.
– А ты правда «Мастера» читала?
– Правда, – сказала она и остановилась. – А ты?
– Читал. И еще «Роковые яйца».
– А это чье?
– Его же.
И ему впервые захотелось поговорить о том, что он прочитал за эти последние месяцы. Впервые, потому что раньше это была какая-то только ему принадлежавшая тайна, никак не связанная со всей той жизнью, которая его окружала и которой он сам жил все дни за исключением выходных. Даже с Митричем они ничего не обсуждали, лишь перебрасывались фразой-другой. Говорить же об этом с однокурсниками или со своими мимолетными подругами казалось и вовсе немыслимым. А с этой девочкой почему-то захотелось. Может быть, из-за ее доброй улыбки или из-за того простодушного выражения лица, с которым она смотрела на него. Но говорить в стенах института, где принято было обсуждать лишь творчество «маститых», желания не было.
– Ты домой? – спросил Сергей.
Оксана кивнула.
– Подожди, я сейчас только вещи заберу.
Он побежал в читалку. Улыбаясь девчонкам нахальной донжуанской улыбкой, пробился без очереди к стойке, сдал ненавистную монографию, сунул в портфель тетрадь и выбежал в институтский двор, где Оксана уже ждала его.
Он пошел провожать ее до трамвайной остановки, и его как будто прорвало. Все впечатления, которые накопились в нем за то время, что он ездил на дачу к Полянскому, вдруг хлынули наружу. Он говорил и говорил, а она слушала, почти не перебивая, лишь иногда нарушая его монолог робкими вопросами, которые заставляли говорить с еще большим вдохновением. Они уже давно стояли на остановке, трамвай подходил за трамваем, но ни он не мог остановиться, ни ей не хотелось его перебивать. В конце концов он предложил пройтись пешком, хотя, как выяснилось, жила она не близко.
Потом он часто провожал ее из института, не обращая внимания на удивленные взгляды однокурсников, считавших его заядлым донжуаном, а ее – непримечательной провинциалкой, равно как и на презрительные ухмылки своих бывших пассий.
Если им не удавалось пройтись вместе после занятий, он звонил ей вечером, назначал встречу, и они подолгу вместе гуляли, выбирая укромные уголки старых парков, гуляли даже зимой под снегом, который так красиво кружил в свете фонарей. Он расчищал перчаткой место на спинке парковой скамейки, и они садились на нее, тесно прижимаясь друг к другу. Иногда он шутливо обнимал ее («Смотри не замерзни!») и видел, что, несмотря на посиневший нос, ей тепло и хорошо с ним и вовсе не хочется убежать домой, чтобы согреться. А он все говорил и говорил. И не только о литературе, но обо всем, о чем мог говорить с самым близким человеком. Он рассказывал ей про деда, про Митрича, к которому уже давненько не выбирался, потому что все выходные теперь проводил с Оксаной, про свои странные отношения с родителями, про свои планы на будущее, которое хотел связать с наукой. Постепенно и она, преодолевая возникшую поначалу робость, стала понемногу рассказывать о себе, о маме, которая воспитывала ее одна и никак не могла смириться с уходом мужа (тот оставил ее с годовалой дочкой на руках), что проявлялось то во вспышках беспричинного гнева, то в многодневных уходах в себя. В эти минуты ему еще больше хотелось обнять и согреть Оксану, чтобы защитить от всех бед на свете. Ему нравилось, как она говорит своим тихим низким голосом, но еще больше нравилось, как она слушает – она умела слушать.
Весной, воспользовавшись отъездом родителей на научную конференцию, он пригласил ее к себе домой. Она как-то вдруг напряглась, неуверенно спросила: «А удобно?» Но он так весело и радушно приглашал, что Оксана согласилась. Он даже не стал покупать шампанского, как делал всегда при встречах с Инной (или все-таки ее звали Инга?.. впрочем, это уже не имело значения). Он поил ее чаем из старинной чашки, похожей на те, в которых подавали чай на даче Полянского, – шампанское казалось ему неуместным. Но когда они уселись рядом на диван и стали разглядывать старые семейные фотографии, он почувствовал прикосновение ее плеча, ее бедра и вдруг ощутил, как какая-то теплая волна прокатилась от ее тела к его телу. Он резко обнял Оксану и развернул к себе, может быть, даже слишком резко, опасаясь, что ему придется преодолеть ее сопротивление. Но она не сопротивлялась. Ни тогда, когда его губы прикоснулись к ее губам, ни тогда, когда его рука скользнула под ее лыжный свитер…
Их прогулки после этого вечера по-прежнему продолжались, но все чаще они искали возможности встретиться не на улице. То он договаривался с кем-нибудь из друзей про квартиру на пару часов, то высчитывал, когда родителей не будет дома, а иногда они встречались и у нее (мама все чаще стала попадать в больницу)…
В постели с Оксаной он испытывал странное чувство. С прежними подругами он ощущал возбуждение конкистадора, которому с легкостью удалось подчинить себе новые, не покорившиеся другим завоевателям земли. Но с Оксаной все было по-другому – он не чувствовал себя завоевателем. Это как будто изначально была его территория, его дом, куда он вернулся после долгих и бессмысленных скитаний.
Он, кажется, даже ни разу не признался ей в любви, настолько все, что с ними происходило, было естественным и не нуждалось ни в каких объяснениях. За пару месяцев до диплома Оксана сообщила Сергею, что беременна. И это тоже было настолько просто и понятно, что он сразу сказал: «Пойдем подадим заявление». Кажется, именно так и сказал. Или, может, «Хочу, чтобы ты стала моей женой»? Сейчас уже и не вспомнить. Нет, кажется, все-таки «Пойдем подадим заявление».
Наташка родилась, когда он уже учился в аспирантуре и вел занятия у первокурсников. Учиться и готовиться к занятиям, имея в доме новорожденного ребенка, со всеми этими пеленками, подгузниками, молочной кухней, бессонными ночами и вечно ломающейся коляской, было не просто, но Оксана, мужественно пережившая тяжелейший токсикоз и похоронившая во время беременности маму, которая так и не справилась со своим одиночеством, понимала, насколько важна для Сергея его работа, и постаралась взвалить на себя всю заботу о Наташке. Она никогда не жаловалась на усталость, старалась не будить его ночью; если Наташка начинала кричать, Оксана бесшумно вскакивала с постели, бросалась к детской кроватке и хватала дочку на руки, чтобы та не потревожила Сергея своим криком. Когда девочке исполнился год, ее отдали в ясли, поскольку тех денег, которые приносил в дом Сергей, семье уже не хватало, а Оксане как раз предложили преподавать в техникуме русский язык, и она сразу же согласилась, тем более что нагрузка была небольшая, и к тому моменту, как надо было забирать Наташку из яслей, она уже освобождалась.
Теперь, через много лет после развода, они виделись редко, и Сергей мало что знал о своей бывшей жене, но от общих знакомых слышал, что она и сейчас преподает «что-то вроде русского языка». Он всегда иронизировал по поводу этого преподавания, поскольку был убежден, что изучение бесконечного свода правил и еще более бесконечного списка исключений из них не имеет никакого отношения к овладению языком Пушкина, Гоголя и Чехова.
Но, несмотря на это, когда Оксана пошла работать в техникум, он радовался вместе с ней. Тогда вообще всё радовало. У него была семья, свой дом (они жили в квартире, доставшейся Оксане после смерти матери), была любимая работа, да и вокруг все стало приходить в движение.
Сначала вся страна с удивлением увидела своего нового руководителя выступающим перед ленинградцами без бумажки. Об этом заговорили все, это был шок, так как столько лет вожди и по бумажке-то говорили с трудом, едва ворочая старческими языками, что иного себе никто уже и не представлял. Потом в газетах стали появляться слова «перестройка», «ускорение», «гласность». Потом в «Знамени» опубликовали «Новое назначение» Бека, и тут как будто прорвало. Как будто распахнулись настежь дверцы Митричева книжного шкафа. Сергей едва успевал прочитывать все, что еще вчера немыслимо было увидеть в печати и что сегодня публиковали все журналы наперебой. А надо было не только успевать читать, но и созваниваться с друзьями, чтобы занять очередь на ходящие по рукам номера «Нового мира», «Знамени», «Октября» и «Дружбы народов».
Когда наконец все то же «Знамя» впервые опубликовало одну из повестей Писателя, Сергей понял, что его час настал. То, что не стало темой студенческой курсовой, должно было стать темой диссертации. Профессор Буров, его научный руководитель, сам когда-то защитившийся по «Малой земле», с энтузиазмом поддержал ученика:
– Конечно, конечно, вот она, настоящая литература, достойная изучения! Вы счастливчик, молодой человек. Наступила эра филологов.
И Сергей с головой ушел в работу. Он просиживал до ночи в библиотеках, стал завсегдатаем отдела редких книг, вел переписку с зарубежными исследователями творчества Писателя, поскольку теперь такая возможность появилась, а на родине подобных исследователей не нашлось.
Свободного времени почти не оставалось, а еще нельзя было не следить за тем, что происходит в стране («Сегодня рушится тысячелетнее прежде» – эта строчка Маяковского все время вертелась в мозгу у Сергея, привыкшего все происходящие события обозначать цитатами), и по этой причине немало часов было проведено у телевизора (причем самыми популярными вдруг стали новостные программы, которые раньше никто толком не смотрел), за чтением многочисленных газет и побившего все рекорды смелости «Огонька».
Именно в «Огоньке» он наткнулся на крошечную заметку, обведенную толстой черной рамкой. В ней сообщалось, что на 88-м году жизни скончался некогда известный советский писатель, лауреат Сталинской премии Самуил Давидович Полянский. Дальше было что-то вроде «подчинил литературное творчество господствовавшей идеологии», «своими романами оправдывал режим», «стал вольно или невольно соучастником»… Журнал извещал о смерти старика даже без традиционного «глубокого прискорбия».
У Сергея холодок пробежал по телу. Он вдруг сообразил, как давно не был у Митрича, и понял, что надо куда-то звонить: то ли в Союз, то ли в Литфонд, то ли в «Огонек», – чтобы узнать о похоронах. Даже схватился за телефон, но тут ему стало ясно, что извещение в «Огоньке» могло появиться и через неделю после смерти, а значит, звонить уже бессмысленно. В итоге звонить он никуда не стал, но и делать в этот день уже ничего не мог.
Нельзя сказать, что смерть Полянского была для него невосполнимой утратой. Даже во время своих частых визитов в Переделкино он не так много говорил с Митричем. И тот был немногословен, и Сергею хотелось порыться в заветном шкафу, а не тратить время на разговоры, поэтому близкими людьми они так и не стали. Но это коротенькое извещение в журнале совершенно выбило его из колеи. Он думал о том, что не успел ни о чем расспросить Митрича, а тот мог бы так много рассказать об эпохе, правда о которой теперь стала темой дня; он думал о том, что, увлекшись работой и погрузившись в семейные дела, совсем забыл о старике, а тому могла понадобиться его помощь, тем более что вряд ли кто-то был с ним в последние дни, кроме разве что преданной Клавы (а сама-то она жива ли?); он думал о том, что Митрич был последней ниточкой, связывавшей его с дедом, и теперь эта нить оборвалась.
* * *
Сергей заглянул в комнату. Случайная гостья уже совсем проснулась. Его поразило, как непохожа она была на себя вчерашнюю. Девочка натянула одеяло по самый подбородок, и теперь на него смотрело довольно милое, хотя и простоватое, личико с большими глазами и размазанной по щекам косметикой, которую он вчера не дал ей смыть. Взглянув на него, она тут же опустила глаза, и Сергею показалось, что щеки ее немного покраснели. Он подошел к кровати, поцеловал ее в лоб и сказал, постаравшись придать голосу максимум душевности: «Пойдем завтракать, солнышко!» Потом вернулся на кухню, налил себе кофе и закурил. Из комнаты не доносилось ни звука. У него было странное ощущение: как будто из «Онегина» он вышел с одной девушкой, а утром в постели обнаружил другую. Вчерашняя казалась ему развязной и похотливой, хотя, впрочем, он мог ошибаться, поскольку к тому времени, когда он подсел за ее столик, его изрядно развезло от спиртного. Причем подсел с совершенно определенными намерениями, и сама она его мало интересовала. А эта, сегодняшняя, была какая-то тихая, и, даже когда он допил свой кофе, она так и не вышла из спальни. Это уже начинало раздражать. Может, она ждет, что он снова вернется в постель и они весь день проваляются, ублажая друг друга? Еще не хватало! Как же ей объяснить, что единственное, чего он теперь хочет, так это как можно быстрее избавиться от нее и сесть за компьютер.
Сергей нетерпеливо встал и снова прошел в спальню. Девочка сидела в кровати, все так же натянув одеяло и не глядя на него. Наконец она подняла глаза и, действительно краснея, пролепетала: «А вы не знаете, где моя одежда?» Обращение на «вы» совсем вывело его из равновесия. Он походил по квартире в поисках ее вещей и сам удивился траектории их вчерашних перемещений. Лифчик висел на ручке входной двери, скомканная блузка и трусики лежали на диване в кабинете, юбка оказалась на полу в ванной, и только туфли и чулки он обнаружил, хотя и не сразу, в спальне. Собрав одежду, он бросил ее на кровать, но девочка не шевельнулась.
– Можно я оденусь? – спросила она.
«Даже нужно, и побыстрей», – подумал Сергей, но вслух ласково сказал:
– Конечно, одевайся, солнышко.
– А вы не могли бы выйти на минуточку? – робко попросила девочка.
Он удивленно вздохнул и вышел.
Через пару минут, уже совершенно одетая, она неслышно прошмыгнула в ванную и вскоре появилась оттуда, смыв наконец косметику с лица.
Теперь она еще больше изменилась и даже показалась Сергею немного старше. Волосы были аккуратно собраны в тугой пучок на затылке, большие глаза смотрели спокойно и строго, и в них чувствовалась какая-то неподдельная усталость.
– Ну, я пойду? – сказала она уже из коридора.
– Давай позавтракаем, а потом я отвезу тебя домой.
– Нет-нет, что вы! Не надо. Я сама. Мне недалеко.
И она направилась к двери.
Сергей не ожидал, что она исчезнет так быстро, и, хотя это вполне вписывалось в его планы, он вдруг ощутил неловкость. Он подошел к ней, обнял за плечи, снова поцеловал в лоб и сразу почувствовал неуместность этого дежурного поцелуя. Она стояла не шевелясь, и только когда он отпустил ее плечи – повернулась к двери. Уже на пороге она подняла на него глаза, произнесла: «Спасибо вам. До свидания!», и он увидел в уголках ее больших глаз крохотные слезинки.
Сергей зашел в кабинет, машинально включил компьютер и сел за стол. Что-то было не так. Обычно после этих «девушек на одну ночь» он испытывал либо чувство дискомфорта, которое исчезало, как только они выходили из его машины у своего подъезда, либо чувство отвращения к самому себе, особенно если это была одна из тех девиц, которые были готовы заняться с ним сексом чуть не с первой минуты знакомства и с утра пытались продолжать начатую в «Онегине» пошлую игру в свободные отношения. Но тут было что-то другое. Он испытывал какое-то почти забытое чувство… что-то вроде чувства вины. Почему-то вдруг вспомнилась Оксана, но не та, с распухшими от слез глазами, какой она была на протяжении нескольких месяцев накануне их мучительного развода и перед которой он был действительно виноват, а та, в лыжном свитере, на заснеженной скамейке в парке, прижавшаяся к нему и похожая на замерзшего воробья. Потом вдруг вспомнилось осунувшееся, с большими синими подглазинами лицо Оксаны перед его отъездом на конференцию. Это было вскоре после защиты диссертации, когда еще не прошла эйфория от успеха, когда в голове снова и снова звучали доброжелательные отзывы о его работе, сделанные солидными учеными, его учителями, авторами учебников, по которым он осваивал филологию в университете. Он и сейчас помнил, как немногословный академик Завольский, возглавлявший Ученый совет, сказал, как всегда, лаконично и с паузами: «Смело. Дерзко. Но основательно! Не придерешься». Именно Завольский и предложил ему выступить в Питере на международной конференции по русскому модернизму с докладом о Писателе. Но больше, чем возможность сделать доклад на весьма представительном форуме, которая предоставлялась ему, в сущности еще мальчишке, обрадовало известие о том, что на конференцию приедет сам Гордон Уинсли, английский славист, чью монографию о Писателе, вышедшую на Западе, ему когда-то удалось с большим трудом заполучить в виде почти слепой копии. На радостях он купил цветы и, примчавшись домой, бросился целовать Оксану. Она, отвыкшая от таких нежностей со стороны вечно занятого мужа, даже опешила.
– Ты представляешь, что значит встретиться с Уинсли?! – говорил он, шагая по комнате взад-вперед. – Еще несколько лет назад мне даже присниться такое не могло. Это же идеологически вредный исследователь творчества идеологически вредных писателей! Я ведь его даже цитировать боялся. А тут, прикинь, мы оба с докладами на одной конференции. Так сказать, на равных. Ну и времена!
– Ты счастлив? – с усталой улыбкой спросила Оксана.
– Ну, а как ты думаешь?! – воскликнул Сергей и снова бросился целовать жену.
За неделю до его отъезда в Питер Оксана слегла с температурой. Никакие таблетки не помогали. Ночью, когда зашкалило за сорок, пришлось вызвать «скорую». Оксане сделали укол, после которого ей стало немного лучше, но слабость оставалась страшная. Гораздо больше, чем за себя, она переживала за Наташку, опасаясь ее заразить. Сергей метался между больной женой, маленькой дочкой, к которой Оксана старалась не подходить, и письменным столом, где лежал давно завершенный, но все еще требовавший отделки доклад. Ему было досадно, что все это произошло так не вовремя, но самое страшное было впереди. Вечером накануне отъезда температура подскочила у Наташки. Оксана, сама еще не вполне пришедшая в себя, сорок минут, пока они ждали «скорую», ходила по комнате с плачущей девочкой на руках. Наконец приехал врач. Едва взглянув на ребенка, он сделал укол жаропонижающего и откланялся. Но в два часа ночи Наташке стало хуже, пришлось вызывать «скорую» еще раз. Пожилой доктор внимательно осмотрел девочку, долго слушал ее дыхание, простучал грудь и спину и, наконец, покачав головой, обратился к Оксане:
– Увы, похоже на пневмонию. Очень советую госпитализацию. Давайте-ка, мамаша, собираться.
– А дома никак нельзя? – Оксана с мольбой посмотрела на доктора.
– Не стоит, дорогая, рисковать единственным ребенком. Не стоит.
Оксана стала лихорадочно собирать свои и Наташкины вещи, а Сергей ходил за ней с дочкой на руках, не решаясь ничего сказать. А сказать было надо. Он понимал, что теперь никуда не поедет. Но доклад, но Уинсли…
– Оксана, – начал он и почувствовал, как у него пересохло в горле. – Может быть, мне никуда не ездить? Как же вы тут без меня?
– Да-да, – сказала Оксана, продолжая упаковывать какие-то ложки и кружки и, по-видимому, не слыша его.
– Я не поеду, Оксана, – продолжал лепетать Сергей. – Правда, понимаешь… доклад в программе и Умнели…
Оксана взяла у него Наташку и стала ее одевать.
– Так мне остаться? – неуверенно переспросил Сергей.
Оксана одела дочку, подняла на него свое осунувшееся, с большими синими подглазинами лицо и вдруг как-то спокойно сказала:
– Нет-нет, Сережа, поезжай. И доклад в программе. И Уинсли. – Потом повернулась к доктору: – Я готова. Можем ехать.
Доклад Сергей делал в последний день конференции, за несколько часов до банкета, на котором едва ли не все филологические старцы сочли своим долгом подойти к юному коллеге, поздравить с прекрасным выступлением и восхититься теми перспективами, которые перед ним открываются.
А старцы были поистине выдающимися. Профессор из Израиля Меер Гольцман, с большим трудом вырвавшийся в семидесятые годы из СССР, где так и не смог опубликовать ни одной серьезной работы, по-отечески потрепал Сергея по плечу:
– Ну, что я могу сказать, коллега! Талант, плюс молодость, плюс трудолюбие – все налицо. Но знаете, талант дается один раз, молодость, увы, проходит, чему ваш покорный слуга является подтверждением, как, впрочем, и его заклятый друг, – тут Гольцман кивнул в сторону подходившего к ним профессора Пахомова, – но трудолюбие, трудолюбие, мой друг, и таланту не дает увянуть, и молодость продлевает.
– Не верьте ему, юноша, – вступил в разговор Пахомов. – Не знаю, как в Израиле, но у нас молодость продлевают женщины. Хорошенькие женщины – лучшее лекарство от маразма. Поверьте мне, умалишенному со стажем.
Аркадий Борисович Пахомов был другом Больцмана со студенческих лет и вечным его оппонентом в научных спорах. Они оба еще в шестидесятые занялись «не той» литературой, но Пахомов, в отличие от Больцмана, не был связан с Землей обетованной историческими корнями и потому в те же годы, когда его друг отбыл в эмиграцию, оказался привязанным к койке в областной психиатрической больнице. Когда в начале перестройки одна шустрая журналистка спросила старика: «А вы до сих пор чувствуете обиду на советскую власть?», ученый, картинно всплеснув руками, воскликнул: «Что вы, что вы?! Какая обида?! Советская власть никогда не ошибалась. Говорить правду в этой стране – преступление, а писать о тех, кто говорит правду, ну конечно же сумасшествие».
– Милейший Аркадий Борисыч! – замахал руками Больцман. – Вы, конечно, в науке большой авторитет, но заклинаю, не вступайте в дискуссию о хорошеньких женщинах с молодыми учеными. В этом вопросе вы принадлежите к разным научным школам: они опираются на опыт, а вы – на воспоминания.
Оба профессора дружно рассмеялись, а в это время Завольский и Буров уже вели к Сергею слегка захмелевшего Уинсли.
– Господин Бордеев, – обратился англичанин к Сергею, когда Завольский представил их друг другу, – я с истинным удовольствием прослушал ваш доклад и могу сказать при ваших старших коллегах, что они воспитали замечательное поколение молодых филологов.
На этих словах Буров радостно просиял:
– А ведь этот юноша был моим аспирантом!
Но Уинсли, как будто не обратив внимания на реплику профессора, продолжал на отличном русском:
– И какое счастье, друзья, что в России теперь можно изучать не только прозу Брежнева, но и других, не менее талантливых авторов.
Лицо Бурова вмиг утратило улыбчивость и посерело, а Больцман и Пахомов едва удержались, чтобы не засмеяться.
– Так выпьем же за свободную Россию и ее великую литературу, – предложил англичанин, и все потянулись с ним чокнуться.
Буров тоже нехотя просунул свою руку с бокалом между руками коллег.
Вскоре Сергей уже сидел рядом с Уинсли за столом и почти по-свойски болтал с ним, потягивая коньяк.
– Знаете, что меня поразило в вашем докладе? – сказал британец, положив руку на спинку стула Сергея. – Помимо научной основательности, в нем было что-то очень личностное. Как будто автор вам лично близок не только как писатель, но и как человек. Как будто… – Он задумался, подбирая слова. – Как будто вы были знакомы с ним. Я думаю, вы меня понимаете.
Сергей улыбнулся:
– Ну, знаком я с ним, конечно, не был, а личное… Вы знаете, мой дед когда-то занимался у него в литературной студии.
– Что вы говорите! – удивился Уинсли. – А он тоже писатель?
– Был когда-то.
– А как его фамилия?
– Гордеев. Павел Гордеев.
– Нет, не слышал, – сказал Уинсли и смущенно улыбнулся.
Конечно, он не мог ничего знать про деда. То немногое, что удалось опубликовать Павлу Егоровичу в молодости, и несколько рассказов и повестей, напечатанных им после войны, не стали заметным событием в литературе. А больше он ничего не написал.
Сергею нравились дедовы книжки, и ему всегда хотелось, чтобы тот написал что-то еще. Но лишь однажды он решился заговорить об этом. Он учился тогда классе в девятом и начинал всерьез интересоваться литературой. Жил он преимущественно у деда, поскольку родители подолгу бывали в экспедициях, да и, возвращаясь домой, нечасто находили время для общения с сыном. У деда же время всегда находилось, и они нередко отправлялись на прогулку то в парк, то на пруды, а иногда уезжали за город, чтобы вдоволь побродить по лесу в поисках грибов или посидеть у речки с удочкой. Но Сергей не стал ни заядлым грибником, ни рыбаком. Самым интересным в этих поездках всегда был дед, которого можно было слушать часами.
В тот день они сидели у реки, рыба не клевала. Дед вынул из пачки «Беломора» папиросу и, чтобы не дымить на внука, встал, прислонился к росшей у самой воды березе и закурил. Потом вдруг прищурился и, смеясь, спросил:
– Похож я на Есенина из книжки?
И действительно, Сергею тут же вспомнился портрет, на котором знаменитый поэт был изображен у березы, а на заднем плане паслись стреноженные кони. Этот портрет висел у них в кабинете литературы.
– Вот скажи, – продолжал дед, – почему Есенина всегда рисуют таким меланхоличным отроком? То ли Лель бесполый, то ли красна девица. И кругом обязательно березки, лошадки… хаты – в ризах образа. Я был как-то на его выступлении. Ты бы слышал этот голос! Мощь такая, что холод по спине. Кажется, даже у Маяковского голос помягче был.
– А ты и Маяковского слышал?
– Слышал. В Политехническом.
– И как?
– Ну, как… В общем… тоже громко. – Дед помолчал. – Но пробирало как-то не так.
– Почему? – искренне удивился Сергей, которому всегда нравились энергичные и афористичные строки Маяковского.
– Не знаю. Бывает так: головой понимаешь, что все правильно, а мурашки по коже не бегут. А бывает и наоборот: вроде ничего особенного – те же березки-лошадки, – а до слез. И пишут ведь по-разному. Кто головой, кто сердцем.
– Дед, а ты почему не пишешь?
– Я-то? – Дед прищурился. – Куда мне! Пишут трудящиеся, а я читаю. – И неслышно засмеялся. – Ладно, сматывай удочки, не будет клева.
Дед уже много лет работал в старейшей областной газете заведующим отделом по работе с письмами трудящихся. В редакцию такие письма приходили мешками. Это были всевозможные нелепые вопросы, жалобы, мольбы, кляузы, а иногда и настоящие доносы. На некоторые из них дед отвечал лично адресату, самые безобидные письма помещал в газете, предварительно исправив многочисленные ошибки и снабдив ответом редакции, а наиболее сложные отправлял в соответствующие инстанции, чтобы потом опубликовать с оптимистическим комментарием какого-нибудь партийного или советского чиновника.
Порой его самого просили писать письма от имени рабочих и крестьян. Это были, как правила, «письма поддержки», ибо самостоятельно трудящиеся нечасто направляли в газету послания, горячо одобряющие очередные партийные решения. Дед старался отнекиваться, говоря, что от имени рабочих ему писать трудно из-за крестьянского происхождения, а от имени крестьян – потому что образование оторвало его от корней. Но иногда он все же соглашался, поддаваясь уговорам главного редактора, над которым все время иронизировал, но которого искренне любил.
Однажды в день публикации одного из таких писем он услышал нечеловеческий крик главного, обращенный, по-видимому, к секретарше, но услышанный во всех концах редакционного коридора: «Гордеева ко мне! Срочно!!!» Не дожидаясь перепуганной Верочки, Павел Егорович отправился в начальственный кабинет. Сцену, которая там произошла, он не раз в лицах рассказывал дома.
Войдя, он увидел главного, сидевшего за столом с совершенно белым лицом и державшегося за сердце.
– Гордеев, ты чего хочешь? Ты смерти моей хочешь? Ты что написал, глас народа?!
– А что я написал? – искренне удивился Павел Егорович, прекрасно помня придуманное им идеологически выдержанное письмо.
– На, читай! – почти истерически вскрикнул главный редактор и швырнул заведующему отделом свежий номер газеты. – Вслух читай!
Павел Егорович вслух, с выражением искреннего энтузиазма, прочитал письмо рабочих литейного цеха, которые в ответ на решения партийного съезда клялись еще уверенней идти по единственно верному пути, пути к социализму.
– И что же здесь неправильного? – Он уставился на главного. – Я что-то ничего такого не вижу. Ну, пафоса многовато, ну, что ж. Пришли люди в экстаз от решений съезда. Бывает.
– Он ничего не видит! – уже почти рыдал главный. – А вот в обкоме увидели. Какой, к чертовой матери, путь к социализму?! Мы коммунизм строим, коммунизм, понимаешь? А социализм в нашей стране уже построен. Полностью и окончательно.