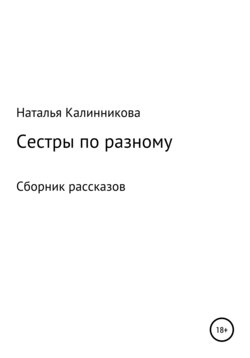Читать книгу Сестры по разному - Наталья Николаевна Калинникова - Страница 1
ОглавлениеМоя скрытая суперсила
Середина февраля. Дворник чертит вдоль дома песчаную полосу. По ней можно ходить, все остальное пространство принадлежит сугробам, закованным в блестящую хрусткую корку. Но небо уже поменяло цвет. Долгожданное солнце карабкается все выше. Оно согревает ветер, топит снег, обжигает мои глаза. Счастье для перезимовавших – долгожданный кошмар для меня.
Это происходит второй год подряд. Еще нет ничего, на что можно подумать – ни пыли, ни пыльцы. Но глаза болят и слезятся; веки набухли, как почки, натянутая кожа ярко-розова, вот-вот треснет.
Я не ем ничего такого, и ничего такого не пью. Может, причина в химикатах, которые дворник так щедро сеял всю зиму? Теперь солнце мощно взялось вытапливать соль из подножной мути, которой перемазан весь город. Но почему я так чувствительна к этому? Почему другие не страдают, если мы дышим одними и теми же испарениями?
У меня нет никаких догадок, что со мной творится. Знаю только, что это очень больно, выглядит стремно и как-то связано с приближением весны. Я боюсь смотреться в зеркало – и заглядываю туда каждый час, в надежде, что отек хоть немного спал. Прикладываю столовые ложки, охлажденные в утробе холодильника, к пылающим векам. Бесполезно. Если оно началось, то минимум на неделю я – китаянка. Скоро все это начнет шелушиться, а я не смогу терпеть – буду трогать, ощупывать, отщипывать крошечные кусочки кожи, рискуя оставить рубцы и «занести новую заразу».
Пятый день пропускаю школу, вру учителям и одноклассникам, что у меня ОРВИ. Кому какая разница, чем я болею на самом деле. Мне ведь правда больно, я не симулирую! Дурацкий голос внутри презрительно шепчет: «Подумаешь, глаз припух! Люди, на ледоколах, в минус шестьдесят, покоряют новые континенты…» У меня нет сил покорять новые континенты. Всю свою энергию я потратила, убеждая родителей написать и отнести классной объяснительную записку.
Лучше приврать, чем показаться в школе с этим. Там ведь не будет пощады. Сопли, кашель – неприятные, но привычные симптомы, бывают у всех (поржать и отпустить). Распухшие веки – нечто из ряда вон (затравить, осмеять, распнуть). Такие глаза бывают у алкашей или у тех людей, что роются в помойках. Их обветренные, багровые лица выглядят жалко и страшно одновременно. Не хочу думать, что я теперь – как они. Я не напивалась и не засыпала в сугробе, но одноклассникам поди докажи.
Глаза болят, нос болит, губы потрескались и тоже болят. Но руки-ноги работают, сидеть дома невыносимо. Тянет сходить куда-нибудь, хоть в магазин во дворе, который виден из окна, с синей крышей. Спускаюсь с пятого этажа; в нашем доме нет лифта, каждая вылазка подбавляет бодрости. А мне надо взбодриться.
Иду по улице и понимаю, каким свежим, сухим и просторным стал предвесенний воздух! Гуляла бы и гуляла, до самого заката. Но, во-первых, могут увидеть и спросить – чего это ты не в школе, а гуляешь? Во-вторых, хищное солнце, как только я ступаю на его территорию, достает свой скальпель и тянется к моим векам. Тончайшие лезвия надрезают кожу; начинает пощипывать, начинает ныть, начинает гореть. Надвинув вязаную шапку до самых бровей, прыгаю через грязевые ванны асфальтовых проталин, несусь под магазинный козырек. В спасительной тени снова обращаю лицо вверх: небосклон совсем уже мартовский. Нежно-молочные, полупрозрачные завитки стремительно текут на запад, туда, где горизонт заштрихован угловатыми силуэтами оголенных деревьев. Увижу ли, как лес позеленеет? Или мои глаза к тому времени опухнут до такой степени, что веки срастутся? Вдруг я совсем ослепну? Волна саможалости накрывает меня, как порыв пронзительного восточного ветра. Захожу внутрь магазина, протягиваю продавщице деньги и рыдаю. Выглядит так, словно мне страшно жаль расставаться с этой сотней, но хлеб и молоко нужнее.
Продавщица удивленно пялится на меня. Возможно, вспоминает новостные сюжеты о домашнем насилии. Я кажусь ей несчастным подростком, которого годами удерживали в подвале (иначе откуда такое лицо?) Однако она не говорит ни слова (боится связываться с моими взрослыми). Молча подает мне то, что я прошу, отсчитывает сдачу. Сейчас я повернусь спиной, она нажмет красную кнопку под прилавком, сбегутся спецназовцы – спасать меня. Но мне больше не хочется быть объектом чьего-то геройства. Сгребаю мелочь в горсть и ухожу, прижимая к груди шуршащий пакет с еще теплым хлебом и булькающим, прохладным литром молока.
Все, чего я хочу – вернуться в свою комнату без приключений. Но увы: на первом этаже меня подлавливает соседка, тетя Лида. Она высока, толста, очень разговорчива, не в пример продавщице, – и наблюдательна. Тетя Лида работает в банке, выдает людям кредиты, но ей кажется, что она обладает достаточными врачебными компетенциями, чтобы поставить мне диагноз. «Что-то кожное», – говорит она, преграждая мне дорогу. Не могу ни обойти, ни уклониться от нее, руки заняты пищевой ношей. «Сходи в кожвен, покажись доктору». – «Куда?» – «В кожвендиспансер. Там все скажут. Нельзя так оставлять, само не пройдет».
Кожвен. Это слово страшнее, чем любой другой диспансер. Оно знакомо мне из глупых сценок КВНа, из трепа старшеклассников. Про одну из десятого «Б» у нас так говорили: «Не обнимайся с Веркой, на ней уже пробу ставить негде, в кожвен загремишь!» Верка перешла в другую школу, а шутка осталась. Не понимаю, как можно ставить пробы, – это же вроде тех, что мы делали на химии? – на человека. Если так поступают в кожвене, я туда ни за что не сунусь. Да и вообще, как говорят бабушкины подруги, это не больница, а притон проституток и наркоманов. Я вежливо улыбаюсь тете Лиде, протискиваюсь между ней и стенкой, исписанной любовными посланиями к «Иванушкам International», и бегу наверх.
Но тетя Лида так просто не сдается. Работа по выдаче кредитов сделала из нее человека с железным характером. Вечером она звонит моей маме и пытается вразумить ее, словно имеет на это право. Мама краснеет, вздыхает, вставляет фразы типа: «Я подумала, это просто диатез», «Ну какие оральные контрацептивы, 13 лет ребенку!», понуро угукает. Наверно, после такого мама наденет на меня паранджу, чтобы я больше не позорила ее перед людьми. Или вообще запретит выходить на улицу до полного выздоровления – то есть навсегда. Эта мысль подстегнула мои воспаленные железы; слезная соль заструилась по мелким кожным трещинкам, защипала, как яблочный уксус.
Вопреки моим ожиданиям, мама ничего такого не сказала про паранджу и затворничество, а только протянула мне бумажку с номером телефона: «Регистратура. Позвони сама завтра с утра, запишись. Василий Викторович, зав. отделением, от Лидии Алексеевны».
Откуда сама Лидия Алексеевна знает Василия Викторовича? Что она у него лечила? В другой ситуации я бы обязательно задалась этим вопросом. Пошлые шуточки и пикантные догадки не чужды мне и моему пубертатному окружению. Узнай об этом учительница литературы, которая считает меня ангелом во плоти, у нее случился бы инфаркт. Но сейчас мне больно даже дышать, не то что лишний раз говорить «всякую ерунду». Я покорно киваю и кладу бумажку между страниц недочитанного «Сильмариллиона». Какое мне теперь чтение.
Просыпаюсь, не могу разомкнуть глаз – засохшая слизь склеила ресницы. Иду в ванну наощупь. Долго, бережно оттираю веки махровым полотенцем, смоченным в воде. В теплой ванной так приятно, я бы провела здесь целый день. Но в регистратуру надо звонить ровно в восемь и ни минутой позже. Иначе шанса записаться не будет, только выговор от дежурной. Но что я скажу? Она ведь не станет выслушивать полный набор моих симптомов. Ей надо сразу обозначить суть, иначе зарычит и бросит трубку.
Восемь ноль пять. Пора. Сердце прыгает, ударяясь то об пятки, то об горло. Может, там сегодня выходной? Вот бы…
– Регистратура!
– Здравствуйте. У меня… вопрос.
– Говорите!
– Я бы хотела записаться к доктору, который по кожным вопросам.
– У нас много докторов, кто конкретно?!
– Мне… – неужели я это все-таки произнесу? – Мне к Викентию Васильчу.
– Василий Викторович расписан на месяц!
Фух, пронесло; через месяц он мне уже будет не нужен, все само пройдет, ведь так бывало. Палец тянется нажать «отбой», но трубка вдруг разражается удивленным воплем:
– А, нет, девушка, есть! Сегодня в шестнадцать окно! Записываю?!
Оооо, нет. То есть да, конечно. Почему я всегда соглашаюсь с тем, чего на самом деле не хочу? Кому это надо? Мне. Я ведь хочу выздороветь. Но мне не надо такого, чтобы соседка позвонила маме, узнала об отказе, а потом выспросила у своего ненаглядного доктора, что место все-таки было, а я просто струсила! Это будет позорище. Поэтому я записываюсь, по полной. Фамилия, имя, год рождения, рост и вес.
Завтракаем с бабушкой. Сырники с джемом, любимые. Она все-таки жалеет меня, хоть и не подает виду, чтобы я «не развела нюни».
Пытаемся выяснить, где находится кожвен. Бабушка настаивает, что в Медгородке, за роддомом; мне кажется, там вообще нет такого здания. Устав со мной спорить, бабушка набирает рабочий номер тети Лиды (у нее есть номера всех соседей, на всякий пожарный). Тетя Лида в пух и прах разбивает бабушкину теорию. Конечно, кожвен переехал. Теперь он располагается в одноэтажном кирпичном здании, где когда-то была станция переливания крови. На окраине центра, в квартале, который в народе зовется «немецким». Те уютные двухэтажные дома с небольшими балконами, с колоннами и лепниной, когда-то построили пленные немцы.
В тех домах живет все руководство нашей школы. Директор с женой-библиотекаршей, мать директора (географичка) и, конечно же, завуч, Ирина Николаевна. Еще там живут учителя из центральной школы искусств. А я окончила основной курс фортепиано всего год назад. Меня еще не забыли.
Я живо представила себе, как вся эта компания возвращается домой – вдруг у них сегодня короткий день, – и тут им на пути попадаюсь я. Опухшая, розовая, просто гуляю возле кожвендиспансера. Допустим, директор меня не узнает, библиотекарша тоже, старая географичка подслеповата, а вот завуч… Она сразу все поймет. Это профессиональное – сразу все понимать про своих подопечных. У Ирины Николаевны сверхчувствительность ко всякой лжи, ко всякому лицемерию. Даже если оно ничтожно, как брякнуть скверное словцо, не подозревая, что тебя сдадут. О, как она орала на меня тогда, в шестом классе! Вызвала к себе посреди урока, усадила на бордовый бархатный стул. Встала надо мной, тряся своими короткими искусственными кудрями, и заревела белугой. Я все никак не могла взять в толк, что случилось. Оказывается, я совершила вопиющий проступок – назвала дурой «ту девочку».
«Та девочка» была проблемной «переведенкой», конфликтовала со всеми подряд – не только с обидчиками-одноклассниками, но и с защитниками-учителями. Что называется, нарывалась. Вот я и обронила в приватной беседе, что она дура – ну а кто еще, если выпендривается даже перед теми, кто пытается ей помочь? Единственное это слово поставило на мне вечное клеймо в глазах Ирины Николаевны. Я встроилась во вражий строй тех, кто травил «ту девочку» ежедневно, выбрасывал из окна ее портфель, лепил ей жвачку в волосы… Выходит, разочаровать Ирину Николаевну еще больше я не способна. Куда уже ниже – все, плинтус. В каждой девочке старше десяти, вздумавшей накрасить ногти или, не дай Бог, ресницы, Ирина Николаевна своим рентгеновским зрением видела гнилую душу. По идее, она должна быть морально подготовленной к тому, что эти девочки рано или поздно окажутся в кожвене. Но… я же все-таки хочу доучиться. А если она заметит меня в таком месте, то сделает все, чтобы я навсегда покинула ее школу. Так сделали с Анечкой из 9 «В». Когда узнали, что она залетела, ее по-тихому вынудили забрать документы. Никто не знает, что с ней потом стало. Я так не хочу.
Поэтому я иду в свою комнату и тру мои бедные глаза изо всех сил. Подзажившие частицы кожи расползаются, обнажая свежие ранки. Раскрасневшись пуще прежнего, иду к бабушке. «Что-то мне поплохело, – шепчу я спекшимися губами. – Может, отменить запись? Дома отсижусь».
Бабушка отвечает, что это вздор, что надо идти, а то вообще все лицо сгниет. Она достает градусник, резко встряхивает его, заталкивает мне подмышку. Результаты физических измерений моего тела показывают, что я могу не только самостоятельно доехать до кожвена, но и «пахать, как молодая кобылка». Если бы у кобылки были такие же заплывшие глаза, ни один конюх не погнал бы ее в поле. Но бабушка неумолимо отсчитывает сорок рублей на проезд – двадцать туда, двадцать обратно, и чтобы в пять была дома.
Мне казалось, что корпус кожвендиспансера должен быть похож на военные госпитали в старых фильмах. Сквозь разбитые форточки доносятся стоны больных; возле рухнувшего крыльца толкутся бродяги, прикрывают ветошью обезображенные части своих изможденных тел. Но это оказался просто длинный, тихий дом советской постройки. Какой-то мужик в форме медбрата курит за углом, больше – никого. Наверно, толпы страждущих кишат здесь по утрам, а сейчас расползлись по своим убежищам. Подожду, пока медбрат докурит, чтобы зайти внутрь абсолютно инкогнито. Останавливаюсь на противоположной стороне улицы и делаю вид, будто просто кого-то жду.
Тут подъехал автобус, из него вышла низенькая женщина в желтой меховой шапке. Отряхнула пальто и чинно двинулась вглубь немецкого квартала. Она шла такой знакомой походкой, неумолимо превращаясь в мою бывшую учительницу по сольфеджио. Только не это! Я не видела ее с самого выпуска, почему именно сейчас? Да, она где-то тут живет, но что, обязательно идти домой вот прямо по этой улице?
Я решила срочно перейти дорогу, наплевав на медбрата. Не сомневаюсь – он на всю жизнь запомнит странную девочку, которая с глупым видом мечется туда-сюда и никак не решается войти в диспансер. Но мне уже пофиг. Я спасаю свою отекшую личность от неминуемого позора.
Учительницу по сольфеджио лет пять тому назад бросил муж. До этого события она была остроумной и веселой дамой, которая лишь иногда прикалывалась над нерадивыми учениками – а после превратилась просто в мегеру. Она с нескрываемым удовольствием ставила на нас кресты. Если ей не нравился цвет волос ученицы, выгоревших за лето, она говорила об этом на весь класс, добавляя, что красить волосы рановато, химия плохо на мозги повлияет. Если ей не нравилось, как ученик подготовил домашку – она во всеуслышание заявляла, что никакого таланта в нем нет и не будет. Она проводила музыкальные диктанты, перемежая тоскливые мелодии заунывными рассказами о своем бывшем, козле. На дорийский и фригийский лад распекала свою свекровь, которая, конечно же, была в сговоре с сыном. Финальным аккордом этих рассказов неизменно были причитания о безнадежно канувшей юности – и ненависть, плохо скрываемая ненависть ко всем нам, набирающим силу молодым девахам. Ведь к любой из нас мог прибиться ее благоверный. Бывший. Козел.
Перейти дорогу мешает здоровенная грязная лужа. Я стала ее обходить, но тут, как назло, из переулка выскочила ревущая «скорая». За ней – еще три машины, пристроившихся как бы между делом, типа они не нарушают, а тоже спешат. Пока вся эта кавалькада проезжала мимо меня, притормаживая перед грязевым бассейном, учительница по сольфеджио подобралась совсем близко. Я уже могу различить оттенок ее помады.
В последнее мгновение кидаюсь через улицу, едва не наскочив на капот притормозившего автомобиля. Учительница оборачивается. Бегло оценив дорожную обстановку, она сбавляет шаг и прижимается к самой дальней кромке расчищенного тротуара. Чуть ли не в сугроб лезет, чтобы быть подальше от машин. Помню-помню, она рассказывала, как боится лихачей, которым бы только права купить. Аккуратно переступая через крупные отколотые ледышки, уходит восвояси.
Она меня не узнала. Видно, мое бедное лицо распухло до неузнаваемости. Но это меня и спасло.
Меж тем, на часах уже пятнадцать минут пятого. Если сейчас встану в очередь в регистратуру, чтобы завести карточку, это займет еще минут десять. Получается, я подойду к кабинету врача всего за пять минут до окончания своего приема. Поняла, что не хочу выслушивать еще один сердитый выговор. Мне на сегодня хватило воспоминаний о завучихе и разведенной сольфеджистке.
Немного прогулявшись по центру, чтобы убить время, еду домой. Говорю бабушке, что врач ничего не понял и никакого рецепта не выписал. Он вообще торопился и даже толком меня не осмотрел. Вот вам и рекомендации знакомых! Это едва ли не первый случай, когда я так откровенно вру бабушке. Да еще и с такими красочными, обвинительными подробностями. Но я договариваюсь с собой, что это как раз тот случай, когда ложь во благо. Так будет проще для всех, особенно для бабушкиных нервов.
Я не догадывалась, какие последствия это повлечет. Через день мама взяла отгул, мы встали в шесть утра и поехали на маршрутке в областной центр к частному врачу-аллергологу, на платный прием.
Платный врач-аллерголог понял все и сразу. Не пришлось даже сдавать анализы. Он – вернее, она, приятная тетенька средних лет, – просто посмотрела на то место, где на моем лице когда-то были глаза, и сказала:
– Атопический дерматит.
Она еще долго объясняла нам, что к чему; половина слов были непонятными, но суть я уловила. Случай редкий. Никто никогда толком не изучал причины возникновения, поэтому лекарства как такового нет. Это генетическое, стало быть, не лечится. Я плакала от обиды на такую подлую жизнь, но делала вид, будто глаза просто сами собой слезятся.
– Но можно облегчить симптомы, – резюмировала аллерголог, и написала на квадратном бумажном листочке названия каких-то препаратов. Потом она рассказала мне, как надо ухаживать за кожей, чтобы «минимизировать риски». Я почувствовала себя так же странно, как на приеме у стоматолога, который в прошлом году учил меня заново чистить зубы – будто я двенадцать лет делала это неправильно. Но все же я ощутила внутреннюю благодарность к этой женщине. Она хотя бы разубедила меня в том, что я мутант. Только весной, и только если не пользоваться специальным кремом и не пить противоаллергенные таблетки.
Чтобы приобрести то, что велела аллерголог, мы пошли в ближайший торговый центр, где была крупная аптека. Можно было, конечно, зайти там, у нас – но и маме, и мне хотелось развеяться после посещения доктора. Все-таки ситуация стрессовая. Поэтому сначала мы пошли не в аптеку, а в недавно открывшийся сетевой магазин парфюмерии и косметики.
Пока мама нюхала свои духи, я бродила между разноцветных рядов со всякими приятными штуками – помадами, румянами, пудрой и тушью. Вот и тональный крем – кстати, аллерголог упоминала его как альтернативу аптечному солнцезащитному. Беру первый попавшийся пробник, нюхаю. Верчу в руках, пытаюсь выдавить. Он почти пустой, ничего не понятно. Зову девушку-консультанта.
– Скажите пожалуйста, у вас есть образец такого крема? – беззаботно, как-то даже слишком самоуверенно спрашиваю я. Оттенок крема красив, его упаковка приятна на ощупь. Помимо эстетического удовольствия, он обещает мне долгожданное спасение —на этикетке написано «Сан протектив эффект 24».
– Именно «Диор»? – поднимает бровь консультантша. В ее интонации и выражении лица моментально отображается вся пропасть моего незнания. Неуверенно киваю. «Да, конечно, Диор!» Консультантша фыркает, но все же разворачивается на своих каблуках и цокает в подсобку. Ее спина выражает крайнюю степень презрения. Кажется, она выполняет мою просьбу только потому, что в зале есть камера: кто-то присматривает за тем, как она выполняет свои обязанности.
Поворачиваю голову и вижу свое отражение в зеркальной стене. Съехавшая набекрень вязаная шапка едва прикрывает растрепанные волосы. Лицо – с ним и так все понятно, но за сегодня оно приобрело новый, синюшный оттенок. Мое туловище одето в искусственную рыжую дубленку с псевдо-мехом, похожим на старое диванное покрывало. «Конечно, Диор!» Была бы воля этой консультантши, она бы ввела фейсконтроль на входе, чтобы такие, как я, не смели сюда совать своего сопливого носа.
Стою столбом и жду, что будет, когда она вернется. Мне же придется взять пробник, выдавить крем и размазать его по лицу. Оттенок все-таки для меня слишком темный. Придется разыграть целый спектакль, доказывая, почему это мне не подходит. Будто я не полностью зависимая от родителей школьница, а одна из тех вздорных молодых дамочек, которая разбирается. Да, я хожу, в чем хочу! И выгляжу, как хочу! У меня в кошельке миллионы! Ну-ка, неси сюда все, что есть, а я еще подумаю, брать или не брать!
Пока я готовлюсь дать отпор зазнавшейся консультантше, возвращается мама. Она перенюхала все свои любимые «Шанели» и довольно улыбается. Мне немного жаль, что я не успею дать той дамочке свой ультра-остроумный ответ, но нам пора. В аптеке мама покупает мне солнцезащитный крем с самым высоким индексом, успокаивающее молочко для умывания и гору таблеток. Мне не терпится обмазаться всем этим прямо сейчас, но я могу рассчитывать разве что на горькую таблетку, от которой потом всю дорогу клонит в сон.
Крем оказался не таким уж приятным, как я ожидала. Он белесый и не прозрачный – сколько не втирай, остаются крупитчатые полосы. Зато он правда работает – солнце больше не впивается мне в веки, а отскакивает от них. Магия!
Глаза постепенно заживают и вскоре делаются обычными, как раньше. Но я продолжаю пользоваться кремом до конца апреля, пока солнце не вытопит весь снег и не успокоится. Чтобы не было жирного блеска, припудриваю лицо светло-бежевой пудрой. Я купила ее в обычном магазине, где на одном прилавке были навалены колготки, трусы, кухонная утварь и дешевая косметика. Не «Диор», конечно, зато продавщица была со мной добра. Она даже спросила, не ругают ли нас в школе за то, что мы красимся? Ее дочку вот ругают, хотя ей уже пятнадцать. Я ответила, что конечно да – и не просто ругают, а орут и заставляют идти в туалет, смывать все холодной водой с хозяйственным мылом. Продавщица сочувственно ойкнула. «Но мне можно», – успокаиваю ее. У меня суперособенность, суперспособность – атипический дерматит. Благодаря ему я могу пользоваться даже тональным кремом, и мне за это ничего не будет. Это мой защитный экран от всего.
«Какая ты симпатичная стала!» – сказала мне тетя Лида, подловив меня в подъезде вскоре после того, как отек спал и мое лицо ко мне вернулось.
Спасибо, но что значит «стала»? Я такая всегда и была.
Так говорила Маруся
Маруся любит Индию, а я люблю Марусю. Правда, Индию она видит гораздо чаще, чем меня: за последние восемь лет Маруся прожила там в общей сложности года три, а мы с ней встречались всего-то раз пять-шесть. Такая вот примитивная арифметика.
Каждый раз, когда Маруся уезжает, я боюсь, что она вернется не тем человеком, которого я знаю. Или попросту исчезнет. Так ведь уже бывало.
Когда люди исчезают из твоей дошкольной жизни, это еще можно как-то объяснить. Родители переехали – вот и нет твоего друга. Первым моим внезапно исчезнувшим приятелем был мальчик Антон со двора. Как-то раз, будучи в особенно хулиганском настроении, он сказал: «Не поднимешь эту покрышку – сестра умрет». Грязная пыльная покрышка была вдвое выше меня – я бы ее даже с места не сдвинула! Глупый приказ вызвал во мне протест, я наотрез отказалась – но страх невыполненного так и остался со мной.
Маруся говорит, что все это майя. Что переезды ни при чем, просто дух человека сам выбирает свой путь. Иногда ее размышления кажутся мне слишком книжными, заемными. Но она так искренне верит в свои простые истины, что это заразительно, как смелый смех.
В другой раз подружки со двора исчезли из моей жизни сразу целой компанией. Мы дружили вчетвером, но эта классическая конструкция оказалась неустойчивой: не двое на двое – трое против одной. Наверно, это врожденное умение – нравиться, увлекать, соединять людей в удобное тебе единое целое. Я так не могла. Я всегда была прямая и упрямая, как ствол того дерева, об которое Антон когда-то пинал свой мяч. То ли тополь, то ли карагач. Мы с девочками любили лазить под этим деревом, расстилать на траве одеяла, «секретничать». Как-то раз одна из подруг поделилась, что ее беспокоит красное пятно на мамином халате. А у меня как раз тогда появилась «Энциклопедия сексуальной жизни для детей 7—9 лет». Я пересказала ее за десять минут. Подруги повизгивали от смеха, провожали взглядом каждую проходящую мимо женщину, переспрашивали: «И у нее? И у этой тоже?» Они не верили мне. Может быть, своим всезнайством я и запустила тогда необратимый процесс их раздруживания со мной, такой умной.
Маруся считает, что жить надо сердцем, не умом. С тех пор, как Маруся стала тусить в своей Индии, она делает только то, что ей нравится. Научилась говорить «нет» токсичным людям, не дожидаясь, когда над ней начнут доминировать. Осталось понять, не считает ли она и меня, временами, токсичной? Мало ли, каких индийских правил я, по не знанию, не соблюдаю. Индусы ведь считают, что невежество разрушает не только грубое физическое, но и тонкое астральное тело.
Тонкие тела – отличная метафора для тех, кто продолжал исчезать из моей жизни внезапно. Во-первых, они и правда были худыми, как все гиперактивные подростки. Во-вторых, я теперь с большим трудом припоминаю их лица – они как осыпавшаяся фреска. Была девочка с длинными русыми волосами, которая перестала дружить со мной после того, как я якобы рассказала ее родителям, что она где-то не там заночевала. Ничего такого я не говорила, просто оказалась крайней. Была коротко стриженная, медно-рыжая девочка, с которой мы три часа обсуждали сакральные мотивы в творчестве рок-группы «Пилот», сложности развития панк-культуры в провинциальном городе-сателлите, пироги со смородиновой начинкой, наших рано ушедших из семейств отцов, древние подводные города… А потом она сказала: «Знаешь, мы с тобой слишком похожи. Я не смогу так общаться» – и после этого, действительно, больше не общалась со мной никогда.
«Быстрая карма» – любимое Марусино выражение. Она считает, что люди встречаются в нужное время в нужном месте ради какой-то не отработанной привязанности. Когда эта привязанность будет исчерпана, оставаться рядом нет никакого смысла – если только эти души не успели полюбить друг друга сильнее всего на свете. Что, с точки зрения индуизма, опять же, не есть хорошо.
Сильнее всего на свете я была привязана к своей старшей сестре. Той самой, за которую до слез переживала, отказавшись выполнить дурацкий Антонов приказ. Я столько думала над историей наших исчезнувших отношений, что даже попробовала составить инструкцию «Как дружить с сестрой». Но чем дольше я рефлексировала, тем более эмоциональным становился текст, что, конечно, недопустимо для инструкции. Но переписывать это невыносимо, поэтому я отправила его Марусе, как есть.
Чтобы дружить с сестрой – родной, троюродной или даже племянницей (которую на людях проще называть «тоже сестра») – сперва не нужно предпринимать никаких усилий. Необходимо лишь, чтобы у вас были родители, или у ваших родителей были братья или сестры, которые в какой-то момент решили обзавестись потомством. Еще нужно, чтобы были вы. Все, для начала этих условий достаточно.
Приготовьтесь к тому, что первые три-четыре года дружба с сестрой будет ограничена таким когнитивным феноменом как инфантильная амнезия. Согласно Википедии, «личность в раннем детстве находится на уровне досознательного восприятия реальности, при котором отсутствует возможность осознания запредельного риска собственной гибели». Процитированный текст – лишь заготовка статьи по психологии. Поэтому не будем углубляться в тему (несомненно, важную). Отмечу лишь, что сестра – если она старшая, как в моем случае, – подобной амнезией уже не обладает: она ходит вокруг, смотрит на вас, как-то взаимодействует с вашим телом. Например, делает вам массаж бровей или пытается накормить блинчиками. Здорово, правда: вы ничего про это не знаете, но ваши отношения уже начались! А если родители потрудятся оставить соответствующую запись в альбоме об этом периоде вашей жизни, то десятки лет спустя вы обнаружите, что имя старшей сестры было в числе ваших первых слов. Отдельные слоги – «адя», «леля» – но сколько милоты в этой обрывочной сопричастности!
В дошкольный период дружба с сестрой осуществляется в основном посредством старших родственников. Взрослые имеют свойство собираться на общесемейные праздники и привозить свое потомство с собой. К пяти годам, избавившись наконец от младенческой амнезии, вы вдруг обнаруживаете себя за столом в компании шумных, нетрезвых, хохочущих, огромных существ. Среди них будет несколько маленьких, так же, как и вы, недовольных всеобщим гвалтом. Вас отведут в отдельную комнату, рассадят по диванам, обложат игрушками и книжками. И там, пока за стенкой чей-то мужской голос зычно желает здоровья имениннику, из взвеси солнечного света и пыли вдруг проявится лицо. Приятное, умное лицо девочки примерно вашего возраста. Нет – старше, на целых полтора года. Осознание этого различия моментально расставит вас по лестнице детской иерархии, внушит уважительное, доверяющее любопытство. Это и станет зерном вашей дружбы.
В дальнейшем отношения с сестрой могут укрепляться по нескольким сценариям:
а) вы в гостях у нее;
б) она в гостях у вас;
в) вы вместе в гостях у третьей стороны.
Долгота общения с дошкольной сестрой регулируется, опять же, со стороны родителей, но качество – уже на вашей стороне. Можно, например, однажды разобидеться на сестру за то, что она сама играет только что подаренным вам кукольным сервизом, и разреветься на весь дом. Можно оттачивать навыки примирения, отдав ей взамен свою куклу, которая умеет закрывать глаза – чтобы не прослыть жадиной. Можно вместе срывать малинные ягоды прямо с куста и набивать их в рот, пока взрослые не заметили. Сестра будет то радоваться вместе с вами, то обижаться, то бояться чего-то – зачем ночью тень от ветки так скребется по фонарной лампе? – и теснить вас в постели, прячась рядом с самым надежным во всей Вселенной существом.
Дружить с сестрой в начальной школе становится чуть сложнее. Вы вроде бы все так же устраиваете концерты на общесемейных праздниках (избранное из репертуара «Золотого кольца» и Татьяны Булановой). Но чем дальше, тем четче между вами пролегают тени социальных различий. Вы еще не знаете, что это за штука, но невозможно больше не замечать следующие факты:
а) сестра живет в центре города, а вы – на окраине;
б) сестра учится в профильном лицее, вы – в самой что ни на есть средней школе, да еще и под номером 13;
в) сестра ходит в полноценную музыкалку с сольфеджио и оркестром – вы поете в сводном хоре на продленке;
г) в семье сестры родился младший брат, а ваши родители развелись.
Все это пока не сильно мешает вашим отношениям. Напротив: годам к десяти выясняется, что вы любите сестру любовью чрезвычайной. Ваши подружки со двора – просто дурочки по сравнению с ней. Особенно некомфортны ситуации, когда вдруг приехали родственники, а вас зовут гулять. Просто между молотом и наковальней! Вы – так и быть, – выходите на полчаса, но только возле дома, чтобы не мешаться бабушке, пока та готовит обед, а гости отдыхают.
Замечая на вашем балконе двух новых людей, подружки начинают спорить: кто приехал – две сестры или два брата? Вы говорите, что это брат с сестрой – просто брат еще маленький, и так вышло, что у них обоих одинаковые прически. Но эти вас не слышат, продолжают доказывать, что там либо две сестры, либо два брата. Высшая степень тупизма! Вы смотрите на сестру, которая довольно щурится на июньском солнце – и хотите поскорее к ней.
Совместные занятия с сестрой становятся все более сложными и разнообразными. Уровень вашей социализации также неизбежно растет. Вы больше не можете долго скрываться от него в комнате, где сумеречные ветки все стучат и стучат по настенной проекции фонаря. Можно лишь иногда запираться там; можно сесть на кровать, сложить ноги по-турецки, взяться за руки и «медитировать». Можно шепотом сказать свое желание и с замиранием сердца ждать, что оно совпадет с тем, которое загадала она.
«Я хочу летать между звезд, как комета из мультика».
«Я хочу, чтобы солист «Иванушек Интернешнл» влюбился в меня».
Это еще не страшно – ну не совпало один раз, ну бывает. Но что-то вроде предчувствия; да, что-то вроде предчувствия.
Ваши тела стремительно развиваются; вы даже можете обогнать сестру на целых десять сантиметров в высоту. Но вы по-прежнему на полтора года младше. И пока вы пишите стихи – там даже есть такое, с посвящением: «Ты близкий человек, сестра моя…» и еще полтора десятка сопливых строк, – словом, пока ваша префронтальная кора не понаделала столько синапсов, как у сестры, психофизиологическая разница между вами становится все более заметной. Это проявляется как ваша полудетская назойливость – и ее возрастающее, плохо скрываемое раздраженное отчуждение.
Впрочем, социальное окружение (бабушки, родители) и устойчивые семейные ритуалы (накормить гостей – рассказать новости – отдыхать у телевизора) сдерживают ваше общение в прежнем русле. Вы по-прежнему иногда запираетесь вдвоем в комнате по вечерам. Она слушает ваши стихи (кроме того, с посвящением), делится чем-то своим. Это «что-то» все больше клонится в сторону отношений с мальчиками. Совсем недавно она была по-настоящему влюблена в брюнета-«Иванушку». Его постер еще висит в спальне, но теперь это лишь элемент интерьера, а не идол, ежедневно омываемый слезами. Настоящие мальчишки, одноклассники, зовут ее на свидания! Вы вдруг смотрите на сестру – и видите перед собой не только милое веснушчатое лицо, серо-голубые глаза. У сестры появилась фигура! В ее 160 сантиметрах изящно умещаются округлые бедра, выразительная талия и пока небольшая, но уже грудь. А вы – андрогин. Плоская, сутулая вертикаль. Которое лето донашиваете свой детский костюмчик: синие шорты, футболка со смешной аппликацией.
Когда вы идете куда-то с сестриными подругами – это настоящая пытка. С ними она совсем другая. Они говорят на свои темы, в которых вы ни бум-бум. Ее подруги еще старше. Они крутые. Не то что ваши, которые, судя по всему, уже никогда не вырастут. А эти обсуждают мальчиков, модные сумки, Турцию и… пиво! Оказывается, ваша сестра, которая на семейных сборищах пьет исключительно яблочный сок, уже пробовала пиво! Только никому!..
Потом вы возвращаетесь домой – и опять все как прежде: бабушка, телевизор, беляши, тетрадки с пятерками, бесконечная песня Меладзе на два голоса… Вы вместе купаетесь в ванной, – в купальниках, конечно, – воображаете себя певицами. Бабушка приносит сладкий пузырящийся квас в алюминиевых кружках – ого, у нас вечеринка! После – накраситься маминой косметикой, принять модельные позы и сфотографироваться; хорошо, что на пленочном фотике есть пара кадров в запасе. Так и останется: она – с гитарой, загадочная и романтичная, в мини-юбке. Вы – в застиранных домашних шортах, с балалайкой (второй гитары не было), в фетровой шляпе поверх вечно наэлектризованных волос. Просто дуэт мечты.
К девятому классу ваша сестра по всем внешним пунктам уже настоящая женщина. Когда будет освоен последний, определяющий, внутренний «пункт», она вам все расскажет, конечно. Хотя вы и так все поймете, когда ее увидите. Ночь с 31 декабря на 1 января она проведет в вашем районе, но не у вас дома. Утром придет на праздничный завтрак – вроде бы все та же, но на самом деле абсолютно другая. Взрослые покормят вас и разбредутся по комнатам, делать свои дела, не подслушивать. Тот парень, новый знакомый; целых два раза – сначала было больно, но потом «кайфанула».
Отныне вы становитесь хранительницей всех секретов ее личной жизни. Она выдает их большими порциями, в мельчайших подробностях. Может, что-то приукрашивает, а может, глубина резкости в этих рассказах обусловлена беспокойной энергией ее юности. Вам тоже хочется быть любимой, нужной. И вот, в десятом классе у вас наконец появляется друг. Мальчик, с которым вы «просто ходите», держась за руки, целомудренно целуетесь. Чего-то ждете (чего?) У сестры все парни – разные, но с каждым прямо-таки невероятный, крышесносный секс. Его символическим апофеозом станет алый бюстгальтер, развевающийся на ветках речной ивы, в то время как его обладательница отдается страсти прямо в волнах.
Наши разговоры превратились в сплошные обсуждения ее мужчин.
Одних только ее мужчин.
Бесконечные душевные излияния на тему ее мужчин.
Я пыталась ей что-то советовать.
Что-то рекомендовать.
Как-то поддерживать.
Несмотря на все советы, у нее вскоре случилась «Та Самая История». Сейчас кажется, все было предельно просто: мужик, не определившийся по жизни, выносил мозг влюбленной девочке. Кем он работал? Обладал ли собственными материальными благами – или все его привилегии были исключительно родительской заслугой? Чем он стал? Неизвестно. Сестра много плакала, срывалась к нему посреди ночи – да, как в фильмах. Мне долго казалось, что я по-прежнему для нее важна. Я опять представляла себя упрямым прямым деревом, на которое она может опереться, в ветвях которого может укрыться. Я рассуждала философски: страсть вырывает людей с корнем из прежних условий, искажает их лица, отдаляет от семейств. Надо подождать, когда все наладится и вернется в прежнее русло.
Однажды – она тогда в очередной раз рассталась с тем страшным мужиком, – мы забрались на гору, чтобы погулять в лесу. Я, мой друг и сестра. Гора – живое существо, на груди которого мы все снова дикие, первобытные. Лес – стихия, которую нужно пить глазами, насколько хватит взгляда. Даже если на горизонте попадется завод, легко представить, что его нет – деревьев достаточно, чтобы привести систему в равновесие. Мы с моим мальчиком сидели в траве, завороженные этой сине-зеленой картиной, виденной сотни раз. Мы наверно потому и сошлись, что, при всей разнице в потенциалах наших характеров, любили природу во всех ее проявлениях.
Сестра сидела рядом с нами и терпела. Терпела кузнечиков и паучков, ползающих по ее туфлям, терпела прохладный ветер, треплющий укладку. Потом она устала терпеть и заговорила с Ромой. Он что-то ответил. Она засмеялась. И вдруг я словно очнулась от своего многолетнего сна, и поняла, что она с ним флиртует! Она говорила с этим ребенком леса, с моим зачарованным мальчиком, как с мужчиной! С мужчиной, с которым – ну, не прямо сейчас, не настолько же… Но, при прочих равных…
Это история не про то, как сестра увела моего первого парня. Она, оказывается, разговорила так со всеми лицами мужского пола. Из-за этого в присутствии мужчин мы становились не родственницами, а соперницами. Хотя соперничать со мной было абсолютно бессмысленно: я – девочка-колокольчик, и она – опытная, трепетная, восприимчивая к каждой полуулыбке, к каждому поглаживанию. Но все же…
Рома, кстати, тогда вообще ничего не заметил. Будучи в лесу, на горе, он считал себя выше этого – выше всего человечества. Рома верил, что в прошлой жизни был древнеримским императором и покорял целые народы.
Всего какой-то год назад сестра чувствовала себя неловко в компании моих дворовых недозрелых подружек, а я – в компании ее крутых девок на платформах. Теперь мы получили неудобства иного рода. Дружить – с нашими такими непохожими мужчинами, с нашими разновекторными темпераментами, нашими красно-синими дипломами, манерой одеваться, краситься, разговаривать – не представлялось возможным. Но я по-прежнему ее любила Этот чужой человек был мне самым родным. И я была хранилищем всех ее секретов. Помнила, где, когда и с кем она была, хотя именно от этой информации мне больше всего на свете хотелось бы избавиться.
Она избавилась от всего сама. Встретила человека, который позвал ее замуж, и перестала со мной общаться за год до свадьбы. Потом они расписались, и она перестала общаться вообще. Несколько лет я таскалась с этой обидой, как с облезлым хвостом, отстриженным от старой лисьей шубы. Бродила раненым Хироном мимо дома ее родителей, где она не жила уже давным-давно, и все заглядывала в окна. Страдала страданием отверженных, пока не познакомилась с Марусей. Маруся мне все объяснила.
«Это просто опыт», – сказала она. Мне захотелось поколотить ее немножко за то, что так все упрощает и обесценивает. «Просто энергия, – продолжала бесстрашная Маруся. – Пока ты ее как-то оцениваешь, она сильнее тебя. Но если посмотреть безоценочно, она перестанет иметь над тобой власть. Такой человек, человека не переделать».
Мне было трудно с ней согласиться поначалу – но потом это оказалось лучшим объяснением из всех, что я слышала.
Но как же быть, если дружба – вот так, всю жизнь, то прибывает, то убывает? Море подчиняется Луне, ветер – горам, а чему подчиняется чувство общности между людьми? С возрастом не становится понятнее, чем задела, почему обидела, когда напугала своей активностью, когда, наоборот, стормозила и не поддержала. Стихия дружбы абсолютно непредсказуема, как вода, только хуже воды.
Я очень надеюсь, что у Маруси есть ответ. Однажды она рассказывала мне, как полюбила плавать. Она умела это с детства, но боялась, переживала из-за травмы голени. Как-то раз на индийском побережье она долго стояла на берегу, не решаясь войти в воду. А когда наконец вошла, прислушалась к ощущениям – и поняла, что сейчас не надо делать резких движений. Тогда она просто легла на волну, раскинула ноги-руки и качалась так, «звездой», и представляла, как соединяется со всем, что ее окружает. Как самый первый в мире младенец в своей соленой прото-колыбели. Когда вода успокоилась, Маруся перевернулась на живот и поплыла – единая со всем, доверчивая к морю, открытая всему, что есть сама изменчивость.
Катенька
Она была хорошенькой. Очаровательно, многообещающе хорошенькой. В этом она сама убедилась, когда ей исполнилось пятнадцать. За три месяца до Дня рождения какой-то прохожий дед с щербатыми зубами неожиданно крикнул вслед:
– Посмотри, как ты идешь! У тебя ноги дрыгаются, как у лягушонка!
С тех пор она каждый день стала испытывать осторожное желание как бы невзначай узнать немного больше о своих ногах. Лишний раз заглянуть в зеркальный шкаф, на секунду остановиться перед витриной… Это называется «работать над собой», как позже скажут старшие подруги. Она стала работать над каждым своим несовершенством, реальным или мнимым, лишь бы не вернулось то щемящее чувство стыда, в котором самой себе боялась признаться. Не есть мучного. Не пить лимонада, даже низкокалорийного. Не выглядеть слишком бледной, etc.
Важным этапом в борьбе с собственным несовершенством стала победа над строгостью отца. Капитулировав перед ее истериками, он выделил энную сумму на обучение в школе моделей. Сколько журналов с роковыми красавицами на обложках было залито слезами, сколько каблуков сломано, куда смотрела мать, почему в итоге выбрали скандально известную «Super Models DIY School» – теперь не все ли равно? Эта простенькая история приключилась в то межвременье, когда лучшей профессией для девушки считалась топ-модель или, на худой конец (когда сбросить вес не помогала даже булимия) – телеведущая. Как ее туда угораздило? Стало быть, достойна, стало быть, от рождения принадлежала к породе худосочных сильфид с хрустально-безразличными личиками. Кроме этой изящной породы, у нее ничего и не было – ни связей, ни навыков выживания в высшем обществе, ни представления о том, чем она будет заниматься. Что тогда о ней рассказывать? Что в ней интересного, кроме собирательного образа малолетней искательницы славы?
Есть кое-что. Незначительное, но все же. Во сне Катенька жила иной жизнью. Ей снились не те искаженные переживания, что делают одну треть нашей повседневной жизни немного разнообразнее. Другие люди, другое время. Так было всегда, с самого детства: скромные картины захолустного средневекового поселения, по картинке на ночь. Под утро она забывала подробности. Никому об этом не рассказывала. Но если бы кто-то ее спросил, на что это похоже, она бы ответила, что на мистический триллер.
***
Катерина выходит из дома на закате, подвязав льняное платье вышитым поясом. Днем она хлопочет по хозяйству вместе с младшими сестрами, но по вечерам родители освобождают ее от обязанностей прясть и ткать.
От бабки со стороны отца достался Катерине особый дар: все травы, собранные ее рукой, наделены особой силой. Целебные зелья получаются точь-в-точь как у покойной сродственницы – это признали три старейшие повитухи села. Дар напророчили еще в детстве, но открылся он в неполных шестнадцать. Слава юной травницы год от года росла, но не было радости в той славе.
Катерина – статная, худая, рыжеволосая, острая на язык. Глаза у нее черным-черны, слишком много смелости во взгляде. Рано расцвела она, но красотой холодной, отстраненной. Кто возьмет такую в жены? «Не тем делом занимается, – бормотали соседки, провожая Катерину взглядом, – слишком долго в лесу торчит». Известно ведь – когда женщина остается одна, она думает злое. Местному священнику-то прострел в спине вылечила, он и рот на замок, колдовских штучек в проповедях не осуждает. Но уж больно говорлива, а смеется-то как – все зубы напоказ! У приличных девушек в ее возрасте уже первенец есть, некогда им по лесам бродить да с цветами разговаривать!
Катерина не слушала старых сплетниц, всякий раз возвращалась из леса за полночь, румяная, веселая, опоясанная душистыми травами, с заплечным мешком, полным сочных кореньев. Вся она дышала свежестью той дремучей рощи, где собеседниками ей были только птицы. И молодость ее была под стать этой дикой пахучей траве, растрепанной ночным ветром.
Никого из соседских сыновей не привечала она ни добрым взглядом, ни кивком округлого подбородка. Бывало, что и высмеивала в голос. Отец подумывал пару раз, не запереть ли – но все без толку: Катерина знала подход к его беспокойному сердцу. И цену себе знала. Подолгу любовалась собой всякий раз, когда набирала воду из ручья. Шерстяных передников у нее было полдюжины, а бронзовых колец да жемчужных бус и того больше – зналась с цыганками. Сестры переговаривались за спиной: «Работает как черная крестьянка, наряжается как королевна». Ровесницы, которым Катеринины гадания когда-то посулили замужество, теперь велели молодым мужьям за версту обходить травницу. Новорожденных от нее прятали, а она взяла привычку нескромно шутить по этому поводу.
Вся деревня ждала для нее недоброго случая.
И вот, как-то раз, в подлесье, на душном предгрозовом закате, повстречался ей герцогский егерь.
– Не страшно ли молодой девице в столь поздний час одной ходить?
– В лесу никого страшнее людей не встретишь. Проходи куда шел, человек.
Егеря такая дерзость не смутила; назавтра же прислал к лесной красавице сватов. Та наотрез отказалась даже слушать об этом. Через неделю сваты пожаловали снова. Катерина велела спустить на них собак. Вечером мать выговаривала ей сквозь зубы:
– Пойди за егеря. Так и останешься в старых девках.
– Да лучше я коровой стану, чем быть за этим прихлебателем! Он же плут, каких мало, разве по нему не видно?
– Мало тебе в детстве розг было ох, мало! В кого такой выросла, что родительское слово тебе пустое?
– Пойди, пойди за егеря, – подшептывали тетки. – Иначе, не далек час, хозяин его всю деревню из-за тебя изведет!
Катерина ухмылялась:
– Ну и пускай хоть сам хозяин приезжает! Я не гордая – мной и герцог может любоваться, да сколько влезет!
И точно: недели не прошло, как поглядеть на спесивую егереву зазнобу пожаловал сам герцог.
– Опусти лицо, – тыкали тетки в спину, – прикрой голову!
Но Катерина и не подумала кланяться герцогу. Так и стояла, простоволосая, с корзиной, полной сушеного чертополоха – и смотрела на него, конного, сверху вниз.
Герцог понял, что Катерина эта не чета мужику. И на следующий же день велел передать девушке жемчужину на серебряной цепочке.
Когда явился посыльный, Катерина мяла босыми ногами полынь и в голос сердилась, что ветер сегодня волглый. Разгоряченная, даже не дотронулась до серебра.
– Да скорей мои ноги отсохнут, чем возьму подарочек от этого старого борова! – крикнула она, вне себя от возмущения.
Гонец учтиво поклонился и ушел. Никто посторонний этого разговора не слышал.
Наутро же по всей округе разнесся слух: младший герцогов сын слег от неизвестной болезни. Будто бы ночью ноги его покрылись мерзкой зеленой чешуей, а к рассвету та чешуя поднялась до самого горла и душит невинное дитя. Не кто иной, как ведьма Катерина из селения Брес навела на него порчу.
«Дождались», – задрожали тетки, и хотели было прятать Катерину, но та и слышать об этом не желала. Покорилась для виду, дождалась, пока все уйдут, приоткрыла неслышно дверь и пошла прямиком в лес.
На разъезжей поляне поджидали ее люди герцога. Ткнули в лицо бумагой, предписывавшей схватить ведьму Катерину, живую или мертвую, и доставить в замок для судебного разбирательства.
***
График занятий не выдерживал никакой критики. Пластика, make up, этикет… Модель должна уметь столько всего сразу! Но это, без сомнения, того стоит. Добираться до студии долго: 15 минут на троллейбусе, потом полчаса на метро. Зато какое удовольствие заниматься хореографией в просторном кабинете с бесконечными зеркалами и французскими окнами в самом центре города. «Индивидуальный подход», личный wellness-инструктор, подтянутая преподавательница хороших манер, строгая и такая симпатичная в своих роговых очках (бывшая стриптизерша!) И, конечно, фотосессии, портфолио – уже после первых уроков нужно думать о портфолио. Чтобы было чем удивить агентов, которые ночами напролет дежурят у дверей студии, готовясь сделать предложение будущей звезде подиума. У Катеньки сердце екало от счастья, когда она думала об этом: ей все вокруг казалось предвестием того, как хорошо будет устроена ее судьба. Оставалось немного: получить диплом, подписать контракт, а там – Париж, Милан, Нью-Йорк…
Катенька была уверена в своем призвании – стать еще более прекрасной, грациозной и загадочной. Да-да, загадочной! Заносчивые одногруппницы, избалованные папенькины дочки, толкались локтями и перли напролом. Она решила, что должна быть выше этого. Она ведь читала в журнале: у всех знаменитых моделей была своя Миссия. Все они претворяли в жизнь Мечту, но при этом умели себя правильно преподнести. Корона первой Мисс Вселенной имеет вес, и ее нужно уметь носить! Потому Катенька любыми возможными способами старалась поддерживать себя на позитиве и сопротивлялась негативу, на который провоцировали окружающие – от хмурой контролерши в автобусе, презрительным взглядом провожавшей ее стройные ножки, до одноклассников тупоголовых, прозвавших Катеньку «королевой майонеза» (за то, что однажды снялась в рекламе).
Она стала самой послушной ученицей, тихоней и паинькой. Однако невидимая антенна, вытянутая из ее прелестной головушки, с бешеной скоростью вращалась в поисках Знака Судьбы. Знак, как это обычно и бывает, не заставил себя ждать.
Для следующей фотосессии Катя выбрала образ популярной в конце 90-х американской певицы. Ее нежные ручки усыпали мерцающей пудрой, чтобы они стали еще белее и тоньше. Хрупкие пальчики долго, нежно массировали, затем спилили ноготки и нарастили новые – светло-розовые, тонкие, прозрачные как стеклышки. Макияж – минимальный: тонкой кистью разнесли невесомые румяна по острым скулам. Едва заметные неровности на коже закрасили тональным кремом. На подрагивающие веки наклеили головокружительно длинные реснички. Нарисовали кукольный ротик, добавив блеска для объема. Особая роль досталась прическе: золотистые кудри зафиксировали так, чтобы они не поддавались ни малейшему дуновению вентилятора. После этого Катеньку одели в коротенькое невесомое платье оттенков самых восторженных, прикрыли зону декольте бижутерией – тон в тон к нереально высоким шпилькам, усыпанным сверкающими стразами.