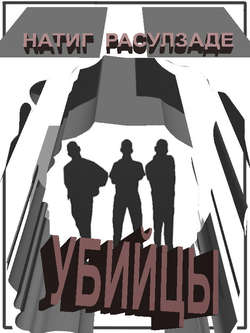Читать книгу Убийцы - Натиг Расулзаде - Страница 1
ОглавлениеЕдва ему исполнилось два месяца, у матери от испуга кончилось молоко: посадили отца по нелепому обвинению, которые в те годы были в большом почете. Отец работал простым рабочим в типографии, но когда прошла серьезная ошибка в одной из столичных газет республики, пришлось за эту ошибку отвечать даже рабочему, потому как месяца за два до трагической для многих типографских работников ошибки был принят в партию для пополнения оной из числа пролетариев, выходит – сознательным считался: партийный как никак, бдительность должен был проявить. А как её проявить, катая по цеху тележку с рулонами бумаги, никто не объяснял. Все-таки хоть и были относительные послабления, но режим продолжал свирепствовать, отголоски страшных лет, косящих людей почем зря, все же продолжались. Сверху, из руководящего центра страны спускалась на места разнарядка – какое количество «врагов народа» следует изолировать от народа, и видимо, под этот недостающий процент и попал ни в чем не повинный и даже не совсем грамотный рабочий типографии, так же как за два месяца до этого попал он под недостающий процент трудящегося люда, необходимого для пополнения рядов армии коммунистов. И пришлось отцу оставить жену с двухмесячным первенцем и отправляться расплачиваться за чужую ошибку. А дома стали срочно искать ребенку кормилицу, подключились родные, соседи, что были ближе родственников – жили в одном доме одной семьей – и вскоре нашли ребенку молочную мать. Ребенок заходился в крике без привычной груди, давали молоко, конечно, из бутылки с соской, но прожорливому малышу видимо, этого было мало, его крик слышен был далеко в квартале, и сердца соседок кровью обливались, слыша плач малыша. В то время всякие детские смеси, различные искусственные детские питания были большой редкостью и только-только входили в моду; грудным, оставшимся без материнского молока детям давали обычное подогретое молоко, но этот поросенок будто чувствовал, что его надувают, есть он ел, но вскоре вновь оглашал всю улицу воплями голодного звереныша. И очень скоро сердобольные взрослые нашли ему кормилицу, сама недавно родила, четырехмесячный младенец был у нее, богатырскую грудь распирало молоко, щедро источаясь фонтанами в глотки малюток, так что она одновременно кормила двумя грудями молочных братьев. На пальцах правой руки кормилицы была татуировка, четыре цифры в такой последовательности: на мизинце – 1, безымянном – 9, большом – 2, указательном – 5, итого 1925, год рождения, следовательно, возраст к тому времени составлял двадцать восемь, но несмотря на молодые годы успела и в тюрьме посидеть и ребенка родить неизвестно от кого. Вот такую ему судьба подкинула молочную мать, и он всосал с её молоком все, что можно было всосать с молоком такой матери; однако, воспитание, естественно, получил от своих родителей – добропорядочных, гуманных, честных – что несколько нивелировало гремучую смесь, что впитал в себя от кормилицы.
Через три года отца освободили, успев за это время выслать его из тюрьмы родного города в колонию усиленного режима в Сибири, где он отморозил себе два пальца на левой ноге; выпустили, признав его невиновность, и он, хромая, поспешил домой со справкой в кармане, удостоверяющей, что он теперь, после трехгодичной отсидки непонятно за что, вполне благонамеренный и законопослушный гражданин и может дальше трудиться на благо родины. Малыш стоял на улице напротив окон комнаты, которую они с матерью снимали на первом этаже двухэтажного старого дома, стоял, прислонившись к стволу огромного дерева, нагретого солнцем и поглядывал на редких прохожих, шагавших мимо, когда мимо него так же равнодушно проковылял его отец и, толкнув отчаянно завизжавшую дверь в маленький дворик, вошел в него, откуда почти тотчас же раздались радостные крики соседей и рыдания матери. Мальчик перепугался, но, тем не менее потопал к дому, но в ту же минуту незнакомый мужчина, прихрамывая, выбежал со двора и кинулся к нему, перепугав малыша еще больше. Он уже хотел дать деру, наученный улицей убегать от опасности, но тут же следом за мужчиной прибежала на улицу мать с улыбкой на мокром от слез лице. Неузнанный отец заграбастал мальчугана, поднял его над головой и внимательным и долгим взглядом поглядел ему в глаза. Мальчишка был крут характером и редко ревел, и теперь он решил выждать, чем все это закончится, был немного спокоен ввиду присутствия улыбающейся матери. Мужчина заключил его в объятия, прижал к небритой своей щеке.
– Это папа твой, – сказала тогда мать с нотками гордости в голосе за то, что сохранила и вырастила малыша в тяжелые годы безотцовщины, – Поцелуй его.
– Мне щекотно, – сказал малыш, плохо выговаривая шипящие звуки и стараясь отстраниться от неприятно царапающей щеку щетины, кисло пахнувшей табаком.
Мужчина рассмеялся глухо и опустил сына на тротуар под раскидистой чинарой.
– Ничего, – сказал он, – привыкнет…
– Конечно, – сказала мать, поглядывая наверх на балконы соседей, усыпанные детворой и женщинами. Ей хотелось погладить мужа по лицу, взять его за руку, но она стеснялась под зоркими любопытными взглядами соседок.
– Пойдем в дом, – сказала она, – Я поставила обед на керосинке, боюсь переварится.
Последнюю фразу она сказала чуть громче, чтобы все знали, почему они сейчас войдут к себе. Она протянула руку малышу, но тот отступил назад.
– Я на улице буду, – сказал он.
– Пошли, пошли, – настаивала мать, – Папа приехал, а ты…
– Да чего ты, Сакина, – сказала соседка сверху, – Пусть побудет на улице, мы присмотрим…
– Идите, идите, – сказала другая из окна напротив, – Вам поговорить нужно, столько не виделись…
Смущенные, отец и мать мальчика вошли во двор.
Смущенные или не смущенные, но именно в эти дни родителями мальчика была заложена подготовка к появлению на свет младшего брата, который и родился в положенный ему срок и оказался еще более горластым и требовательным, чем старший.
А со двора вышли соседки, и одна из них протянула малышу соленую лепешку – шор гогал.
– Поешь, – сказала она мальчику и озорно подмигнула соседкам, – А то обед у вас наверно не скоро еще будет…
Зажав смех во рту ладонью, одна из соседок, поспешила в сторону керосиновой лавки, двое присели на скамейку перед дверью, одинаково положив натруженные руки на колени. Мальчик ел шор-гогал и с удивлением поглядывал на них: было необычно, что женщины, вечно жалующиеся на нескончаемые дела по дому, вышли посреди бела дня посидеть на скамейке на улице. Но долго он не выдержал, захотелось поглядеть, что там делают в комнате мама с незнакомым дядей. Соседки стали задерживать его под разными предлогами, тискали, целовали, совали в руки конфетки-леденцы, но он, наконец, вырвался из их объятий и побежал к себе.
А в комнате отец мальчика вытаскивал из солдатского вещмешка и раскладывал на столе немудреные гостинцы: слипшиеся карамельки, жестяную коробку леденцов монпасье, апельсины, два яблока и большой черный деревянный пистолет, выструганный и покрашенный для малыша и совсем как настоящий, системы «ТТ».
– Нравится, Самед? – спросил отец и был оставлен без ответа малышом, с восхищением вертевшим в руках огромный пистолет. Он прицелился в отца.
– Туф! – воскликнул малец, – Ты убит!
– Эй! – прикрикнула на него мать, – Не смей так говорить!
Малыш расплакался, не привычный к её такому тону, мама на миг показалась ему чужой, не любившей уже только его одного, а больше любившей этого незнакомого дядю, что вторгся непрошенным в его жизнь, в их с мамой жизнь, и что же теперь будет, он останется у них дома навсегда?..
Через тридцать лет, выходя из ворот тюрьмы (в которой он отсидел четыре года) незнакомого российского города, где он, в отличие от отца некогда отсидевшего срок непонятно за что, сидел как раз таки за дело – участие в массовой драке с поножовщиной – Самед вдруг вспомнит этот эпизод приезда отца, вспомнит, как стоял на улице под раскидистой кроной дерева, прислонившись к нагретому солнцем стволу, как мимо прошел прохожий, не обратив на него внимания, оказавшийся впоследствии его отцом…
С чемоданом в руке, в котором аккуратно были уложены теперь такие странные на вид, абсолютно не тюремные вещи: заношенный костюм, рубашка, свитер и надкусанная плитка теперь уже червивого, покрытого белым налетом шоколада, сданные тюремной администрации четыре года назад, Самед, ступив за ворота тюрьмы, поглядел на пасмурное российское небо сентября и пробормотал самому себе:
– Небо здесь совсем не то, что в тюряге.
Он торопливо пошел по дороге, ведущей прочь от тюрьмы, хотя нельзя сказать, что в заключение очень уж бедствовал, напротив – чувствовал себя вполне в своей тарелке, заслужил уважение авторитетов, никогда не давал себя в обиду и не примыкал ни к одной группировке зэков, но, тем не менее… Тюрьма и есть тюрьма, чего там…
Он знал, что как поведешь себя в первый день, так и будут относиться к тебе авторитетные зэки, а как будут относиться к тебе авторитетные зэки – от этого зависит твоя дальнейшая жизнь на зоне. Он знал и был готов к дешевым трюкам, которыми обычно встречают в общих камерах тюрем новичков-фраеров, но внутренне не принимал всю эту дешевую атрибутику, которыми бывалые заключенные, проведшие большую часть своей жизни по тюрьмам, обставили воровские свои законы. Не по душе ему были все эти неписанные тюремные законы. И потому, когда его ввели в камеру, рассчитанную на тридцать человек заключенных, в которой пребывало все сорок (нары, двухъярусные тюремные койки стояли почти вплотную друг к другу, что тоже не способствовало дружбе народов в этой тесной, перенаселенной камере, а наоборот – способствовало частым стычкам и разобщению между населением), и заперли за ним дверь, и когда кто-то из явных на вид шестерок-подлипал авторитетов швырнул ему в лицо полотенце, он, зная, что надо вытереть ноги об это чистое полотенце и шагнуть в камеру, тем не менее, не сделал того, что полагалось по воровским законам, а ногой отшвырнул от себя полотенце, да так удачно, что попал прямо в морду бросившего. Тут же на него пошли трое.
– Ты, что черножопый, в жмурики захотел, век свободы не видать!?
В зарешеченное единственное окошко камеры заглядывала полная луна, когда началась драка, а когда закончилась – начинался бледный осенний рассвет северного края. Первых троих он уложил без труда, они, видно, сильны были только по фене ботать, и то и дело во время драки грязно ругались хриплыми голосами, но потом поднялись еще несколько человек и пришлось доводить дело до конца. Кто-то из зэков вытащил самодельную заточку, но Самед выбил её из рук бандита и, подняв, бросил в парашу, откуда, конечно, вытаскивать заточку никто не осмелился – западло, не в законе. Однако, большая часть населения камеры были люди мирные, не драчливые, и не лезли в чужие дела, не любили в чужом пиру похмелья, и потому только наблюдали потеху, эту тихую, молчаливую драку: слышался только хруст костей и глухие звуки ударов. А вскоре, видя, что драка затягивается далеко за полночь, многие как ни в чем ни бывало, легли спать… Самед в этой драке совершенно выбился из сил, все тело было избито, как говорится – живого места не было, лицо опухло от синяков и ссадин, но к утру, когда несколько человек валялись на полу, не в силах дойти до своих нар, авторитет Самеда чрезвычайно повысился, теперь к нему боялись подходить, косо смотрели, а кое-кто стал даже набиваться в друзья… Но он не хотел здесь ни друзей, ни врагов, он хотел, побыстрее отмотать срок, постараться по возможности попасть под амнистию за хорошее поведение, и выйти, как написано на плакате в коридоре тюрьмы: «На волю – с чистой совестью!», хотя было не совсем понятно, как же люди с нечистой совестью в таком количестве разгуливают на свободе.
Кроме него и одного молчаливого, будто немого, чеченца лет под сорок, сидевшего пожизненно за убийство, и ни во что не вмешивавшегося, здесь не было ни одного кавказца, или людей другой национальности, все были русские; и тем более, чтобы не дать в дальнейшем третировать себя и пресечь всякие нападки, Самеду следовало с первых шагов здесь, показать свой характер, показать, как говорится, волчьи зубы, чтобы его оставили в покое. Он это понимал и понимал, что раз уж его прибытие и пребывание в этой камере началось так негостеприимно, то следует показать этим блатным, что в следующий раз подобное негостеприимство может обернуться для них довольно плачевно…
Что ж, тюрьма она и есть тюрьма, что в ней хорошего?
Но вот он и вышел, прошли четыре года, без всякой амнистии, на которую втайне он надеялся, стараясь за весь этот невероятно долгий срок, когда он буквально дни считал, не нарушать внутренних законов и распорядка тюрьмы… Теперь он на воле… Но куда он торопится? Какую дорогу выбрал? Ведь дороги, ведущие прочь от тюрьмы были две: одна вела налево, в город, другая направо, к вокзалу. В тюрьме долгими ночами он думал, как выйдет отсюда, поедет домой, обрадует мать, младшего брата, поедет на могилу отца в родном его селении, как будет постепенно входить в нормальную жизнь, забросит своих дружков, станет помогать матери, о которой все это время заботился младший брат, и может потому он и не женился, чтобы уделять матери больше внимания? А может, женился? Он дважды навещал его, Самеда в этой тюрьме, и оба раза Самеду были неприятны его посещения, неприятно, что брат видит его в таких условиях, в таком виде, и он просил брата больше не приезжать, сам выйдет – даст Аллах – и приедет домой… Но о женитьбе Заур ничего не говорил, сказал бы, конечно, если б женился, зачем такое скрывать?.. Но нет, еще молод, молод, младше его, Самеда на три… нет, на четыре года младше… Хотя, где же молод, под тридцать человеку, давно уже взрослый, самостоятельный, вполне ответственный парень, в милиции служит…
Но теперь Самед шагал по дороге, ведущей прочь от тюрьмы налево, хорошо зная, что не эта дорога ведет к вокзалу, откуда он мог бы уехать к себе домой, в свой родной город.
Стоял сентябрь, как уже было сказано, и к сказанному прибавим, что пошел мелкий нудный дождь, скоропостижно переходя в проливной, век воли не видать. Тогда он вытащил из кармана пиджака мятую кепку, напялил на недавно постриженную перед выходом голову и прибавил шагу, стараясь не очень запачкать ботинки и брюки уличной грязью. Он выбрал свой путь.
– Нет, – снова проговорил он, как человек долго молчавший и теперь радующийся любой возможности услышать свой голос, – Оно не такое, как на зоне.
Набрал в легкие побольше воздуха, выдохнул так, словно с этим выдохом избавлялся от всего, что пристало к нему в неволе, оглянулся на безлюдной улице и звучно пустил ветры.
– Баланда, век воли не видать… – сказал он, будто извиняясь перед самим собой.
Минут через двадцать он вышел на магистраль пригорода, где на большой скорости угрожающе урча, пролетали тяжелые самосвалы, груженные щебнем: видно где-то поблизости находилась стройка.
– Строят, мать твою… – сказал он.
Далеко впереди, на противоположной стороне магистрали он заметил остановку автобусов. Он перебежал на другую сторону, то и дело рискуя быть сбитым не сбавлявшими скорость машинами, и пошел к остановке. Здесь уже ждали автобуса три человека, женщина на вид примерно его возраста и двое мужчин пролетарского вида с потрепанными от вечного похмелья лицами. Да и женщина, нельзя было сказать, чтобы блистала красотой. Все трое неприязненно поглядели на него – женщина дольше – зная, что тут неподалеку находится тюрьма и точно угадав в нем бывшего зэка. Он тоже оглядел всех троих мимолетным взглядом, задержав взгляд на женщине, будто в ответ на её любопытный, назойливый взгляд. Она тут же отвела глаза и стала смотреть вдоль трассы туда, откуда ожидался автобус. Он почему-то посчитал себя оскорбленным из-за того, что она отвела от него взгляд, – видно во время отсидки самолюбие его развилось до болезненной степени – медленно подошел к ней, на этот раз внимательно оглядывая её с ног до головы.
– Давно ждете автобус? – спросил он её, и с удивлением услышал свой почему-то враз охрипший голос.
– А вам какой нужен? – с готовностью отозвалась она и кажется даже чуть улыбнулась, будто ждала, что он подойдет и заговорит с ней. – Здесь разные ходят, – и через паузу уточнила, – Автобусы.
Он понял, что она не хотела, чтобы он принял на свой счет про «разные здесь ходят» и с благодарность посмотрел на женщину. Сейчас она показалась ему гораздо более симпатичной, чем на первый взгляд. Здесь, после отсидки, на воле он был рад любому общению, а тем более общению с противоположным полом, к тому же таким… таким… Так бы и съел, кажется, после четырех лет воздержания. Он постарался отогнать от себя такие преждевременные мысли, которые могли бы выдать его, но именно такие мысли липли, расталкивая другие, делая косноязычным; и готовые сорваться с языка игривые, непринужденные, легкие слова, делали язык пудовым и срывать не хотели.
Теперь у него не только голос, но даже колени задрожали, сказывалось, что он давно не был с женщиной, и он боялся что-то произнести, чтобы не выдать свое состояние. Но, кажется она поняла.
– Тут пригородные ходят, – пояснила она, – Один едет в центр, другие по микрорайонам. Только долго ждать приходится, особенно который в центр… – словоохотливо сообщала она.
Двое мужчин не обращали на них внимания, один из них закурил дешевую сигарету, не предлагая второму. Тот посмотрел, как товарищ закуривает и отвел равнодушный взгляд. Ранние морщины, глубокие, как шрамы от сабельного удара, лежали на лбу и щеках его.
– А вы куда едете? – переждав предательское волнение, спросил он, понизив голос.
– А вам какое дело? – резко изменив тон, ответила она.
«Характер показывает, – подумал он. – А как же иначе?.. Нормально. На то она и женщина… Не блядь же какая-то, чтобы сразу вся раскрыться перед тобой…»
Тут вдали показался автобус, все обернулись к нему, казалось, бесконечно долго подъезжавшему.
– Это мой, – сказала она, – На работу я еду, на работу, – прибавила она и открыто улыбнулась, – Куда же еще?
Видимо, резкие перепады настроения были в её характере, но улыбка подбодрила его, и он сказал:
– Я тоже на этом автобусе поеду.
– Как хотите, – сказала она.
Автобус подъехал, зашипел дверями, распахнул их медленно и впустил его и женщину в свое грязное, дурно пахнувшее чрево. Двое мужчин на остановке, разочарованно оглядев автобус, вновь устремили взгляды вдаль. В салоне были свободные места, но вместе сесть, как хотел он, им не удалось, и он остался стоять возле нее, усевшейся на имевшееся свободное место.
– Садитесь, что же вы? – сказала она, – Есть же места.
Тогда он молча сел, сожалея, что не удастся поговорить с ней в пути. Она ехала долго, пассажиры выходили, входили новые, а она все сидела, будто села просто прокатиться и поглядеть в окно. Виды, кстати, были неприглядные: поначалу ехали мимо заброшенных пустырей с небольшими облезлыми рощицами, потом пошли одноэтажные домишки, похожие на самострой, какие-то заводы с дымившими трубами и грузовиками у ворот. Прохожих в этих местах было мало. Потом пошли дома четырех и пятиэтажные. Он почему-то стал торопливо считать этажи, и заметил, что улицы стали почище, люди ехали в такси и своих автомобилях. Он никогда не видел этот город, но знал от сидевших с ним, местных заключенных, что город как город, небольшой, с пригородами наберется до миллиона жителей, есть ткацкая фабрика, химический завод, один универмаг, немало торговых точек, которые нетрудно гробануть, немало зажиточных людей, как в любом другом городе, прячущих в тайных, одним им известных местах деньги немалые; женщин в этом городе было больше, чем мужчин, а за портвейном в винных магазинах длинные очереди в любое время года. С этой информацией он и вышел на волю, и решил: там, где миллион граждан нашли себе место и ему, наверное, место найдется. Задумавшись и заглядевшись в окно, он чуть не прозевал свою новую незнакомку, которая встала и уже собиралась выходить на очередной остановке. Он встрепенулся, поискал по карманам, но мелочи не нашел, подошел к водительской кабинке с крупной купюрой в руках.
– Это еще что! – завидев протянутую ему купюру, сказал водитель, – Я вам не касса взаимопомощи. Кидайте в кассу и отрывайте билетик.
– Мелочи нет, – сказал он.
– Ничего, – неожиданно раздался за его спиной уже знакомый женский голос, – Я возьму вам…
Он, не успев поблагодарить, оказался на остановке, возле распахнутых дверей автобуса – здесь многие выходили и его буквально вытолкнули спешащие пассажиры. Она была рядом и тоже, кажется, спешила.
– Спасибо, – сказал он.
– Да ладно, – отмахнулась она.
– Вам куда? – спросил он и тут же торопливо добавил, – Можно я с вами?
– Вам что, делать нечего? – спросила она.
– Я здесь никого не знаю, – сказал он.
Она внимательно оглядела его.
– Интуиция меня не обманула, – резюмировала она осмотр, – Только вышел, да?
Он молча кивнул, слабо развел руками – мол, кто из нас без греха. Кажется, жест ей понравился, она еле заметно улыбнулась, лицо перестало быть напряженным. Они пошли рядом.
– А сам откуда, если не секрет? – спросила она, переходя улицу, вернее, перебегая на красный свет светофора.
Ему пришлось перебегать вместе с ней и на ходу сообщить. Получилось некрасиво, неэффектно, на что он рассчитывал, называя свой город, потому что свой родной город считал гораздо более красивым, известным, гораздо более городом, чем этот, улицу которого они перебегали под сердитые сигналы машин.
– О! А я там была, – сообщила она радостно уже на тротуаре, – Мы с Соколовой из терапевтического отделения отдыхать ездили на юг по путевке профсоюзной, пять лет назад. На ваших пляжах загорали.
– Понравилось? – спросил он.
– Не очень, – сказала она, – Всю дорогу мужики приставали, проходу не было от них. А вы как оказались в нашей тюрьме? Что, своих тюрем у вас нет? Оттуда выслали, что ли? За плохое поведение?
Он улыбнулся шутке.
– Да нет, я здесь и попался. Прямо на вокзале. Не успел приехать, как…
– С корабля, значит, на бал?
– Если бы… К своему другу приезжал, к Алеше Фролову. В армии вместе служили, несколько лет переписывались, дружбу поддерживали. Приезжал он к нам один раз, летом, в море купались. Хороший парень. Он меня давно приглашал, обижался, что не еду… А тут прямо на вокзале случай подвернулся… Ну, как его упустить… Подрались. Взяли нас, дело завели… Ну, вот, я и отсидел, а кореш мой… еще пол года ему осталось… Там же сидит, перевоспитывают…
– А за что арестовали? – спросила она. – Если не секрет, конечно.
– Да какой уж тут секрет… Дело самое простое… Не любят у вас в городе кавказцев, как выяснилось… Стали приставать несколько пьяных граждан, паспорт требовать, издеваться… Ну, вот я и не выдержал… А тут друг мой вовремя подоспел… Встречать меня приходил… Да не с пустыми руками, с кастетом… А с той стороны и нож был, финка, но тут же Алешка выбил у фраера из рук… Из-за Алешки, дурака и схлопотали срок, из-за его кастета… так бы – просто драка, хулиганство в общественном месте… А так – оружие…
– Ну да!
– Да, считается оружием… Так что, по полной программе отбатрачил… Город даже не успел увидеть… Только вокзал… Хороший у вас город?
– Город, как город, – сказала она, – Российская глубинка. Много старых домов, особняков… Вот, кстати, один из них… – она показала на кирпичный старый дом с красивым крыльцом под избушку, на крыше которого развевалось полотнище с яркой надписью: «Слава КПСС!», вовсе к такому дому не подходящее.
По ассоциации, он вспомнил еще одну неподходящую к месту надпись, призывающую граждан быть законопослушными и терпимыми. Выходя из тюрьмы, он впервые за годы отсидки, очутился в проходной с военизированной охраной и, подняв голову, прочитал очередной лозунг, один из тех, которыми тюрьма эта была увешена и разукрашена чрезмерно, как бывалые зэки татуировками, но этот лозунг был довольно-таки странный. «Покидая эти стены, оставь все грехи свои здесь!» – призывала его надпись на плакате, будто из тюрьмы он выходил не на волю, а прямо – шасть! – в церковь. Какой-то тюремный писака перестарался, а начальству, видно, понравилось. Он тогда подивился на такую надпись: «Надо же, мать вашу, век воли не видать!..» – подумал по привычке, а теперь, увидев над старинным домом, в котором располагалась больница, плакат, призывающий восславлять Коммунистическую партию, вспомнил и тюремный призыв.
– Здесь я работаю, – услышал он голос женщины рядом с собой. – Спасибо, что проводили, интересный факт из жизни рассказали.
– А здесь что? – спросил он, оглядывая трехэтажное старинной постройки здание, возле которого они остановились.
– Это больница, – сообщила она, – Так что, лучше сюда не попадайте. Ну, что, пока… – сказала она вроде бы и не вопросительно, но ему почудился вопрос в её голосе.
Это его подбодрило.
– А когда вы заканчиваете работу?
– Поздно, – сказала она и опять улыбнулась, словно удачно пошутила.
– Я вас встречу, – сказал он, – Можно?
– Встречайте, – пожала она плечами, махнула ему рукой и торопливо пошла к входу в больницу.
– А как вас зовут?! – крикнул он вслед ей.
– Софья! – крикнула она в ответ, уже входя в больницу.
– А меня!.. – крикнул он, но она уже вошла. – Самед, – тихо сообщил он самому себе. – Очень приятно.
Он еще некоторое время смотрел на дверь больницы, за которой она скрылась – не выйдет ли узнать его имя? – потом бесцельно побрел по улице. Почувствовал голод (в тюрьме он привык есть вовремя, а теперь уже давно прошло время завтрака), он поискал глазами, но ничего подходящего – ни кафе, ни столовой – не обнаружил поблизости, кроме милиционера, который подозрительно оглядел его. Он в долгу не остался – подозрительно оглядел милиционера. Но не стал ждать развития событий, эта дуэль взглядов могла закончиться не в его пользу. Он пошел быстрее, притворяясь, что спешит по очень важному делу, от которого зависит судьба миллионного населения этого города вместе с пригородами. Милиционер не стал догонять. Таким образом, вскоре он обнаружил занюханную забегаловку с забытыми им запахами пива и блевотины. Вошел, конечно.
Забегаловка оказалась пивнушкой с автоматами, выдающими порционное пиво каждому потребителю. Народу здесь было тьма, раза в полтора больше, чем могло вместить помещение, но, несмотря на это стояла странная для такого злачного места, необычная, настораживающая тишина. И Самед, уже не раз битый жизнью, насторожился. Однако, протиснувшись к автоматам, он понял, в чем дело. Оказалось, что один из автоматов испортился и выдавал беспрерывную незаконную струю пива. А граждане потребляющие в солидарном молчании подставляя одну кружку за другой, это пиво беззастенчиво потребляли. Соблюдалась, кстати, строжайшая очередь. Тот приятель, невидимый глазом, который находился в чреве автоматов и должен был контролировать струю, видимо, заснул, злоупотребив служебным положением. И пиво лилось рекой, вернее – речкой, точнее – струей, но струя была живительная, благая, дар небес. В последний раз такое случилось – шутили потом старожилы-пивники, – в одна тыща восемьсот двенадцатом, как раз ко входу Наполеона в Москву, повезло французу. Шутили, а потом смеялись. Самед, тоже завладев бесхозной, сомнительной чистоты кружкой, тихо, как приличный, воспитанный гражданин (к тому же только что вышедший из места принудительного воспитания отдельных трудновоспитуемых членов общества), встал в очередь, но как раз за два человека до него струя прекратилась. Высох ручеек ко всеобщему неописуемому разочарованию и досаде. Но никто не роптал, все понимали, что счастье не может длиться бесконечно. Видимо, тот приятель внутри проснулся и стал исполнять служебные обязанности. Сразу же все разом заговорили, и в пивной стало шумно и естественно. Самеду пришлось купить жетон и бросить его в уже неинтересную щель. Струя пошла, но ровно столько, сколько положено. Самед примостился возле веселых, довольных своей судьбой, уже сорвавших свою порцию удовольствия потребителей и стал потягивать пиво на голодный желудок.