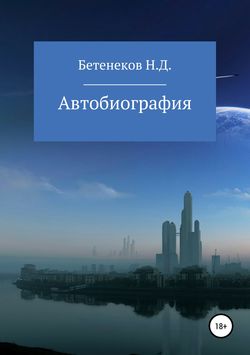Читать книгу Автобиография - Николай Дмитриевич Бетенеков - Страница 1
ОглавлениеМинистерство образования и науки Российской Федерации
Уральский Фудуральный университет имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина
Рекомендовано методическим советом УрФУ для студентов, обучающихся по всем направлениям и специальностям.
* * *
«…Родился я 9 декабря 1943 года – вспоминает Бетенеков Николай Дмитриевич, выпускник Свердловского суворовского военного училища 1962 года (годы учебы 1956–1962) – в сибирском рабочем поселке при железнодорожной станции Голышманово (рядом в десяти километрах есть еще большое село с таким же названием) в Тюменской области.
Это фото 1951 года. На нем в верхнем ряду моя старшая сестра Клава – живет в Москве. Нижний ряд слева на право: средняя сестра Галина-жила в Омске, я и моя мама Битинекова Александра Федоровна, они с Галиной похоронены в одной могиле в г. Омске. С этой фамилией мама и прожила до конца жизни.
Фотографию отца так и не нашли, пришлось фотографировать фотографию, которую Клава изготовила из малоформатной фотографии, прикрепленной к удостоверению моего отца. С этой фотографией мои внуки участвуют в трогательном шествии Бессмертный полк.
Случилось это за месяц до гибели моего отца Дмитрия Семеновича Бетенекова на фронте, в январе 1944 во время Рижского наступления под Псковом. Могилу его мы с матерью разыскали только к 30-летию Победы. Его имя написано на обелиске, который представляет братскую могилу на 30 тысяч человек. Деревня, которую мы долго искали, находится под Псковом на стыке двух областей. В похоронке была указана Калининская область, а после войны был передел и деревня оказалась в Псковской. Только после прямого обращения в Министерство обороны нам помогли разыскать могилу отца.
1961 год. Суворовец Бетенеков
После гибели отца мама осталась с тремя детьми, обе сестры старшие. Одна сестра живет в Москве, другая в Омске.
Когда я подрос, то задал вопрос матери: как же так, я родился в декабре 1943 года, а отец погиб в январе 1944, воевал с самого начала войны? Оказалось, что за девять месяцев до моего рождения отец приезжал с остатками части в город Кунгур, это на Урале, на переформирование. Несколько месяцев была передышка в период подготовки части к фронту, и мать к отцу ездила. На свет я появился благодаря чистой случайности.
Сестры выросли и уехали из дома. Одна в Москву, другая в Омск. У матери я оставался один и стал проситься в суворовское училище. При абсолютно нулевом базовом старте, не имея знакомств, связей, средств, она подняла детей, замуж не выходила, внушала нам любовь к отцу. На этом привитом матерью уважении к образу отца – фронтовик, офицер, погиб за Родину, у меня созрело устойчивое желание поступить в суворовское училище. Мама всячески противилась, сестры уехали, складывалась перспектива оставаться одной, но в конце – концов согласилась, однако хлопотать за меня, ходить в военкомат отказалась. Я сам в свои 11 лет сходил в военкомат, все разузнал, какие нужны документы, что делать дальше, и попал на сборы в Тюмень, куда собрали всех поступающих из районов Сибири и Дальнего Востока.
1956 год. Рота суворовцев с офицерами-воспитателями и преподавателями.
Это был 1956 год, суворовских училищ было много, ребята могли попасть в любое из них. Мне выпало Свердловское суворовское. Я закончил к тому времени четыре класса, лет мне было чуть больше двенадцати. Мама отдала в школу почти в восемь лет, хотела, чтобы я был рядом с ней подольше. Сестры пошли в школу с шести лет и рано покинули дом.
1956 год. Старший лейтенант Логинов Анатолий Михайлович, офицер – воспитатель 1-го взвода.
В училище были вступительные экзамены, напряженное время ожидания, но все утряслось и началась учеба, которая у всех нас оставила глубокий след. Собираясь каждые пять лет после выпуска, мы только и говорим о своих суворовских годах. Время незабываемое. Оно сформировало нас как личности, на всю жизнь определило дальнейшую судьбу. Офицерский, преподавательский состав и в то время, и сейчас – очень интересные люди. Офицер – воспитатель, который принял первый взвод нашей роты, Анатолий Михайлович Логинов. Мы с ним дружим, поддерживаем отношения до сих пор. Дни рождения, праздники, юбилеи училища – всегда вместе встречаем, знаем о его самочувствии, ему уже за 80. Он заменил нам отца. Офицер-воспитатель с нами днем и ночью. Командовал ротой майор А. Г. Разин, потом Александр Иванович Езов. К сожалению, они уже умерли.
Ребята, бывая в Екатеринбурге, всегда встречаются с офицерами и преподавателями, которые нас учили и воспитывали. Володя Задиора, Валера Чепурко, Саша Васильев и другие, кто здесь живет, мы вместе навещаем наших преподавателей. Их след в нашей судьбе неизгладим. Преподаватели в нашем училище были талантливыми людьми. Физику нам преподавал майор Л. М. Спивак. Когда он уволился в запас, то многие годы преподавал в Харьковском университете на физическом факультете. Уровень его подготовки соответствовал университетскому.
Нам повезло учиться у таких людей. Один из наших суворовцев Володя Мурашко, он вместе со мной начинал учиться на физтехе, специально поехал в Харьков, чтобы продолжить учебу у Спивака.
Май 1958 года. Командный состав роты. Слева – направо: А. М. Логинов-командир 1 взвода, В. Г. Кубышкин – старшина роты, А. И. Езов – командир роты, В. Н. Морозов – командир 3 взвода, А. Г. Разин – командир 2 взвода.
1960 год. На комсомольском бюро роты отчитывается Саша Васильев (стоит). Сидят слева – направо: В. Задиора, В. Ваторопин, А. Карпов, Н. Бетенеков, В. Мурашко
Английскому языку нас учили три преподавателя. Анастасия Петровна Бутто, заслуженный учитель России, замечательный человек, вела у нас фонетику, грамматику, основы языка. Мы ее, пока она была жива, постоянно посещали, знали ее семью, детей, дети были нашими ровесниками, взрослели вместе с нами. Ростислав Николаевич Соколовский, второй преподаватель. Он учил нас разговорному языку. Он читал нам стихи, заставлял нас их учить, до сих пор они у нас в памяти. Третий преподаватель участник Нюрнбергского процесса майор Иван Степанович Сиволобов вел военный перевод. Три преподавателя по одному предмету. 12 часов в неделю английского языка. В таком объеме давали нам язык. Ни в одной школе такого не было. После окончания суворовского училища кроме основного мы получали еще и диплом военного переводчика. Когда мы оказались на «гражданке» без средств существования, с мизерной стипендией, мы зарабатывали переводами. Обращались в бюро научно-технической информации, получали тексты и переводили. Техническая терминология нам была знакома, справлялись вполне, и таким образом зарабатывали на жизнь.
1961 год. С мячом Бетенеков Николай.
Фактически, выпускник суворовского училища может учиться в любом высшем учебном заведении. Такой уровень подготовки, такой кадровый состав офицеров-воспитателей и преподавателей. Что касается других предметов – картина такая же. Возьмем литературу. Ее преподавал капитан Геннадий Владимирович Дагуров. Ему даже предлагали пост министра образования республики Тува, но он предпочел училище. Это отец известного уральского поэта В. Г. Дагурова, который издал немало поэтических сборников, поэт очень популярный. Потом преподавала Ольга Васильевна Дейнека, дочь заместителя командующего Уральским военным округом. Но она более привлекала не преподаванием литературы, а своей замечательной внешностью. Один из моих однокашников Володя Ваторопин безнадежно влюбился в нее, была романтическая история, заслуживающая отдельного описания. Он учился в Ленинградской академии, сбегал оттуда, чтобы ее увидеть. В общем, бурный роман.
Кстати, к нам на уроки литературы приходил начальник училища генерал-майор Григорий Григорьевич Коберниченко – высокий, мужественный. Приходил, слушал, а потом, при обсуждении творчества поэта, начинал по памяти читать нам его стихи. Причем, читал великолепно, им заслушивались. Погоны не мешали ему быть лириком, глубоким знатоком литературы.
1961 год. Сборная Свердовского СВУ по баскетболу. Крайний справа – тренер Анцис, в темной майке Николай Бетенеков (слева – седьмой). В сборную входили и суворовцы из Тамбовской и Оренбургской рот (в светлых майках).
Таких творчески одаренных людей в училище было много. Мои однокашники, если хотели, могли заниматься музыкой, фотографией, развивать любые склонности. Условия для этого были. В такой обстановке, когда люди не отвлекаются на решения различных проблем, можно было заниматься обстоятельно. Отвлекались мы только на спорт. К 13–14 годам у меня был рост взрослого человека – 176 сантиметров. Я играл за сборную училища своего возраста по баскетболу. Был центровым, играл под кольцом. Мои товарищи были разыгрывающими. Когда нам исполнилось по 16 – ребята резко пошли вверх, и тогда я стал разыгрывающим. Тренировались мы в Спортивном клубе армии, играли мы и за округ, и за училище. Во Всесоюзных соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда» по лыжам мы едва не стали чемпионами. Заняли фактически первое место, но при просмотре дел, оказалось, что одному из участников эстафеты нашей команды Василию Новикову исполнилось 14 лет, а допускались до 14. Нас сняли с соревнований. Это к тому, что спортом занимались в обязательном порядке. Лыжи, велосипедный спорт, игровые виды.
Каждое лето мы надевали солдатскую форму и выезжали на месяц-полтора в летний лагерь, но не в пионерский, а военный, где упражнялись с оружием, рыли окопы, участвовали в учениях.
На фото слева я с Леней Масаловичем, сейчас живет на Донбасе, опять воюет.
Условия были серьезные. Один мой товарищ, Валя Зычкин, пострадал. Потом мы вместе учились на физтехе. Нас подняли по тревоге в четыре утра, получили приказ окопаться на берегу озера. Шел дождь. Окопы заполняла вода. В шесть утра началась атака. С противоположного берега пошла техника с десантом на броне, мы лежали в окопной жиже, пока вся бронетехника не прошла через нас. Так называемая «обкатка танками». Парень сильно простудился и долго лечился в туберкулезной больнице. Но ему дали возможность доучиться и он поступил на физтех. Командование училища, кстати, своих воспитанников не бросало на произвол судьбы.
У меня тоже ситуация так сложилась, что я не пошел по военной линии, получив серьезную спортивную травму. На фоне физических перегрузок, травм, образовалось варикозное расширение вен правой голени, которое довело меня до операции.
На медицинской комиссии перед окончанием училища на эту болячку врачи не обратили внимания и направили меня в Киевское высшее военное инженерно – авиационное училище, хотя я был распределен в Военно-дипломатическую академию, которое готовило военных атташе. Нас таких было трое из нашего выпуска. Уже были сданы экзамены, но сразу после них произошла история, в которой я косвенно принял участие. Мой друг Женя Соколов пошел перед выпускным вечером в самоволку к девушке, которую очень любил. А перед выпуском увольнение запрещалось. А тут неожиданная проверка начальника училища генерал-майора Ивана Антоновича Даниловича, бывшего кавалериста, воспоминания не очень приятные. Дежурного по роте предупредил дежурный по училищу, я побежал искать друга, потому что один знал, где его искать. Вместе с ним мы опоздали в училище минут на пять. Данилович на построении зачитал приказ. Моего товарища отчислили, лишили золотой медали, а меня вместо академии направили в общевойсковое училище. Туда мне не хотелось идти на строевую службу. Опять же помогли преподаватели: переложили мои документы в Киевское авиационное. Я сдал успешно экзамены, было 12 человек на место. Прохожу медицинскую комиссию после отличной сдачи экзаменов, профессор, генерал-майор, хирург, обратил внимание на варикоз. Предложил операцию и дальнейшее продолжение учебы. А у меня появляется возможность поступить на физтех. От операции отказался. Я вернулся в Свердловск и присоединился к ребятам из моей же роты, которых комиссовали по здоровью сразу на гражданку и они поступали на физтех…»
* * *
Бетенеков Николай Дмитриевич
выпускник Екатеринбургского СВУ 1962 г.
доктор химических наук, профессор, действительный член Российской экологической академии, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Лауреат первой премии Всесоюзного Химического Общества Д. И. Менделеева
Бетенеков Николай Дмитриевич – крупный и широко известный специалист международного уровня в области общей и прикладной радиохимии, радиоэкологии и химии редких элементов. Его вклад в физическую химию и радиохимию сорбционных систем признан во всем мире.
Бетенеков Николай Дмитриевич родился 9 декабря 1943 года в рабочем поселке Голышманово Тюменской области. Окончив четыре класса школы, в 1956 году поступил в Свердловское СВУ, которое окончил в 1962 году. В этом же году поступил в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова.
«…На физико-технический факультет нас направил, подсказал, что нам обязательно надо заниматься наукой – подполковник Н. А. Бабаян, начальник отдела кадров училища – вспоминает Бетенеков Николай Дмитриевич, выпускник Свердловского суворовского военного училища 1962 года (годы учебы 1956–1962) – Мы приходили к нему советоваться – вдруг на гражданке окажемся, где лучше учиться, получать образование. Он подводил нас к окну кабинета и показывал на здание Физико-технического факультета Уральского политехнического института. Вот там, говорил он, делают атомную бомбу. Туда вам надо идти учиться…»
«…И вот вернувшись в Свердловск, мне предстояло догнать своих ребят (к этому времени все поступающие сдали по два экзамена). Прихожу в одну аудиторию – там принимает экзамены мой преподаватель в суворовском Ростислав Николаевич Соколовский. Английский сдан. Ребят я догнал. На мне форма курсанта летного училища. Все смотрят с интересом, к летчикам тогда интерес еще не был утерян. Сдали экзамены, до зачисления остаются недели две. Из нас, пяти поступающих, трое сирот. Среди них Валя Шевченко, с такой судьбой: его грудным во время войны подобрала девушка по имени Валя, военная медсестра. Армия продвигалась, его нашли во время боевых действий. Он, естественно, не мог сообщить имени, фамилии, откуда родом. А поскольку дело было на Украине, фамилию дали Шевченко. Он так и не узнал о своих родителях ничего до сих пор. Работает сейчас на Ленинградской атомной станции, стал крупным специалистом в этой отрасли. Есть книги о нем.
Трое круглых сирот, а у нас с Женей Соколовым были живы мамы. У него в Хабаровске, у меня в Сибири. Помочь материально они нам не могли. Сиротам тем более. Средств к существованию не было. На счастье, подружка, из-за которой Женю Соколова отчислили из училища без золотой медали, уехала с родителями на юг, а нам оставила квартиру. Мы жили все пятеро. Съели все запасы.
Пришли в деканат, все экзамены сдали отлично, я умудрился еще отлично сдать в Киеве, а Валя Шевченко в Ленинграде. Четверо – золотые медалисты. Ведем разговор о зачислении. Нас зачисляют и направляют по нашей просьбе на работу – на строительство при факультете циклотрона в качестве рабочих. Мы все в военной форме. Ни зимней гражданской одежды, ни обуви, кроме сапог. Суворовская или курсантская шинель. В этой форме и ходили. К нам отнеслись с пониманием, но с условием, три человека будут учиться специальности физика, двое – химика. Но тот же самый мудрый Бабаян говорил нам в училище: – атомную бомбу делают и физики, и химики. Видите мой стол? Хотите знать, что на нем лежит? Тогда идите учиться физике. Но вы наверняка интересуетесь, что находится в столе? Если это хотите знать – идите учиться химии. Я пошел обучаться химии. Ни разу не пожалел. На физико-техническом факультете всем дают фундаментальные знания по физике, математике и химии. Так я оказался в этой отрасли. Дальше – учеба здесь. Помимо учебы – увлечение театром. Поступив на физтех, узнали, что в институте есть английский драматический театр. Преподаватели кафедры иностранных языков сразу почувствовали нашу подготовку, что нам неинтересно заниматься в общей массе и нас объединили с выпускниками специализированных английских школ в отдельную группу. На базе этой группы вырос английский драматический театр, и мы осилили мощные постановки. Главную роль в принятии решения об участии в репетициях студии сыграла личность Клеопатры Константиновны Потапенко, ведущему преподавателю кафедры иностранных языков. Она вела занятия в нашей группе и первой рассказала нам о существовании в институте английской драматической студии и пригласила нас попробовать свои силы на актерском поприще. Необыкновенно красивая, молодая женщина поразила нас и широтой своей эрудиции, и глубокой культурой. Она получила образование в английской школе Китая, закончила факультет иностранных языков свердловского педагогического института, владела восемью языками. Последние сомнения отпали, когда мы узнали, что она продолжит заниматься с нами и в студии, так как является одной из активных участниц ее деятельности.
К 400-летию Шекспира поставили спектакль «Антоний и Клеопатра». Я играл Антония. Потом «Лиса и виноград», где я сыграл Эзопа (фото). Естественно, все на английском языке, спектакль костюмированный, с хорошими декорациями, успех оглушительный.
1965 год. Сцена из спектакля “Эзоп” на языке оригинала.
Слева направо: преподаватель кафедры иностранных языков УПИ Клеопатра Константиновна Потапенко; студент Николай Бетенеков (Эзоп) – выпускник Свердловского СВУ 1962 года; студент Леонид Чащин (Ксанф); студент Юрий Тищенко (стражник) – выпускник Свердловского СВУ 1961 года.
На наши спектакли приходили из города, приезжали из других мест. О нас писали газеты Лондона, Осло. Мы оказались единственным творческим коллективом в СССР, который к юбилею Шекспира создал на языке оригинала такие постановки. Главной заботой стала необходимость выучить роль, не пропустить ни одной из трех-четырех в неделю репетиции. Острую нехватку времени удавалось восполнить только за счет пропуска занятий, о чем с легкой руки старосты группы В. Пяткова незамедлительно становилось известно деканату. Надо было видеть тогдашнего заместителя декана физтеха Ивана Самсоновича Пехтышева, когда он в своем кабинете с нескрываемым удовольствием рвал очередной проект приказа о моем отчислении из института после беседы в моем присутствии с тремя красивыми, ярко одетыми женщинами. Этими женщинами конечно были мои защитницы Инга Петровна Федотова, Клеопатра Константиновна Потапенко и Р. Е. Плясунова.
Я не ходил на лекции, но учился отлично. Брал конспекты у товарищей, ходил в библиотеку, свою создавал. Такая была базовая подготовка в суворовском училище. К четвертому курсу из театра ушел, вплотную занялся учебой.
В 1968 году я окончил Уральский политехнический институт им. СМ. Кирова, инженер-технолог (технология редких и рассеянных элементов). Прошел путь: старший инженер, аспирант кафедры радиохимии Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (1968–1971 годы), младший и старший научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (1971–1979 годы), старший преподаватель кафедры химии и технологии редких элементов Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (1979), доцент кафедры радиохимии Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (1979–1992 годы), профессор кафедры радиохимии Уральского политехнического института имени С. М. Кирова (1992–1999 годы), заведующий кафедрой радиохимии УГТУ-УПИ (1999–2010 годы), в настоящее время – профессор кафедры радиохимии и прикладной экологии Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (бывший УГТУ-УПИ).
Аспирантура, экспедиции, проблемы, связанные с атомоходным флотом. Работая на физтехе, я 15 лет посвятил со своими коллегами Военно-морскому флоту. В свое время я ушел от военных забот, но по научной тематике жизнь вновь привела к военным. Кафедра в целом, в том числе и я посвятили этому много лет. Довелось побывать в дальних походах. Мы занимались разработкой, испытанием и оснащением современными видами техники подводного и надводного флота страны. Награжден знаком «За дальний поход». Таким знаком награждаются профессиональные моряки за поход, который длится не менее четырех месяцев. Я участник таких походов. Побывал на многих бухтах базирования атомного подводного флота. Вместе с коллегами получил Премию Совета Министров СССР за постановку на вооружение своих разработок.
Затем грянул Чернобыль. Я участник ликвидации Чернобыльской аварии. Пять лет выезжал в 30-километровую зону.
Среди чернобыльцев много героев. Я много раз побывал в мертвом городе Припяти и на самой станции. Мой однокашник по суворовскому училищу Володя Захаров сразу после аварии в апреле 1986 года стал заместителем директора Чернобыльской атомной станции.
В свое время на Белоярской АЭС в 1978 году могла произойти авария наподобие чернобыльской. Произошел сбой в работе, прекратилась подача электроэнергии. Для предотвращения аварии нужно было заглушить реактор. Тогдашний секретарь парткома Белоярской АЭС Володя Захаров, бывший суворовец, мы с ним за одной партой в училище сидели, объявил срочный призыв добровольцев. Откликнулись две тысячи человек. Они вручную опустили управляющие стержни в активную зону реактора, чтобы заглушить его. Хотели включить резервные электродвигатели, они не включились, что-то заклинило. Могла произойти трагедия, последствия которой трудно себе представить. Но ситуацию спас профессионализм обслуживающего персонала и личный героизм участников операции. Некоторые ребята получили большую дозу облучения, лечились в Москве в клинике Гуськовой. На телефонной связи был Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Готовились к эвакуации города Заречного. Собрали весь автомобильный транспорт, пассажирские автобусы из Свердловска, подошло несколько железнодорожных составов. Аварию удалось предотвратить.
1982 год. Встреча в СвСВУ на 20-летие со дня выпуска. На первой парте сидят Васильев А. С., на второй – Захаров В. Г. и Логинов А. М., на третьей – Фукалов В. А.
26 апреля 1986 года. Володя Захаров находился в командировке на Чернобыльской АЭС. Он был в должности заместителя директора Белоярской АЭС. Утром произошел выброс, дирекцию станции арестовали. В то же утро он получил приказ Министра энергетики о назначении его заместителем директора Чернобыльской АЭС. Он, будучи заместителем директора станции, отвечал за все происходящее там. Первый орден он получил за предотвращение аварии на Белоярской АЭС, а второй за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он настоящий герой.
1982 год. Встреча через 20 лет со дня выпуска
Сидит на корточках – Соколов Е. И. Первый ряд слева направо – Разин А. Г., Логинов А. М., Езов А. И., Черепанов О. В., Мурашко В. П. Второй ряд слева направо – Бетенеков Н. Д., Задиора В. И., преподаватель английского языка Бутто А. П., Кулаков П. И. Третий ряд слева направо – Антон Фукалов, Кокорин А. Л., Тяпкин С. Ю., Захаров В. Г., Ярославцев В. В., Прокопец Н. И. Четвертый ряд слева на право – Фукалов В. А. с сыном Антоном, Васильев А. С., преподаватель истории Клименков А. В., Вахрин В. В., Евсеев В. Н., преподаватель английского языка Соколовский Р. Н. Последний ряд – Чепурко В. В.
Сегодня ситуация меняется. То, что считалось закрытым, рассекречивается. Приходится часто бывать на предприятиях нашей отрасли – Промышленное объединение «Маяк», город Озерск, Федеральный ядерный Центр ВНИИТФ, город Снежинск, Уральский электрохимический комбинат, город Новоуральск, они и сейчас, эти административно-территориальные образования закрыты, но там сейчас бывают и иностранцы. Проводятся совместные работы, выполняются заказы. Сейчас той секретности нет, когда в тайне держалось само расположение объектов, их и на карте не было. Ситуация изменилась, но тем не менее, вы сейчас находитесь на закрытой части факультета, я ваш приход согласовал с нашими службами. Отрасль остается областью государственных секретов, но послабление есть. Раньше мы были невыездными. Я выезжал за границу, но это были сугубо служебные командировки, в том числе и на военных кораблях. Не везде нас принимали. Сингапур не принял наш корабль и мы вынуждены были отправиться в Северную Корею. Моряку необходимо раз в два месяца постоять на твердой земле.
Наша кафедра сейчас выполняет заказы американских компаний. Есть заказ департамента энергетики США. Получаем финансирование этих программ и от инофирм. Это помогло выжить нам в смутное время. Разработки наши сейчас носят сугубо мирное назначение. Они тоже связаны с ядерными технологиями, но больше носят научно-исследовательский характер. Например, разработка технологий производства изотопов медицинского назначения. Радионуклидная диагностика во всем мире ныне расцвела пышным цветом. Используются короткоживущие радиоактивные изотопы для диагностики состояний всех органов человека. Ранняя диагностика опухолей мозга, например. Компьютерная томография. Принцип действия основан на использовании радиоактивных изотопов, путем введения их в организм человека. Радиотерапия. Современная онкология не может обойтись без использования источников ионизирующего излучения. Сегодня считают метод лучевой терапии не самым продвинутым. С одной стороны излучение тормозит развитие раковых клеток, с другой стороны поражаются здоровые органы. Поэтому разрабатываются методы лучевой терапии локального действия. В центр опухоли вводится радиоактивный изотоп, который поражает больные клетки, но в ограниченных пределах опухоли. Здоровые органы и ткани не страдают.
Сегодняшнее направление развития ядерной медицины касается необходимости производства таких изотопов, которые могли бы использоваться для лучевой терапии локального действия. Помогать больным людям, которых, к сожалению, становится все больше. Решаем такие вполне мирные задачи. Сегодня наши технологии производства изотопов для ядерной медицины осваиваются на ПО “Маяк” и РНЦ “Курчатовский институт”, город Москва.
Таких кафедр с названием радиохимия в стране всего три. Мощная кафедра радиохимии в МГУ. В Санкт-Петербургском университете и у нас на физико-технологическом институте УрФУ. Мы все время говорим о том, что основы явления радиоактивности, знание о том, что это такое, должно входить в багаж каждого человека, чтобы не было боязни. Это природное явление. Бомба – это да, искусственное создание человеческих рук по специальным технологиям. Хиросима и Нагасаки. Почему американцы опробовали на двух городах? В Нагасаки взорвали плутониевую бомбу, плутоний-239, химический элемент, открытый Гленом Сиборгом (мне довелось с ним встречаться), в Хиросиме урановую, уран-235, природный изотоп урана. Его нужно было отделить от тяжелого изотопа урана, урана-238. Получить высокообогащенный уран. Сейчас на высокообогащенном уране работают ядерные реакторы на быстрых нейтронах. В природном составе изотопов урана – 99 с лишним процентов урана– 238, а остальное уран-235, из которого можно делать бомбу. Его надо было научиться выделять. Нужна была технология разделения изотопов урана. Американцы раньше, мы чуть-чуть попозже научились и сделали. Ядерная промышленность с этого и начиналась. С разработки технологий производства делящихся ядерных материалов. Радиохимия как раз та научная дисциплина, которая обеспечивала технологиями эти производства.
1995 год. Сан-Франциско (США). На встрече с Гленом Сиборгом. Слева – направо: директор института имени Г. Сиборга Д. Хоффман, переводчица, академик, профессор, Лауреат первой премии Всесоюзного Химического Общества Д. И. Менделеева Николай Дмитриевич Бетенеков (Россия) и лауреат Нобелевской премии по химии Гленн Теодор Сиборг (США).
И вся моя жизнь по существу связана с кафедрой радиохимии, с площадью имени С. М. Кирова города Свердловска – Екатеринбурга. В 1956 году я приехал из Сибири, поступил в суворовское училище, здание видно из окна моего кабинета, перешел площадь и с 1962 года я на физико-техническом факультете УПИ. Место работы не менял. Весь мой жизненный путь до сегодняшнего дня…»
А это авторы доклада Об организации образования в области радиохимии в СССР на встрече с Г. Сиборгом слева на право Чекмарев – заведующий кафедрой химии высоких энергий Менделеевского университета, член. – корр. РАН СССР, глава метод совета Министерства образованияя и науки СССР, И. Звара – академик академии наук Чехии, лауреат Ленинской премии за открытие 104 элемента, начальник радиохимического отдела Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, г. Дубна, Бетенеков Н. – лауреат первой премии ВХО им. Д. И. Менделеева за 1971 г, профессор кафедры радиохимии УГТУ-УПИ.
Бетенеков Николай Дмитриевич внес решающий вклад в теоретический анализ закономерностей статики, кинетики и динамики межфазного распределения радионуклидов-микрокомпонентов в рамках представлений о лабильных и инертных системах, а также с учетом коллоидных форм состояния сорбата.
Предложил и защитил авторскими свидетельствами и патентами технологические решения по использованию неорганических сорбентов в схемах радиохимического анализа, в технологиях выделения радионуклидов из облученного ядерного топлива, дезактивации радиоактивно-загрязненных сточных вод и очистки питьевой воды. Большинство разработок внедрены в практику, некоторые находятся на этапе доработки и внедрения.
Разработал и прочитал курсы радиохимии, радиохимии и радиометрии, радиоэкологии. В последнее время разработал и читает курсы, связанные с гидрохимией, основами почвоведения и радиогеоэкологией.
Им изданы учебные пособия и учебно-методические указания. Бетенеков И. Д. – автор и соавтор более 300 научных публикаций, держатель 40 внедренных авторских свидетельств на изобретение и патентов, в том числе патентов США, стран Евросоюза.
Под его руководством защищено 15 кандидатских диссертаций.
Награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ и Правительства Свердловской области, отмечен знаками и почетными званиями:
– «Изобретатель СССР»,
– «Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС»,
– «50 лет атомной отрасли» (1999 г.).
– «Академик И. В. Курчатов» 3 степени (2009 г.)
Примечание. Гленн Теодор Сиборг (19 апреля 1912–25 февраля 1999) – великий американский химик и физик-ядерщик. Благодаря его работам окончательно сформировалась новая наука – ядерная химия. Лауреат Нобелевской премии по химии (1951 год)
В 1934 году Сиборг окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли в 1937 году,
В 1940–1941 гг. вместе с Макмилланом Сиборг открыл плутоний. Без этого элемента над Нагасаки не взорвалась бы атомная бомба. Но без плутония не могли бы работать и атомные электростанции, плутоний используется и в миниатюрных автономных источниках электроэнергии космических зондов, отправляемых к далеким планетам Солнечной системы. Позднее совместно с другими учёными открыл америций, кюрий (1944), берклий (1949), калифорний (1950), эйнштейний (1952), фермий (1953), менделевий (1955). В последующие годы принимал участие в синтезировании более тяжёлых элементов.
Ни один другой химик за всю историю науки не был автором открытия столь большого числа химических элементов. Это был единственный химик, имевший патент на открытие элементов (америция и кюрия).
В 1951 году Сиборг совместно с Макмилланом получил Нобелевскую премию по химии за открытие плутония. Он являлся активным участником Манхэттеновского проекта по созданию ядерного оружия.
В 1971 году удостоился звания иностранного члена Академии наук СССР.
В 1961–1971 годах – председатель Комиссии по атомной энергии США.
В 1997 году в честь Сиборга назвали 106-й элемент периодической таблицы Менделеева – сиборгий. После этого рабочий адрес Сиборга может быть записан при помощи обозначений химических элементов, из которых первые три синтезировал он сам: Am, Cf, Bk, Lr, Sg (америций, калифорний, берклий, лоуренсий (лаборатория имени Лоуренса), сиборгий).
Гленн Сиборг известен и как творец так называемой актинидной гипотезы, теперь общепризнанной, определявшей положение трансуранов в Периодической системе.
* * *
Бетенеков Николай Дмитриевич
Профессор кафедры радиохимии и прикладной экологии УрФУ, д.х.н.,
Заслуженный работник высшей школы РФ
Монолог, записанный на пленку.
(Екатеринбург, 1 сентября 2011 года.)
С Николаем Дмитриевичем Бетенековым свела судьба уже после чернобыльских командировок 86–88 гг. Хотя и могли встретиться на 1-м учредительном съезде союза «Чернобыль» в Киеве, куда мы со Славой Мирошниковым приехали в далеком 89-м. Я – от газеты «Наука Урала», в которой тогда работал, Слава – с Белоярской атомной… Бетенекова же увидел впервые уже в Екатеринбурге, на одной из первых встреч чернобыльцев, которые проходили тогда в отделе снабжения[1] УрО РАН. Там по протекции нашего же чернобыльца, Стаса, нам выделили помещение. Николай Дмитриевич, основательный, умный – как и подобает мужу ученому – сразу покорил и заинтересовал. Он не только хорошо говорил, всегда веско и по делу, на наших чернобыльских сборах, но еще и многое делал, что в период «раннего чернобыльского средневековья» было немаловажным. И уже потом, хотя мы редко встречались, стало понятно, что интерес у нас с ним был взаимным. Это интервью с ним записано на правах «старого боевого товарища», без оглядки на время и положение.
Для справки: сегодня радиохимик Бетенеков – известный ученый, видный специалист в своей области. Есть ученики, соратники, признание. Ведет курс в университете, и слушать его лекции, я думаю, одно удовольствие…
Кое-что о Чернобыле
… Ты спрашиваешь, что занесло в Чернобыль, нашу кафедру и ее сотрудников? Можешь об этом не читать, а смотреть видио с моим интервью по адресу www.yuortube.com/ Химия просто. ЧАЭС 30 лет спустя. Там найдешь интервью не только со мной, но и доцентом нашей кафедры Е. И. Денисовым, профессором В. С. Кортовым. Ну а хочешь, то слушай еще раз. Да были у нас такие задачи, связанные с разработкой методов определения радиоактивных изотопов в различных средах – в воде, на почве и так далее. Ну и в Чернобыле, мы все это применили. Там ведь во время аварии топливо, выброшенное взрывом из активной зоны реактора, распределилось по большой территории: упало на землю, на крышу третьего блока и еще много куда. Но значительная часть этого топлива упала на дно водоемов. Ты знаешь, там два канала, это вообще типичная ситуация: любая АЭС строится на берегу водохранилища, во всяком случае, водоема. Фукусима, та, вообще – на берегу моря. На ЧАЭС же, как и везде, из водоема-охладителя по каналу вода забирается, используется и сбрасывается в другой канал, по которому эта вода возвращается в водоем-охладитель.
И вот на дно этих каналов в результате аварии упала немалая часть осколков топлива – урана-235, плутония-239 и продуктов деления.[2] Всё это лежало на дне. Возникал вопрос, что будет происходить дальше. Начнется ли выщелачивание, и поступление радионуклидов в Припять, а значит и в Днепр, который снабжает водой Киев или этого не произойдет? Иными словами, идет ли растворение топливных осколков или всё спокойно, они могут там лежать, и ничего с ними не будет… Вопрос стоял так, потому что доставать их со дна было бы значительно сложнее, чем собирать на суше. Да и кто знал, вдруг это приведет к какому-нибудь залповому выбросу радиоактивности или еще к какому-нибудь нежелательному эксцессу. В общем, необходимо было определиться. Эту-то задачу мы и решали, наладив в Чернобыле соответствующий мониторинг, по результату которого пришли все-таки к выводу: вода не растворяет, не выщелачивает топливные осколки в существенной степени. До сих пор всё там лежит, и никто их не поднимает со дна.
Я везде говорю «мы», имея ввиду, что с первого же дня мы работали в тесной связке с моим многолетним коллегой, лауреатом Ленинской премии Львом Михайловичем Хитровым.[3] Мы с ним сотрудничали много лет до этого. Он возглавлял лабораторию геохимии океана в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского. В 70–80-е годы наши коллективы совместно разрабатывали методы определения радиоактивности морей и океанов, и когда грянул Чернобыль, оказалось, что разработка, выполненная целиком для задач геохимии океана, оказалось востребована и в условиях радиационного заражения чернобыльской территории. Хитров сразу поставил своим геохимикам задачу обследовать акваторию Припяти, водохранилища и каналов. А поскольку исследования наши велись сообща, то пригласил и нашу кафедру.
В 1988-м году в Зоне был организован «Спецатом», герой Советского союза Самойленко его возглавил. У нас завязались прямые договорные отношения со «Спецатомом» на постоянной основе сроком до 1990 года, и здесь уже в год для нас получалось несколько командировок. Закончилось же наше взаимодействие как раз перед тем, как развалиться Советскому Союзу. Предвестники этого разделения проявлялись уже в том, что украинская сторона стала тормозить вопросы заключения договоров с российскими организациями по чернобыльской тематике. И в конце концов кроме только Курчатовского, по-моему, да радиевого институтов там ни кого из россиян не осталось. Все вопросы украинцы стали решать сами.
Из истории организации
… И вот, будучи в этой тематике, как ликвидатор-чернобылец я оказался делегатом 1-го учредительного съезда общественной организации «Союз Чернобыль». В 1989 году такой съезд прошел в Киеве, на нем были приняты очень судьбоносные решения, и там как раз прозвучало требование принять закон о социальной защите ликвидаторов и пострадавшего населения.
Было выбрано первое правление, и председателем его был избран как раз Лев Михайлович. Когда все эти события выборные на съезде прошли, Лев Михайлович меня пригласил и сказал: «Мы создали союзную организацию, ты в Свердловске, а теперь надо создавать организации на местах. Считай это моим поручением и займись!». Я вернулся со съезда, и долго ломал голову, как вообще подступить к этой задаче. Где искать этих чернобыльцев? Миллионный же город… интернета тогда еще не было, не выйдешь же на улицу с криком: «Ау, где вы, ребята…!» (смеется).
И вот тут по радио я вдруг слышу объявление о голодовке. Несколько человек, ликвидаторов, на Комсомольской в отделении гематологии «забузили». Их не устраивало лечение, обслуживание и прочее всё. Оказалось, их там не так мало находится на лечении. Тут я понял, что нужно туда бежать в первую очередь, отправился к ним, и так совпало, что они уже готовили такого рода собрание. А на нём и было озвучено, ребята, мол, чтобы нам решать проблемы чернобыльцев, надо создавать областную организацию.
И с этого момента всё стало как-то стремительно раскручиваться, я попал в число инициаторов этой организации, и потом, как ты знаешь, определенный период времени был ее первым сопредседателем. Случай нам тоже очень помог. В то время уже начиналась ломка всего и вся, близилось запрещение компартии. Демократия раскручивала обороты и началась кампания по выборности всех законодательных органов нашей власти. Ну и наш областной совет должен был переизбраться на новых принципах. А председателем облисполкома в то время был Воздвиженский.
Мы тогда с другими сопредседателями Трофимовым[4] и Дёминым[5] поразмышляли, как быть в этой ситуации, и решили обратиться к Воздвиженскому с предложением включить задачу создания организации участников ЛПА на ЧАЭС в программу его избирательной компании. Мне довелось с Воздвиженским эту беседу провести. Он – человек очень крупный, государственный, и мне не нужно было слов много тратить, чтобы он подхватил эту идею. Ведь таким образом он приобретал огромное количество безусловных сторонников, что было немаловажно. С тех пор процесс пошел семимильными шагами. При такой поддержке все вопросы, касающиеся регистрации организации, оформления бумаг и так далее стали очень быстро решаться, и организация задышала.
Такая связь времен: мы просто оказались колоссально в струе, когда проблемы чернобыльцев сплелись с общественными и политическими потрясениями смены власти. А проблем было много – и здоровье пошатнулось у чернобыльцев, и материальное положение ухудшилось, и в семьях пошли нелады – кого жены побросали, а кого по-другому как-то жизнь покалечила… Те годы я вообще вспоминаю с определенной дрожью: такого клубка проблем, мне после ни в одной ситуации жизненной не доводилось встречать. И наш институт сопредседателей и исполком (так тогда его назвали) союза «Чернобыль», не имея никакого опыта, еще толком ничего не зная – стал как-то всё это решать, «разруливать». Нашлись и деньги, чтобы помогать реально ликвидаторам, немало организаций, к которым обращались, стали выделять спонсорские средства. В общем-то вся эта работа для меня как вузовского работника, на котором еще и висят лекции, занятия, студенты, аспиранты… (смеется)… научные работы и так далее, отнимала, конечно, очень много времени. Ну а когда уже появился закон, появились определенные льготы для коммерческих организаций, которые становились «под крыло» союза «Чернобыль» тут уже я почувствовал, что это уже немножко не тот уровень. Непривычный, в частности, для меня. С афганской организацией ведь то же самое приключилось, когда огромное количество предпринимателей, предприятий всяких стало пытаться перерегистрироваться, как-то переоформиться под знамена этой общественной организации. Хотя кто-то как рыба в воде чувствовал себя. А я понял, что нужно отходить от этих дел и переключаться на свои родные задачи.
В конце концов, я отошел от дел, сохранив, конечно, связи. Единственно, в чем успел еще активно поучаствовать это в создании медицинского центра для ликвидаторов. Проходило же это сразу после регистрации нашего союза. Все члены исполкома, конечно, активно участвовали в этом процессе. Но как-то так получилось, что большинство ликвидаторов, сколь бы заметную роль они там не играли в самой общественной организации, люди-то были далекие от вопросов радиации. Большинство из них осознали, что-такое радиоактивность только на своем личном чернобыльском опыте. Ни образования соответствующего люди не имели, ни знания медицинских аспектов – профилактики или лечения таких заболеваний – люди просто не имели. Поэтому я на тот период, наверное, был полезен. Мне легче было разговаривать с врачами и специалистами по этим вопросам.
Главный врачом тогда был Кузьмин, человек, воспитанный в известном плане. Ведь наша 2-я областная больница, на базе которой центр создавался, была «вотчиной» КПСС, и обслуживала в первую очередь функционеров обкома партии и властных структур. И вдруг эта больница приобретает совершенно новый не свойственный ей набор функций, а врачи получают непривычный контингент больных людей, да еще и проблемы радиационной медицины, в которых, прямо скажем, мало кто тогда ориентировался. Да и в человеческом плане они как-то не очень воспринимали эту ораву чернобыльцев… (смеётся), вчерашних водителей, строителей, слесарей, монтажников и прочих «непривилегированных» членов общества. Ну и Кузьмин, конечно, как огня боялся всего этого, и изменить его отношение было трудно.
Хотя какой-то «нюх» у него все же был, жизнь, видимо, научила. Приближались большие перемены в стране. Он как-то гибко сориентировался, и в итоге удалось эту идею «продавить». Я помню было большое собрание всего коллектива этой больницы. Меня попросили там выступить и объяснить просто врачам, ради чего этот центр создается, какова специфика этих больных. И я как мог – тоже ведь не врач – объяснил им проблемы радиобиологии, мне знакомые: как воздействует ионизирующее излучение на организм человека, какими могут быть последствия и так далее. Объяснил, понятно, только на теоретическом уровне. Поначалу видно было, что коллектив больницы сильно настроен против и что этого всего им совсем не надо. Ну вот как-то удалось снять антогонизм, заинтересовать… И, в сущности, мы оказались тогда первыми в Советском Союзе, кто создал такой официальный центр. Первыми – из всех региональных организаций союза «Чернобыль», который объединял тогда без малого 800 тысяч ликвидаторов.
Плутоний как «момент истины»
– Николай Дмитриевич, поговорим о плутонии. Говорят, большая его часть вышла за пределы чернобыльского реактора…
– Давай-ка, определимся. Что именно вышло из реактора?… Топливо загружают в реактор в виде окисла урана, с обогащением по урану-235 в 2–4 процента… Вот факты, которые мы точно знаем: РБМК,[6] это уран-графитовый реактор, где уран в качестве топлива (190 тонн), графит – замедлитель нейтронов и вода – теплоноситель. Вот все основные компоненты реактора. Его запускают, и по ходу работы идет накопление плутония-239 и его более тяжелых изотопов, а также продуктов деления. Радиоактивность топлива при этом возрастает многократно! Среди продуктов деления есть радиоактивные благородные газы, которые просто в силу своей химической сущности, не соединяются с другими элементами, а норовят выйти наружу. И это создает проблему любой атомной станции, которая «газит» через вентиляционную трубу, которая у нее есть. А выпущенные кюри радиоактивных благородных газов, это штатный или регламентный выброс данной конкретной станции. Затем известные продукты деления – кроме многочисленных изотопов йода, это еще и цезий-137, стронций-90, которые у всех на слуху. Последние относительно долгоживущие, с периодом полураспада до 30 лет. Цезий, например, тоже образует большое количество летучих химических соединений при высоких температурах… Там же в топливе доходило до 2000 °C! Ну и остальные сотни и сотни различных изотопов, с периодом полураспада от какого-то количества лет до миллисекунд.
Всё перечисленное и создает ту активность, которую можно оценить на весь реактор, ну, допустим, несколько миллиардов кюри. Что получается после взрыва? Во-первых, часть этой активности унесла группа благородных радиоактивных газов, которая и так норовит выйти из активной зоны реактора. Она ушла с тем облаком, которое распространилось потом по Европе и Скандинавии. Во-вторых, другую ее часть унесла группа радиоактивных изотопов, которые при повышении температуры переходят в летучую форму и «газят» постоянно. Такой «факел» продолжался, пока саркофаг не построили.
И в-третих, – если уже говорить о физической массе, а не о том, что «невидимо-незримо» – «разметеленные» взрывом углеродные блоки, само топливо и конструкционные материалы. Здесь тоже значительную часть активности выбросило наружу, так сказать, в виде «кусков». Но кусок этот, извините, до Лондона не долетит. Его подняло взрывной силой и тут же опустило. Именно такие вот куски и собирали лопатами сначала солдаты, потом ликвидаторы. Ну ладно, где-то кусок выкинуло, а где-то этот кусок топлива настолько на мелкие частицы распался – до микрона и долей микрона – что их уже может поднять струя воздуха. Вот это и называется «горячими частицами»,[7] которые уже могут преодолевать существенные расстояния, их удалось обнаружить и в странах Европы и Скандинавии. Почему «человек с лопатой», который убирал осколки, получал очень высокие дозы радиации? Потому что он получал не только мощное внешнее облучение от высокорадиоактивных «кусков» топлива, но и имел повышенный риск получить немалую дозу внутреннего облучения, так как ловил «горячие частицы» на кожу через щельные просветы спецодежды и вдыхал их, а массовая удельная активность облученного топлива достигает 200 кюри[8] на грамм топлива. Только представь себе, от каждого грамма – многие тысячи рентген в час!
Всё, что я перечислил, говоря о физической массе, вышло из разрушенного реактора одномоментно при взрыве. Остальная же часть компонентов до сих пор находится под саркофагом: в топливе происходил перегрев, и, перекалившись, оно могло истекать вниз под реактор как «из изложницы». При этом образовалось то, что теперь называют «слоновья нога».[9] И немалое количество ядерного топлива там до сих пор находится (до 130 тонн из 190 тонн исходного топлива).
– Плутоний ведь, кроме того, еще и токсичен…
– Да абсолютно канцерогенный искусственный элемент, который в природе до начала испытаний ядерного оружия отсутствовал…
– Кто-то оценивал его распространение во время аварии?
– Конечно. И есть сотни статей в научной литературе на эту тему. Кроме того, службы мониторинга всей Западной Европы, Скандинавии – всех, кто более ли менее пострадал от чернобыльского выброса, они ведь не доверяли Российским данным. И, как мы знаем, именно под давлением той информации, что шла с Запада, правительство СССР уже не могло скрывать информацию о случившейся катастрофе. Потому что там мониторинг-то еще с шестидесятых годов налажен был не хуже чем у нас – много лучше. Тогда шли испытания ядерного оружия в околоземном пространстве. Только в 64-м году их запретили, а до этого многие страны взрывали ядерные боевые заряды прямо в атмосфере. Что такое «взрыв ядерного боевого заряда»? Это кусок урана-плутония монолитный взорван, и он мелкими частицами рассеян по атмосфере. При ядерном взрыве степень выгорания урана или плутония очень низкая и большая часть делящегося материала остается в первоначальном виде. Так там специально конструкцию такую создали, чтобы взрыв «разметелил» всё до мельчайших частиц и разнес куда подальше. С тех ещё лет были созданы и у них, и у нас станции, оснащенные всеми видами наблюдений за радиоактивными осадками.
И вот оттуда пошли первые «звонки» – к нам летит радиоактивное облако! Одно дело, прилетел бы радиоактивный йод, или цезий, это и некрупная даже авария могла бы выдать. А когда прилетел плутоний и его зафиксировали, то это уже, извините, полный «копец»! Тут уж считай, где-то произошла разгерметизация активной зоны, раз само топливо вырвалось наружу… И европейцам-то сразу стал понятен масштаб аварии.
– Но это означает, что сотни и тысячи людей во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле могли вдыхать и частицы топлива?
– Ну а как же. И у ликвидаторов, и у работников сельхозпредприятий такая вероятность была вполне реальной. Одним словом, у тех, кто в то время проводил какие-то работы поблизости. Взять хоть тракториста, к примеру, который пахал себе поле. Он ведь при этом вдыхал пыль, не зная, что та радиоактивная уже. Между прочим, при вскрытии людей, которых затронула авария, лёгкие находили… с дырками! Это и были следы тех самых «горячих частиц». Локальная радиационная нагрузка, как мы говорили, у этих частиц очень и очень высокая: если человек вдохнул, то всё это попадает на альвеолу легкого и просто прожигает его насквозь. Это не выдумки, а медицинский зафиксированный факт.
– Как же определить их присутствие в живом организме?
– Такие методы радиобиология разработала давно. Мы еще в ту пору, когда только создался наш медицинский центр, предложили организовать контроль чернобыльцев на наличие в их организме вышеупомянутых поражающих факторов. Как контролировать?… Да замерять выделения – с мочой, калом!. Этот метод дает очень надежные результаты по оценке накопленной радиоактивности альфа-излучающих изотопов во всем организме, потому что радиобиологи очень быстро изучили процессы миграции радиоактивных изотопов в живом организме. И если я знаю, что этот больной выделяет с каждым литром мочи столько то беккерелей урана или плутония, то радиобиолог тут же даст формулу подсчета суммарного содержания инкорпорированных в организме радионуклидов. Но оказалось, что это очень дорогие анализы, и не только в денежном пересчете… Мочу надо собрать, минерализовать, то есть разложить, а это не такая приятная «работа»… Мы, конечно, претендовали на какую-то долю финансирования из областного бюджета, то есть не говорили, пусть Чернобылец заплатит. Но надо было их лаборанткам осваивать непривычные для себя методы анализа, а на это больница пойти не захотела.
Самое-то еще, что неприятное… С плутонием напрямую, вот так – ручками, работает немалое количество людей на том же химкомбинате «Маяк». Они – главный производитель оружейного плутония, об этом даже в газетах пишут. Среди прочего там есть и его механическая обработка. Ну понятно, когда работает профессионал, то он и в комбинезоне, и в респираторе, и в перчатках. Но даже у них, в организме этих людей, находят немалое количество плутония. Почему? Да потому, что ты органы дыхания закрыл, а на поверхность кожи у тебя всё это попадает. Человек просто где-то расслабился и решил, зачем это ему всё, ничего страшного нет!
– Чтобы как-то дело повернуть реально, надо было убедить медиков. И я, буквально как клещ, к каждому чернобыльцу приставал: а ты расскажи, вот ты был летчик, что ты там делал, в каких условиях работал… Из наших вертолетчиков уральских про каждого знал, как он там летал, где ему свинцовые листы подстилали. На какое расстояние он подлетал к разрушенному блоку, и что туда «кидал». Ведь когда кидали мешки с песком вертолетчики фактически в чрево факела и попадали, и этот факел прямо к нему туда и бил!
Или про тех ребят, которые крышу очищали. Ну на 40 секунд отпускали их с лопатой, а не мало этих ребят уже через 10 секунд теряли там ориентировку. Человек уже не понимал, для чего он туда попал, вообще, какой-то ерундой начинал заниматься, приходилось за ним кого-то посылать – ну просто вытащить оттуда… Она, радиация, невидима: вроде запаха нет, цвета нет, а на психику давит. И человек пребывал в эйфории, забывал, что надо бежать назад. А некоторые начинали в этих условиях снимать с себя респиратор, понятно, он же в нем задыхался…
Словом, были все основания, чтобы ставить вопросы медикам. Я говорил, ребята, ну давайте исследовать, вы же сейчас можете получить огромное количество данных… На что мне главный врач отвечал: «А мы связывались – вот же филиал института биофизики в Челябинске. Так у них же такой опыт, и кого только они там не обследовали!.. Никаких оснований говорить, что вы там в моче чего-нибудь найдете нет». Действительно, у них под контролем весь контингент профессиональных работников, которые напрямую работают с этими делами, и население. У них там большая наука. Но население-то ни разу не побывало в таких условиях как в Чернобыле… ВУРС?[10] Но опыт ВУРСА никак не притянешь к Чернобылю!.. У них, по сути, была бочка с радиоактивными отходами, куда «слили» продукты деления – ни урана, ни плутония там уже не было, поскольку всё, что нужно, уже отобрали. И бочка эта взорвалась. Теперь там санитарно-защитная зона, и до сих пор немалые территории изъяты из землепользования. Но ничего похожего на чернобыльскую ситуацию с точки зрения горячих частиц и близко нет! Это прямо вытекает из того, что мы сегодня наговорили…
– И что же, получается, эта проблема на сегодня неразрешима? То есть плутоний в нас есть, а дела никому нет?
– Думаю, что нельзя говорить о всех ликвидаторах одним чохом, особенно в связи с проблемой плутония. Условия работы у всех были разные. Поэтому и следовало выделить группу риска, проведя своевременно анализы выделений. А теперь время уже упущено. Вообще в мире в целом детальный мониторинг плутония – это отложенная проблема. Общественность успокаивают данные НКДАР о том, что проведенные в течение 14 лет после аварии исследования не дали доказательств, что наблюдаемые нарушения в здоровье людей, пострадавших в результате аварии, связаны с радиоактивным загрязнением. Нет научных доказательств увеличения частоты раковых заболеваний и других проявлений действия радиации. Увеличения заболеваемости лейкемией, одного из наиболее рано проявляемых радиационно индуцированных раковых заболеваний, не зафиксировано даже среди ликвидаторов аварии (смотри Сахаров В. К. Радиоэкология. Спб.:
* * *
ЧЕРНОБЫЛЬ И КОРПОРАЦИИ
В отличие от нефти и газа, глупость – ресурс возобновляемый.
Юлий Андреев
– …В 1988 году был создан «Спецатом» – специальное производственное объединение для борьбы с последствиями атомных аварий. К этому времени я уже два года провел в зоне, в двух километрах от реактора (г. Припять) в качестве первого заместителя директора СП “Комплекс", который и был преобразован в «Спецатом». Название «Спецатом» придумала моя жена Ирина.
– Официально «Спецатом» считался «атомной аварийной службой”, но, как и все в «развитых государствах», это событие имело двойной смысл. Атомные аварии случаются слишком редко, чтобы высокие руководители видели в этом серьезную опасность, поэтому «Спецатом» создавался, скорее, для упрочения положения зампреда по энергетике Бориса Щербины, которое серьезно пошатнулось в связи с чернобыльской аварией. Щербина лелеял мечту вернуть Припять в состав «живых» городов, снизив, таким образом, колоссальные убытки. Расположение «Спецатома» в грязной зоне представлялось Щербине первым шагом в этом деле.
– Аварийной службой «Спецатом» так и не стал, так как оказался в подчинении Минатома, руководство которого было уверено, «запроектные» аварии у них никогда более не произойдут.
– Ночевать мы ездили в Чернобыль, где было чище. Очень раздражало то, что в зоне нельзя было заняться спортом, так как при любом напряжении приходилось усиленно дышать, а в воздухе встречались так называемые "горячие частицы" (радиоактивные пылинки размером до десятков микрон, заглатывать которые было психологически неприятно, вред, наносимый ими здоровью, точно не определен). Официально работы велись вахтами, по пятнадцать дней без выходных, но к руководству это относилось только теоретически – представьте себе директора, который отсутствует на работе по две недели каждый месяц. С повышением ранга до объединения, я решил, что могу позволить себе экзотический спорт, единственно возможный в этом месте. Был запущен большой плавательный бассейн в Припяти, в котором можно было плавать с аквалангом и давать нагрузку на организм. Фокус заключался в том, что баллоны наполнялись воздухом в Киеве.
1
Теперь это фотомузей «Дом Метенкова».
2
Изотопы элементов, имеющих массы примерно от 72 до 162. Например, стронций-90, иод-126, цезий-137 и др.
3
Л. М. Хитров – российский ученый-радиохимик, первый президент Союза «Чернобыль». С первых дней катастрофы производил исследования в Чернобыле. Умер от лейкемии. «Благородный, скромный человек и, вместе с тем, глобально мыслящий учёный» – писала о нем в газета «Известия» в некрологе от 27.01.98 г.
4
С. Г. Трофимов – ликвидатор, 1987 г. Сопредседатель, а затем председатель Свердловского областного союза «Чернобыль» в 1990-???? гг.
5
Владимир Дёмин – ликвидатор. Первый председатель, а затем сопредседатель Свердловского областного союза «Чернобыль» в 1989–1990 гг.
6
РБМК – Реактор Большой Мощности Канальный. Серия энергетических ядерных реакторов, разработанных в СССР. Некоторые считают, что его конструкторские недоработки привели к катастрофе 26 апреля 1986 г. Другие обвиняют в «фатальных» ошибках персонал АЭС.
7
Горячие частицы – твердые высокорадиоактивные частицы, образующиеся при ядерных авариях с разрушением активной зоны реактора. Длительное время пребывают в атмосфере и могут переноситься на значительные расстояния. Так, частицы, попавшие в стратосферу на высоту до 30–35 км, могут находиться там в течение 10 лет. После их выпадения на поверхность Земли могут вновь подниматься в воздух (ветровая миграция).
8
Кюри – единица активности. Соответствует – 3,7×1010 радиоактивных распадов в секунду.
9
Чернобылит – застывшая смесь отработанного ядерного топлива, бетона и песка, пропалившая отверстие в искореженном взрывом основании реактора и протекшая в бассейн под реактор.
10
ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след, так называется территория, загрязненная в результате техногенной аварии, произошедшей 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» (Челябинск-40).