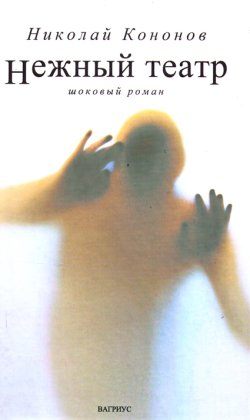Читать книгу Нежный театр - Николай Кононов - Страница 1
I
Оглавление………………………[1]
___________________________
Я пытался вообразить свою мать.[2]
Но она никогда не давалась мне, будто совсем не хотела оживать, – даже в лучах моей памяти. Все напряжение оборачивалось густеющим снежным облаком.
Но самый тягостный выход из этих страстных медитаций – она с лицом моего отца. Но равная ему лишь в границах тех слов, которые я мог навязать этому зрелищу.
И я говорил, говорил, говорил…
Ну, наконец-то, – вот она, пусть даже в личине моего отца, с его невыразительным лицом – то есть та, которой у меня точно не было.
Но и он, принимающий личину моей матери, остающийся сам собою, оскудевал, делался бесполезным, так как уже ничем мне не угрожал. Как фальшивый Кронос, который поглощает меня, совсем меня не пожирая. Словно я – кольцо.
Мне трудно это сразу объяснить.
И мне нравилось в детстве, (да и в отрочестве, и что уж тут скрывать и позже, и позже… тоже мне нравилось) напялить на себя картонную маску милого понурого слоника или шкодной лукавой мышки. Других у меня не было. Маски зверьков, перепутанные с канителью, хранились в наилегчайшей коробке с прочей новогодней утварью. Долгие-долгие годы. На одном месте. На одной высокой полке. Как символы неизменности моего утлого мира. И я отмечал, как перерастаю эти детские маски. Как они теснят меня больше и больше. Как подозрительно пахнет папье-маше твердеющей изнанки. Как пылит в нос, как отшелушивается старая бумага.
Я шел к зеркалу – и пристально и пристрастно смотрел сквозь сдвигающиеся к переносью бусинки прорезей на свою преображенную личину.
И первое, за что принимался в сугубом одиночестве – были ругательства, грязные и похабные, выговариваемые язвительным голоском зверушки, сопровождаемые умильной жестикуляцией и приседаниями добрячка. Это пугающее несовпадение насыщало меня необыкновенным волнением, делало особенным и полнокровным, почти торжественным.
Безрассудно и головоломно я бросался в невесомость зазора, разверзшегося между двумя персонажами.
Одним – хулящим и глумящимся, и другим – слышащим и наблюдающим.
Длить эту игру мне ничего не стоило.
И она, совершаемая без усилий, грозила иссяканием и гибелью, так как за этой раздвоенностью я не признавал самого себя, и, тем более, не чувствовал растраты.
Она, эта игра, была сколь нехороша, столь же сладима.
Ведь были, были еще там кто-то третий, третья, третье…
___________________________
Отец свысока склоняется ко мне, кажется, на это уходит уйма времени. Играя, он касается подушечкой указательного пальца моей выпяченной нижней губы, – мягко оттянутая губа, когда я грустен или обижен, возвращаясь на место издает странный едва уловимый звук – будто во мне пошевелили пустоту. О, во мне пусто! Отец меня приотворяет. Что же в меня попадает при этом, – думаю с беспокойством я.
Иногда я это делаю и сам.
Но остаюсь плотно закупоренным.
Мне помнится по сей день – впервые на вечернем сеансе в кино «Победа». Прекрасное помпезное здание, неспешно теряющее лоск и красу. Послевоенные покои для народа-победителя. Тусклый триумф – бронза в вестибюлях.
Возбужденное толковище.
Мы вместе с отцом.
Он в штатском платье. Теплое время года. Не помню какое – что-то с весны по осень. Комфортная старая классика. У нас ведь пора теплыни такая длинная, три четверти года тепло лижет и ластится к миру.
Я совсем мал.
Отец, держа меня за руку, тихо что-то втолковывал билетерше, чтобы нас пропустили на столь поздний, самый последний сеанс. Тетка стояла как неодолимая преграда. В темном зале, куда мы пробираемся уже во время журнала, я робею и еще крепче сжимаю его мягкую неотзывчивую ладонь. Когда я чувствовал свою руку в этой мягкой створке, то всегда мечтал втереться, прорасти в него, стать им на все свое будущее время.
Идет журнал – вовсю мельтешат белыми нитками какие-то станки, ядовитая сталь истекает светящимся ручьем, грузный экскаватор зачерпывает породу в карьере, людишки онемевшие на ветру что-то яростно громоздят в самой сердцевине небес. В конце – несусветная даль, озаряемая лучами.
Вот начался настоящий цветной фильм.
Когда несколько раз прерывалась лента, в темноту свистели и орали ругательство «сапожник». Стрекот возобновлялся. И я вдруг увидел – не успевший со всеми крикнуть отец словно очнулся, молодечески присвистнул и выпростал вверх обе руки, – и тень с его растопыренными пальцами просияла на оживающей кутерьме.
Я тогда понял, что когда-то потеряю и его.
Так же как свою мать.
И мне стало безмерно печально, почти до слез, и кино не смешило меня, и только взрывы гогота сигналили, что помимо печали, обуявшей меня, еще есть и жизнь других людей, сидящих вокруг. И они катали бутылки в ногах, от них мелкими волнами исходил приторный запах подсолнечника, который они лузгали, подружки звонко шлепали зарвавшихся ухажеров, что лапали их в темноте, и сами собою тут и там скрипели и хлопали сиденья. Мир возбужденно жил, настаивал на самом себе. Принимал ритмические фигуры, растягивался и сжимался. Помимо меня.
И мой отец заходился в припадке возбуждения вместе со всеми. Азартно клонился вперед, откидывался, изнемогая. Будто добровольно стал гребцом галеры. Пригибаясь ко мне шептал переменившемся голосом, еще полным смеха и восхищения: «Ну ты сын глянь а… дает. Каково? Тебе все видно? А?» От отца легко пахло сухим табаком. Чуть-чуть угрожающе. Самую малость.
Он жестко толкал сидевшего впереди, чтоб тот сместился вбок и не застил мне своей башкой восхитительное кино.
– И чё с детьми-то по ночам в кино шляться…
– Ты мне поговори! Зритель!
Но я твердо понимал, что он, мой отец, бросив пятипалую тень на экран, легко подталкивая меня, чтобы я разделил его вечернее удовольствие, расчищая для меня поле яростного зрелища, – очевидно и неукоснительно преуменьшался. С каждым кадром. Будто я познал его исчезновение. Под стрекот аппарата. В каком-то другом фильме, куда со всей очевидностью был втянут.
Вот я дождался кульминации, о которой никто кроме меня не догадывался. Героя, откалывавшего уморительные коленца, изловили. Легко и просто, как глупого карася, хотя он – прекрасен, силен и скользок. И вот он вздыхает прямо на меня – потное лицо, кровоподтеки, легкая щетина прокалывает холстину экрана. Тонким хлыстом ему перехватывают шею – там где гуляет кадык. Он тяжко багровеет. И я начинаю задыхаться вместе с ним. Полные глубокого покоя кадры асфиксии, кажется, не кончатся никогда. Отец замечает мою одеревенелость, шепчет: «Что это с тобой? Тебе что, плохо?» И я кручу головой, чтобы не выдать тайны своего наслаждения этой вопиющей мерой удушенья. Она обреталась здесь – в десяти шагах от меня – не наваждением, а переменой унылой участи моего бытия. Ведь я, живой и плотный переставал дышать вместе с ним – целлулоидным и непрочным. Я просто замирал.
Отец при следующей жестокой сцене мягко закрывает мне глаза ладонью.
На мое лицо спускалось забрало древнего шлема.
И я навсегда понял – как пахнет испод мифа.
Слабым солоноватым потом отцовской ладони.
Я ведь ее тихонько лизнул. Кончиком языка.
Это – вкус и запах войны, куда он мог уйти в любой миг.[3]
От меня…
Я и тогда был сам для себя загадкой. Почти не различал себя, будто был завернут в хрустящую непроницаемую фольгу, будто был написан на бумаге печатными литерами. Что было во мне? Вещица? Слово, обозначающее вещицу? Куколка? Подробный рисунок насекомого? Безымянный дар, иногда испускающий лучи, разжигающий меня так, что я становился хрустящим – любой шаг, самое незначительное движение давали о себе знать – в глуши, во тьме кромешной, на свету. Словно прописывали себя быстрыми литерами.
Я просто знал – что я был. Это не глагол – это сущность моего случая. Сущность, которую не объяснить, только уподобить. Но никаких уподоблений мне скоро не потребуется.
В зоне исчезновений, куда я попадал, время вытирало неумолимым ластиком целые карандашные абзацы, написанные печатными буквами.
Я только поражался непрочности своего времени, быстро делающегося прошлым, зыбкости моего времени равного этим первым, но уже ветхим словам.
___________________________
На вокзале, у самых поездов, мне всегда хочется уставиться в черноту мазутных луж. От разлитого между рельсами бархата невозможно оторваться. Самый липкий неискоренимый никакими силами запах. Самый темный, никакими силами не высветляемый цвет.[4]
Всю дорогу я читал не вчитываясь, а просто перелистывал, проглатывая знакомые абзацы «Приключения Ламюэлля Гулливера». Ловил себя на том, что просто держу в руке старый потрепанный томик, словно позлащенный стократным чтением. Почему-то постоянно упираясь в любимое с малолетства место. Галантный англичанин, величиной с уютного мышонка, елозит по пахучим телесам великанш Бробдингнега. Там есть картинка, – и пикантная иголочка Гранвиля царапала мое зрение, совсем не возбуждая меня.
Воздух вокруг меня густел.
Ведь плацкартные вагоны пахнут задницей великанш, только что сошедших на полустанке, пропавших из поля зрения.
Мне бы хотелось, чтоб меня нес в зубах теплый белый сеттер, размером с тепловоз. У него мягкие чуть-чуть влажные губы. От него нисходит сухое тепло.
Но вот и дорожная курица съедена напополам с молчаливым дембелем-мордвином, безразлично поспешающим домой из самой Абхазии.
Он вызывающе белобрыс как ненастоящий.[5]
Он, как бы не просыпаясь, снова и снова погружался в мягкое небытие. В любой позе. Будто каждый раз опускаясь глубже и глубже. И сон многократно поглощал его уже спящего. Пеленал в кокон – слой за слоем, – жестко сидящего у окна, застывшего большим зародышем на полке, сомнамбулически плывущего по почти пустому вагону в сторону тамбура курить. Казалось, что парень не менял позы, лишь чуть-чуть слабел губами, изредка подбирая светлым медленным языком набегающую каплю слюны. Он лишь едва выдвигался из своего тела, чтобы снова привалиться к себе самому, жесткому и опустошенному, той плавной мягчайшей частью, где, по-видимому, колыхался его сон. И сон главенствовал и верховодил его сухим бледным существом. Парню не надо было даже смежать веки.
Так с высунутым неприкушенным кончиком языка он и оставался, даже не смыкая глаз, лишь щурился, обращая время в немощь и дряхлость, – и оно, обессиливая вместе с ним, никак не могло подобраться к вечеру.
Мне стало казаться, что я никогда не доеду до своей станции. Но мне не приходило в голову помахать ладонью у его очей или пощелкать у уха. Я видел как по-детски мягко, неэкстатически закатывались его зрачки, оставляя в просвете только голубизну роговицы в мелочи красных жилок у сегмента светлой радужки. Я спокойно и чересчур близко рассматривал его и в этом не было и тени непристойности. Спя передо мной, он неправдоподобно и наивно подставлялся. Совершенно очевидно, что парень, не расстегнувший ни одной золотой пуговки на своей ушитой форме, явно давящей его, находился где-то по ту сторону происходящего, там где его попирают совсем иные необоримые силы.
Я все время смотрел на него, и меня не язвил особый свет угнетения, чуть перекатывающийся в нем; – смотрел, откладывая «Гулливера», бродя взглядом по его ушитым доспехам, по слабеющим избитым вывернутым ладоням и ровному прямому лицу, – пытаясь читать их как приключение. Но он, сидящий напротив, делался для меня невидимкой, и проницая его я ничего не задевал в нем – ни его несущественного тела, ни его небывшей истории, уже просочившейся в мир недоступности.
Он был как знак, как безусловное обозначение места, к которому жизнь приложила чересчур великую силу, запросто смахнув все что там было. И как он уцелел, – думалось мне.
Солдат, как-то по особенному зевая – одними губами, не напрягая лица, иногда ероша свои мягкие, белесые волосы, вымолвил, наверное, две-три фразы, так и не вывалившись из дремучего сна без сновидений.
Глядя на меня, он со всей очевидностью меня не видел.
Но был ли он слеп?
Только одна его сентенция запомнилась мне: «Спать лучше, чем жить». В этом была неколебимая неумышленная древность. А, может быть, вместо «жить» он сказал «служить».
Проверить невозможно.
В тощие пробелы, когда он бодрствовал, он показал мне фотографии. Вот он сам в полной сержантской форме под сенью пальмы замер кривоного и браво, взойдя из белой перекошенной прописи по низу снимка «Дэндра Парк Сухум». И еще несколько любительских.
«Это дембель», – щелкает он по четырем серьезным совершенно голым парням, они сидят на лавке, взявшись крест накрест за руки, закинув друг другу ногу на ногу, прикрыв таким образом соседа и порождая сегмент дурного орнамента. Крайний справа – блондин, он совсем голый, так как ему не хватило соседской ноги, а своей он закрывает срам призрака. «Леха, Миха, Вован, я. Нормально?»
Он не назвал своего имени. Это было ни к чему. Они были похожи на разгримированных маленьких лебедей из балета, еще не выбравшихся из галлюценоза и одурения танца. Будущее мрачнело за их четверкой невидимой кулисой, бросало на них плотный отсвет, накидывало вуаль несуществования. Меня передернуло, будто я глянул в холодный разрытый лаз чужой жизни.[6]
И он, снова уходя в сон, уже не прятал карточки, так как не мог попасть ими в карман. Я подымал их с пола, разглядывал как нечитаемые извещения о чужой судьбе.
Несколько раз мы выходили в тамбур, пропахший мокрым табаком и угольной пылью. Я влек сомнамбулу, стараясь не разбудить. Он тихо очень аккуратно курил, держа папиросу двумя пальцами невыразимо нежно, как живую, – сначала стоя, потом, медленно оседая на корточки, уже приваливаясь к стене, не выпуская из пальцев погасающего окурка; а я глядел сквозь торцевое окно на разматывающиеся, уходящие рельсы.
Через некоторое время я понимал, что его, недвижимо сидящего, надо бы как-то разбудить. Он незаметно входил в ступор, будто разглядывал там, в своей глубине, нечто такое, чему нет ни названия в мире обычных слов, ни зримой оболочки среди всех видимостей, когда-то привидевшихся людям.
Я отводил его, чуть подталкивая в мягкую отзывчивую спину, на место.
И мне не пришло тогда в голову, что он, как Сивилла или Пифия, сможет при моей настойчивости поведать хоть что-то о той жизни, к которой я, помыкаемый безвременьем дороги, приближался вместе с ним с каждым метром теснее и ближе. Ну, хотя бы показать жестами, высунуть, в конце концов, свой белый язык по-настоящему. Я смотрел на него, на его рот, на молодую более светлую, чем его бледная кожа, щетину, будто испытывал к нему, этому безымянному существу томительное чувство, от которого все время отмахивался, ловил себя на том, что морщу брови, смаргиваю, безуспешно перестраиваясь в другой безразличный регистр восприятия его, сонного, чуть пахнущего теснотой и молодостью.
Аккуратно собранные косточки отданы на безымянном разъезде унылой собачке, даже отдаленно не напоминающей сеттера. Она уткнулась благодарным лицом в их развал. Радостно вздохнула в кучку объедков. Тряхнула многовитым кудлатым хвостом. Потянулась в изнеможении и посмотрела на меня невыносимо печально.
Компот из сухофруктов выпит и хорошая банка с навинчивающейся крышкой унесена без моего согласия проводницей.
…Вот у переезда, вбритого в густой лес, грустная еще молодая, но отяжелевшая женщина, подпирая шлагбаум, кажет поезду желтый лоскут. Все происходит столь небыстро, что можно разглядеть подробно ее неряшливость и утомленность собою. Многослойное неопрятное облачение, наверно не сдерживающее тепло. Темные пряди выбившиеся из-под платка. Она смотрела в мою сторону как в зеркало, которого не стесняются. Насквозь. Но я успел поймать на себе ее невидящий взгляд. Ее бесполезная саморастрата бросалась в глаза, как обвисшая желть флажка. Как аккуратные линейки крохотного пустого огорода, подползшего к самой насыпи. Мне подумалось, что она, копаясь в нем, голыми руками пересыпает черную почву.
Я увидел словно ее очами, со стороны, как состав в тихой вибрации двинулся дальше, вписываясь в нетугую асимптоту мировой дуги.
Человек, одетый в штатское, быстро двинулся в мою сторону только потому, что на станции, между путей остался лишь я один.
Поезд тихо отошел за моей спиной.
Когда я увидел его вблизи, я расхотел говорить. Мне стало не до слов.
Он как-то слишком аккуратно, как мне показалось преувеличенно сдержанно пожал мою руку. Но никакого порыва я не ожидал.
Вот ветровка, серая кепка, армейские ботинки и эти крупные пуговицы.[7] Но, ответив на его быстрое рукопожатие, я позволил себе жест, и мне почему-то до сих пор неловко оттого, что я его так подробно помню. Хотя, собственно, что такого я сделал… В застенчивости покрутил крупную пуговицу на ветровке этого человека, еще не ставшего «моим отцом». Ну, мгновенный неконтролируемый жест, чуть дольше секунды, до двух не успеешь досчитать. Но до сих пор сердце мое сжимается, когда я вспоминаю то поползновение близости. Мой порыв снова ломается о плохую пластмассу, и мои совершенно сухие пальцы от волнения и посейчас, когда я это вспоминаю, делаются скользкими. И я совпал со всем, что было вокруг меня. Каким-то образом, сам стал всем этим. Пустой голой станцией, опустевшими путями, низким каким-то надутым обиженным вечереющим небом. А всем остальным – я пребывал и подавно. Под ложечкой у меня отчаянно сосало.
_________________________
Ранним утром новая жена моего отца строгала на кухне ингредиенты к винегрету, и я еле пошевелился под пологом кислого морока. По народному, подвывая и охая, она подтягивала в унисон уличному репродуктору «вихри враждебные».
Я еще плотнее укутался одеялом.[8]
Мне хотелось только одного – чтобы и этот день прошел как можно скорее. Но время остановилось, став немощным и убогим. Его победили.
«Отец, отец, отец, отец», – твердил многократно я, обессмысливая это краткое слово. Словно подзывал его. Сначала слово превращалось в абракадабру «тецо», а потом смысл появлялся снова, так как в нем начинало звучать чье-то «тельце». Эта была моя особенная тайная мантра. Кажется, я начинал в конце концов гундеть ее вслух, пугая себя тавтологией, приносящей мне прибыль какого-то слезного сокровенного смысла, то что суровое слово «отец» не отстоит от жалобного слова «тельце» ни на йоту…
Завтракая один на один с собою, не слыша вкуса, я незаметно поглотил миску макарон по-флотски. На дне коричневел пригар. Я поскрябал по нему слабой алюминиевой вилкой…
Новая жена делала все время одно и тоже монотонное движение. То открывала высокую дверцу навесного шкафа, то выдвигала ящик снизу. Будто ее завели. Ее тело наплывало на меня тканью халата. Но ее плоти под ним я не чувствовал. Будто она фантом, морок раннего часа.
Кругом следы отцовского усердия, полки, ящички, мирные неостроумные приспособления. Они словно присыпаны простыми запахами быта – хозяйственным мылом, измельченном на терке, плотным настоем кипятка, горячкой выглаженной холстины.
Я понял, как он мастерит простые предметы, довольно топорно, не очень тратя себя, будто в расчете на временность. Но временное, незаметное, и есть постоянное, так как нет его крепче. Знал ли это мой сбежавший от меня отец?
От окна на кухне пахло сильным ветром. Упругий парусящий вкус ветра, от которого не закрыться. Так же пахло сегодня и от отца. Он ведь не был в казарме.
В углу комнаты, где я ночевал, – маленькая самодельная клетка. Она стоит на тумбочке, как цирк для лилипутов. Умильный крючочек на дверке. Для малюсенького дрессировщика. В руке у крохи – волосяной арапник на золотом кнутовище.
В клетке – две серые мышки.
«Девочки наши», – зовет, пригибаясь к ним, новая жена. С ее пухлых губ слова скатываются, делаясь круглыми.
Девочки вставали на задние лапки, шарили паутинкой усов в воздухе.[9]
Жалкий в своей маниакальной аккуратности военный городок, вросший с одного бока в мордовский бор, был исхожен мной за каникулярные дни вдоль и поперек. В глухом высокомерном одиночестве. Кепку я надвигал на самые глаза. Но я не казался себе шпионом. Тайны нигде не было, так как все было простодушно распахнуто. Хотя с северной стороны городка простиралась запретная зона. Она огорожена колючей проволокой, с ажурными сторожевыми башенками, расставленными на расстоянии полета тяжелого камня, кинутого пращей. По периметру на верхотуре вышек скучали маленькие среднеазиатские Давиды.
Ничем не пахнущий ближний косматый лес с подстилом легких шишек, пружинящих под ногами. Вот – мокрый жирный мох не переходящий в болото. Разбитая кривая дороги, по ней пьяно свистя, проносился буро-зеленый бронетранспортер, оставляя не тающий на холоду скульптурный выхлоп. Сизый плотный газ можно было потрогать, помять и порезать. Я вышагивал по обочине нестрашной дороги и громко пел сладкую арию Надира из оперы «Искатели жемчуга». О прекрасной Луне, освещающей любовь. Это из бабушкиного репертуара. Память о ее молодости, когда она, живя в прекрасном городе, бывала в театре.
Жестокая просинь расталкивала деревья, еще сильнее трезвя меня.
___________________________
Бытовое самоотвержение чужого семейства вызывало во мне только недоумение. Словно мое тело задевало их непомерно жесткое расписание. Ведь невзирая на праздники, они как заведенные, бодря себя, вставали ни свет ни заря, врубали на всю катушку радио и сразу распахивали легкие шторы на всех окнах. Жильцы в сияющей бессонной доблести и непопираемом здравии предъявляли себя неприятелю. Стекла окон зло чернели в пустоту безумного мира.
Враг обитал за лесным горизонтом, проседающим под собственной тяжестью. Там начинало едва мутнеть.
За завтраком отец под хихиканье толкающихся близнецов проделывал один и тот же фокус, от него все мое нутро нехорошо сжималось, и я чувствовал себя жидким.
Он клал рядом со своей тарелкой небольшой складной ножик в красных боковинках. Сидел, потупясь, в непроницаемости ступора, чуть ковыряя примитивную еду, будто бы готовился впасть в глубокий сон. Мерно дышал, гася в себе возбуждение. Все понятливо замолкали – словно все идет совершенно обычном ходом. Я с трудом выходил из ночного времени, подавляя позывы к зевоте.
– Кто рано встает, тому Бог подает, – сказала новая жена, глядя чуть искоса в мою сторону.
– В бок поддает, – нагло съязвил я.
Близнецы затолкались и заржали.
Отец пропустил мой выпад.
Он вообще пребывал где-то, не здесь, совсем в других краях.
Потом, как-то собравшись и глубоко вздохнув, он выпрастывал длинное лезвие ножа и медленно, сосредоточенно глядя на узкое блестящее острие, приблизя его ко рту, поглощал весь предмет целиком. Медленно и аккуратно заглатывая. Якобы помогая себе языком. За стиснутыми, как от невыносимого страдания, губами исчезал даже яркий черенок. Он, наконец, сглатывал, кадык его бежал по шее к самому подбородку, и отец делал вид, что опустил в свои недра весь раскрытый ножик целиком. Он магнетически проводил рукой от губ до самого живота.
Десятью секундами позже он отрыгивал ножик в ладонь, но уже сложенный каким-то непостижимым образом в совершенно безопасный предмет.
А может быть, отец своим ежедневным, ежеутренним фокусом хотел придать остроту, изменить скаредность и уныние, охватившую все, что простиралось вокруг. Мне не пришло на ум тогда спросить его об этом.
– Ой, ну ты прям как ребятёнок, а не строевой офицер! – Каждый раз ободряла его новая жена. Она давно смирилась с абсурдностью этого ритуала.
Она вообще смотрела на всех склонив голову, словно видела одним глазом лучше. Может, она была не в силах сразу охватить зрением всю картину неосмысляемой жизни, разворачивающейся перед ней
Скользила по жилью в опрятном халате в мелкий цветок. Мягко шуршала по рыжим свежеокрашенным половицам в толстенных шерстяных носках, топча пеструю штопку подошв. Мне тоже были выданы такие же спецноски негнущейся вязки. В тапочках на босу ногу по дому ходил только отец, чавкая при каждом шаге. Его пятки были желты.
– Ой, ну ты прям как артист – в шленцах, прям артист, а не офицер, – говорила улыбаясь жена, глядя на его тапочки, немного скосив голову в утренней косынке.
На кухонный стол сквозь стекла начинал сочиться мокрый серый свет.
Гречневую кашу с молоком мы доедали, стуча ложками уже у дымчатого помолодевшего окна, за которым вытоптанные офицерские огороды упирались в кряжистую теснину.
– Ну, в лес сёння чоль? В праздник самое то? А? После парада? А, пацанва? – Не унималась новая жена, сгребая посуду и сметая со стола несуществующие крошки.
Меня смущали вопиющие качества разнородных вещей и событий, которые я не мог объединить словом «осень». Я ждал глубоких сухих холодов. Я ждал снега. Но мне было так грустно, что осень была во мне. Она томленьем осеняла меня изнутри. Мне казалось, что наша утренняя лабуда мешала проявиться всему – моим отношениям с отцом, замершим в болезненной неравновесной точке, лесной болезной природе, и наше настырное сверхраннее просыпание, думал я, искусственно длит тупую немочь.
В доме существовал, одновременно как бы не существуя, еще один персонаж. Это был солдатик, помогающий по хозяйству. Приносящий откуда-то издалека колодезную воду. Тихий, смуглый, с испуганными очами, совсем плохо понимающий по-русски. Я запомнил, как он мусолит детскую тетрадку, куда им самим была перерисована печатными литерами присяга. Он по ней учит неродной язык… По самодельному учебнику. Он совсем не занимал места. Даже когда молился, расстелив половичок. «А ты помолися, помолися…» – соболезновала ему жена.
И я выходил в другую комнату или на кухню, пока он принимал куриную позу, замирал как птичья тушка. Мне она говорила: «Поди, поди, чайку попей, вот книжку почитай.»
Ее тон был столь проникновенен, что волна сочувствия заливала меня. И если я шел тогда в туалет, то лишь коснувшись своего члена, чуял как он – мое продолжение – тепел и жив. Как горяча моя урина. Я с трудом удерживался, чтобы не начать мастурбировать.
Это был приступ сочувствия?
Сожаления?
Жалости к самому себе?
Не знаю.
Припадок тепла, затихая во мне, выкручивал теплую мягкую жилу под самым сердцем, но я знал из анатомии, что ее там не должно быть. Но она словно обдавала меня всего брызгами.
Я понимал, что где-то через пятнадцать минут вернется отец…
Поздно вечером входивший в прихожую отец, там же у двери, вроде бы не обращая внимания на меня, услышавшего, узнавшего его по короткой оплеухе о дверь подъезда, как-то стремительно и одновременно мрачно начинал раздеваться. Столь быстро, будто за раздеванием должно непременно последовать наказание.
Я теперь сказал бы: не раздевался – разоблачался. Будто суровая военная форма мешает ему воплотить это наказанье. Сковывает его движения, как болезнь.
У вешалки, прямо у хлипкой двери, не успев ее толком затворить, он сбрасывал свой замечательный военный хитин, почти срывая череду золотых пуговиц, – вот-вот они разлетятся сверкая.
Он пробегал тонкими пальцами по кителю быстрее, чем пуговицы выскакивали из петель. Он их словно заводил, магнетизировал, и они расстегивались сами по себе, чтобы блеснуть редкостной завораживающей искрой.
Поддаваясь гипнозу, я стоял ни жив ни мертв.
Он стягивал сапоги, и меня настигал флер усталости его тела
Дрыгая ногами, как пацан, молодеющий отец разматывал бинты портянок, запревших за день, в ржавых сырых следах. Босыми ступнями нащупывал тапочки как кочки в зыбком болоте. И он вступал в дисперсное поле сплошной неуверенности. Начиная наново жить.
Он, преувеличенно бодро покачиваясь с пятки на носок и обратно, стоял передо мной чуть дольше мгновенья.
До сих пор мне неизвестна истинная цена того промежутка.
Стоял в одних лиловых, как отстиранные чернила, растянутых плавках.
Этот цвет печали мне ни за что не позабыть.
Из-под их провисшего края всегда стекал кожистый пустой лоскуток его желтоватой мошонки. Как беззащитный знак тыльной стороны его плоти. В пустую емкость, пока он так переминался, низко опускались яички, он их из себя вытряхивал, как птица сносил их.
Они повисали вещественной тягостью этого близкого мне тела.
Как грузила, удерживающие гондолу летательного аппарата его голого существа.
Как оберегаемая ото всех в мире его тяжелая неприглядная суть.
От всех, кроме меня.
Кроме меня.
Мне казалось, что если на другой день это зрелище не настигнет меня, то он просто взовьется и навсегда исчезнет.
И я понимал, что он, этот мужчина, пока близок мне только потому, что стоит в тридцати сантиметрах от меня. Я ведь не мог к нему пробиться. А может быть и не хотел. Мое любопытство пока наталкивалось на шершавую стену его тоски. За домашним ритуалом она была непроницаема.
И ничего тоскливее этой репризы в своей жизни мне видеть не доводилось.
Но вот он ныряет якобы помолодевшим пловцом в матерые растянутые бесцветные треники.
Он выдыхал «уфф» и сразу обмякал, входя в маленький объем кухни.
Кино делалось черно-белым.
И мне становилось ясно, что его жизнь состоит из тоски, которая им не чувствуется, потому что она невещественна.
Видит Бог, я за ним тогда не подглядывал. Просто смотрел. Ведь он сам приглашал меня созерцать себя. Это был особый уговор, установленный непререкаемый порядок. Без него течение жизни разрушилось бы. Сегодня бы не перешло в завтра.
Мои видения почти что бесплотны, так как равны мне, погружающемуся в разреженный галлюценоз прошлого. Настолько неправдоподобного, что уже и неотъемлемого.
Никогда не надсмехаясь над ним, сопереживая его живой голизне.
Ведь это он сам себя мне таким предъявлял.
Созерцание отца никогда не было с моей стороны кражей. Я это точно знал. Потому что отец совершенно не смущался меня и моего взгляда. Не думаю, что сейчас то переодевание понимается мною как-то иначе, чем тогда. Ведь первое, что он бросал как снасть в стихшее жилье, еще с самого порога, в щель двери была простая фраза:
– А-сын-где?
Он ведь знал, что «сын» – это только я. И тут, у двери, стою перед ним. Ведь близнецы к этому позднему часу уже крепко почивали. Да и жена предсонно возилась в глубине квартиры, перебирая нескончаемое рукоделие. Она вязала на спицах у смутного берега.
А может, отец на самом деле говорил:
– А, сын, где…
То есть не звал, а обращался ко мне, обрывая фразу, увидев меня. Что же таилось дальше, за указательным местоимением «где»? Мне некого спросить.
__________________________
Мне не позабыть контраста между его белейшей голизной, маячившей передо мной мгновение назад, и проваленными синеватыми глазницами – тяжелыми, как темень за незанавешенными окнами кухни.
Он отворачивался к скользкому сине-черному окну и вглядывался в бездонное никуда. Сквозь проницаемый лик своего отражения. Как-то по особенному тихо, безглазо. Но молчание его было не тихостью, а чем-то вопиющим, словно он собирался что-то такое важное для одного меня тихо и торжественно произнесть.
Все проистекало, как в очень плохом кино, будто вот-вот услышу треск ленты. И все оборвется.
Потом, не выдержав этого труда, отец тяжело ниспадал в мутную стопочку водки. Словно сам опрокидывался в нее. Тихо и обречено крякнув. Хлебал постные щи с грибами.
Почему-то тогда сумма его невеликих движений представала передо мной гигантским самоотвержением.
Он обычно подсаживался к столу, как-то неуверенно устраиваясь – далеко и сутуло. Не за столом, а именно около. Почти наваливаясь на плоскость столешницы, на позорный орнамент клеенки. Склонив голову так отвесно, что за ту каникулярную неделю мне ни разу не удалось увидеть как он ест.
Лишь стальная ложка поднималась вверх и опускалась вниз в тупости внутреннего завода.
Мне видится его начавшая редеть макушка. Он наверное сильно полысеет.
Левой рукой он всегда мял ломоть серого каравая, так и не поднеся ко рту ни единой крошки. Все его жесты оставались незавершенными. И их неполнота тревожит меня.
Он комкает мякиш, топя в нем узкий след указательного пальца; и мне совершенно ясно, что его рука совсем не подходит для военного дела.
В первый раз, когда вечером увидел его за едой – первый приступ невероятной жалости к нему, к этому неблизкому человеку охватил меня. Навернулись ли слезы на мои глаза? Теплая волна сострадания двинула мое тело к нему, и я сделал шаг. Но только внутри себя самого, оставаясь в полном покое.
Цветок алоэ, зеленеющий в горшке на подоконнике раненой елкой, мгновенно заслонил все мое зрительное поле. Половина ростков была уже сощипана на примочки от чирьев, не покидавших хилых близнецов.
– Ой, да не спеши ты, не отыму ведь еду-то, ай-яй, – сонно балагурила совершенно не к месту, вороша мягкие согласные своих причитаний, жена, войдя на мгновение на кухню. Очень добрая тихая женщина; она обращалась к нему не по имени, а системой особенных причитаний, в чьем перечне «ой» самое употребительное.
Он в ответ взглянул на нее, будто она была сделана из резины, и не очень хорошей.
Эта мягкая женщина была столь не ясна мне, что ревность меня ни разу не посещала. И ей совершенно недоступна была природа его спешки, проистекающая из тотальной скуки, уже совершенно овладевшей им.
Интрига жизни отца, связавшая его с этой женщиной, останется для меня загадкой.
Все особенности этого человека, из которых он и был сделан, громоздились за плотной непроницаемой стеной его тела и взора. В свою теперешнюю жизнь мало чего он взял. Книг – всего одна глупая короткая полка. Даже себя прошлого он где-то по дороге оставил.
Я его не узнавал. То, что меня цепляло, было настолько болезненным и жалким, что уже не нуждалось в сострадании. Он переживал скуку, куда вступил без меня. Но я разумел его, его переживания больше и больше. И мне становилось не по себе. Будто о чем-то догадывался.
Да и на что я был тогда способен в этом заторможенном времени военного городка. Серый заплаканный кирпич трехэтажных домишек, газовые трубы, серебряными жилами пущенные от дома к дому, упитанные тетки носят на руках младенцев в одеяльцах.
Время неизменно.
Дети всегда остаются маленькими. Они пищат, их самозабвенно укачивают, предъявляют друг другу, над ними укают и гулят.
Все предметы, кажется, уже стерты и лишены своих имен, они ничем не помечены. И это – конец жизни моего отца, ее зримый избыточный предел. Если вообще возможен предел неизменности. Когда седьмое ноября этого года повторит седьмое ноября года позапрошлого и одновременно будущего, могущего наступить через год или сто десять лет. Это – тавтология пассивности, повторяемость того, что само по себе уже ничего не значит. Отец существует в этом не-пространстве.
За те дни меня несколько раз настигали выразительные сцены офицерского быта, но со всею очевидностью мне было известно, что они повторимы. И потому были совершенно безразличны мне.
Впервые я уразумел тогда, что значит «всёравно».
Не «все равно», а именно одним словом, слитно, так, как нельзя.
Но на подступах глухих мордовских лесов, в самих лесах действовала совсем другая орфография. Другие правила нарицания – всех моих качеств, всех моих чувств, всего того, с чем я тогда встречался.
Мне даже казалось, что я заново привыкаю к своему имени. Нечасто произносимое отцом, оно медленно ко мне прилипает, обволакивает меня. И я попадаю в зону, откуда давно уехал. Материализуюсь наново. Будто сам себя наращиваю. А отец, наоборот, из реального человека, о каковом мне все время думалось раньше, становится невещественным, неким поводом, и к нему я должен был приложить тогда свои чувства, а теперь – их итог, превратившийся в воспоминания. Возможно ли это?
Мне кажется, что все легко просачивалось сквозь его тело.
Ведь сгорев, став пеплом, он превратился в сокровенную драгоценность. Чья непомерная роскошь, наконец, заключена в безвластии надо мной.
Ведь оставив меня, он обратил и меня в ветошь. Вся моя память, все мои изжитые чувства будут всегда казаться мне ветхими. И всю свою жизнь мне придется доказывать самому себе, что я нахожусь не в зоне кажимостей.
И только теперь, через свою пассивность, – смогу, наконец, обрести над ним власть и силу, которых как бы и нет, так как они отсрочены.
Его новая жена нигде не работала. Да и где ей работать в военном городке. И она все время что-то делала по маленькому, но переусложненному хозяйству, мчась по сияющим половицам, мимо меня, скользя на подошвах толстых носков, простодушно улыбаясь, смотря чуть вбок, и почти не разговаривая со мной. «Ну, читай, читай книжку. Интересно, наверное? Ну, погуляй, погуляй, подыши, да не дерись ни с кем».
Мне думалось, что она легко и незлобиво претерпевает меня в их доме, как непонятный след, оставленный моим отцом в неведомом ей прошлом. Она искоса всматривалась в меня, словно таким образом хотела постичь его. Так казалось мне тогда в каком-то истовом самозабвении. Ведь все было ровно наоборот.
Мне чудилось, что слепо соболезнуя отцу, она заодно терпит и жалеет меня.
В доме царствует соблазн возобновляемого порядка. Но надо всем висит легкая тревога. Она восстает из многих звуков: шипения разгоряченного утюга (а она все время гладит и наглаживает), из свиста синего газа (а она все время что-то стряпает), из легчайшего шороха мышей в клетке (когда она проходит вблизи клетки), из утробного бульканья выварки (она ведь все время кипятит белье или одежду).
Может, эта женщина так доказывает свою неотменяемость в отцовской жизни? Может, она снова и снова должна выслуживать его одобрение, на которое он уже и не способен?
Ее профиль навсегда соединен с блестящей подошвой утюга. Она смотрится в его смутную зеркальную изнанку. Заглядывает в кастрюлю, чью большую крышку приподнимает с шумом. Может тоже хочет найти там свое волшебное отражение?
Мне ведь совсем не хочется писать о том, что она была одноглазой. Лучше бы и не заметить этого вовсе. Чтобы легче было жить моему отцу. Чтобы мне было легче думать о том, что ему легче жить с такой женщиной.
Мне приходилось старательно делать вид, что не замечаю ее изъяна. И, может быть, поэтому всегда выдавал свои подозренья. Ведь я глядел в ее живую глазницу, но так старательно и пристально, что, не выдерживая моего взора, она всегда заметно терялась, отворачивалась, но не в ту, здоровую сторону, а подставлялась своим неживым чуть замутненным оком. С всегда прилипшими несколькими ресничками, чуть подтягивавшими или чуть выворачивающими ее веко. Обычно они прилипали во второй половине дня, уже под вечер, перед приходом отца.
«Ну почему ты такой наблюдательный», – зло думалось мне.
И это переброска взорами с новой женой становилась для меня злокозненным азартным неостановимым спортом.
И мучая ее, ничего не мог с собой поделать.
Вечерняя трапеза так и оставила отца в моей памяти сквозным существом, собранием прорех, фантомом. И мне было доподлинно известно, что едя, он ничем не наполняется – ни щами, ни водкой, ни хлебом. Снедь просто незримо исчезала. Сама по себе. Куда-то пропадал и хлеб, ведь его он губами точно уж не касался. Отец становился в моем тогдашнем восприятии сетью, мережей. В эту снасть ничего не могло угодить.
И если бы он поднял тогда свое прекрасное усталое лицо на меня, то может быть, его губ, прихватывающих пищу, я бы и не увидел. И он, будто зная об этом, вставал от стола, как-то уворачивая вбок свое безустое лицо, явно стеснялся на меня взглянуть. Что вот, не может наполниться на моих глазах, стыдится и чурается меня, своего оставленного первенца. Такие дела. В этом мне чудилась некая торжественность и тайна. Они были обращены только ко мне.
И я ждал его вечерней еды, надеясь хоть раз посмотреть, как он жует – как двигает губами, как вынимает изо рта, из своих недр, пустую облизанную ложку. Мне зачем-то было важно знать, что у него все-таки есть сокровенное нутро. Под замкнутой поверхностью тела, лишенного возраста. Ведь он вообще-то был не намного старше меня. Всего-то на какие-то двадцать с половиной лет.
И все долгие дневные часы, предшествовавшие нашей общей с ним трапезе, как развратник, я представлял себе свое желание. То гнал его от себя, зло приближая. То со стыдом отрицал и грубо перечеркивал. Чуть ли не бранил его вслух. Ведь все-таки я был обуреваем приступом любовной страсти. К своему незабвенному отцу. Слишком близко к нему придвинулся. Или он ко мне. Оставаясь на месте.
Я искал участки проницаемости. Находясь в этих поисках безвылазно.
В меня проникало то, что не вызывает жалости и сострадания, а порождает приступы настоящего страха и оторопи.
Они взяли меня в плен.
Все проекции жизни отца стали ко мне вдруг, помимо его участия или внятного желания, тесно прикосновенны. Без какой бы то ни было дистанции. В невнятном обобщенном виде – как абсолютная скука, тотальная неудача и бесконечная тоска.
И самое главное. Хаос, хаос и хаос.
Недоумение насыщало меня тревогой.
Зачем ему эти совсем нелюбимые им люди? Что его с ними соединяет и связывает? Какие такие ужасные обязательства? Какова их сила, если бедный пассивный отец уже ничего не может, да и не смеет начать. Ни породить новую необходимость, ни переменить свою обескураживающе грустную участь.
Итак, он ускользал от меня, не выскальзывая из моих рук, не касавшихся его, а проходя через меня словно дым.
Эта маленькая кухня, не освещенная, а наоборот – затертая светом, все больше становится похожа на голограмму. Отец должен ожить в ней во многих ракурсах сразу. Я напрягаюсь, но он отступает в тень, так и не став объемом.
Значит, я его не любил.
И мне почти нестерпимо это знать.[10]
В отличие от моего вычурного чувства к матери, которую, не видя никогда, безмерно обожал. Всегда. Всегда. Ведь мне было известно, что она обретается в радужном облаке, хоть никогда, в отличие от отца, не воплотится в моем сознании не то что зримым телом, а даже слабым фантомом.
И именно этой присущей даже самому имени «матери» слабости я не смог простить отцу никогда. Будто он был в этом виноват. В том – что есть, наличествует, силен своим телом. Даже сейчас, когда его нет, я могу представить его неприкосновенные внутренности – единственный живой и живущий во мне объем. Хотя увидал их, когда он был уже холоднее, чем мертвец.
Вообще-то мне досталась только одна ипостась отцовской достоверности – вечерний запах. Да и эта невещественная субстанция, когда я уеду – исчезнет навсегда.
Ведь моя жизнь может сложиться так, что больше никогда не увижу своего отца живым и здоровым. Что мне останется от него – несколько писем и фотографий? Какой невыразительный скарб. На прямоугольнике «униброма» прямой высоколобый человек. Он словно вылез из пиджака. Как из норы. Чуть вперед. Молодые залысины, впалые щеки и усталые глаза, темные губы чей рисунок мне не повторить. Взор, хотя он смотрит в объектив – потуплен и приглушен.
Почему-то всегда стеснялся смотреть на его темный рот. Не знаю почему, не могу догадаться. Хотя, нет, пожалуй, могу, но не хочу подобных умственных усилий со своей стороны. Может, можно получить решение иным способом. Когда-нибудь позже. Бог весть.
Когда он возвращался к позднему часу, будто утомленный Марс, из своей казармы, вместе с ним в дом заодно с его наготой вваливался тревожный боевой дух. Он контрастировал с тихостью отца. Он опережал его на полшага. Отец двигал его перед собой мутным поршнем, стенобитной машиной, легко разрушающей меня.
Я никак не мог понять, чем же все-таки пахло тогда от него, но потом догадался. Гораздо позже, совсем при других обстоятельствах.
Через многие-многие серые годы. Их было так много, что я их не заметил.
Так вот, когда меня однажды ударил или настиг, не знаю как точнее, еле слышный липкий запашок, и я вспомнил своего отца, склонившегося над тарелкой вечерней грибной жижи. Вспомнил отца, молча выступающего из своей военной формы, в домашних тапочках, какого-то куцего, белокожего, ныряющего в синий спортивный костюм. Он почудился мне совершенно живым.
__________________________
В квартирах городка хронически не было горячей воды. Все жители костерили котельную, где демоны сбрасывали давление, выпускали белейший пар на волю, и он стоял бесполезным султаном над черной трубой. Военные жители и их жены ходили в единственную баню, поделенную неровной календарной чертой на мужские и женские дни. Четыре мужских и три женских.
Входя вечером в свою квартиру, где я, не увлекаясь, уже натужно, под непрекращаемое галдение двух одинаковых «ты» читал дурацкие книги, отец своим специфическим неопознаваемым, но наличествующим запахом словно бы заполнял тяготившую меня пустоту и наступающее к позднему часу молчание.
Ведь я вообще-то был сквозным, я был «продырявлен» двумя отсутствиями.
Уехавшим отцом, оставившим меня по своей свободной воле.
Умершей матерью, почти и небывшей в моей жесткой жизни по воле ее судьбы.
Через меня спокойно продувал сквозняк. Мне казалось, что мне ничего не удается удержать. Ни времени суток, ни света дня, ни букв военного детектива. Предатели, действовавшие в нем, были настолько омерзительны и корявы, что не вызывали и тени жалости, хотя их наверняка настигнут и расстреляют. Положительные герои были не лучше – сплошь дубоголовые советские скоты. Они беспрестанно клялись в вечной верности и рассуждали о честности. Их клятвам никто не верил.
Хороши были только верткие собаки-ищейки и бесстрашные собаки-проводники.
Но я-то всегда симпатизировал живучим отрицательным персонажам классических детективов. Профессор Мориарти был моим любимым героем, не говоря об омерзительном мистере Джекиле и чудовищном Дориане Грее. О них мне помнилось всегда.
В книгах с отцовской полки для меня не было никакого интереса.
Мыши угадывали приход отца гораздо раньше меня. Они привставали на задние лапки и нервно шарили усиками.
И вот с отцом на третий день, когда возбужденье мышей началось гораздо раньше урочного часа, мы отправились в гарнизонную баню.[11]
В ванне почти по самый край стояла зеленоватая холодная вода – для хоз нужд, ведь неровен час, могут отключить и холодную. На шатучей двери подъезда уже краснело суровое объявление. Отец тихо выматерил какого-то прапора…нко (не помню точно его фамилии), что сидит на кранах и пускает, сука, пар в бессмысленные небеса. Малолетних близнецов жена помывала в женский день. А сегодня был мужской.
Учрежденье вместе с котельной располагалось на дальнем, если можно так сказать, краю городка. Плац, расчерченный по неровному асфальту белым, двухэтажная школа, рядом магазин и клуб в одном доме, домишки, огороды, разбегающиеся дороги, как на глупых картонных играх, наступающие со всех сторон военные леса. Все опускается в близость рыхлых сумерек. Все отстоит друг от друга на расстоянии полета гранаты, брошенной немощной рукой ветерана.
В деталях зрелища, складывающихся в убогость, нет никакой активности, они словно лишены напора, будто сделаны из картона.
– Ты дыши, дыши, сын, дыши давай полной грудью, – угощал меня сырыми воздусями щедрый отец.
Шагая, он прогонял через себя литры свежего воздуха, как баян.
– Фитонциды, фитонциды – произнес он нараспев начало неведомой мне раздольной песни.
И, мощно дыша, мы шли по темнеющей дороге. Молча, чтобы не исказить напряжение осенней свежести живых тревожных лесов. Они взбирались надежной волной на косогор. Я быстро привык к рыхлому свету сумерек.
Отец прервал молчание. Попросил меня подержать нетяжелую сумку со скудной банной амуницией – чекушкой водки, веником, мочалками и сменой белья.
Не отворачиваясь от меня, он расстегнул пуговицы на штанах, выудил мягкую дугу своего члена, чтоб облегчиться.
– За компанию? – склонил он голову, глядя мне в глаза.
В лице его что-то изменилось. То ли он чуть ослаб, то ли что-то еще. Но обычные его напряжение и натужность явно ослабевали. Мне показалось, что жесткая прокладка, пролегающая между черепом и сдержанной мускульной маской, смягчилась, разгладилась, и по ней прошли какие-то легкие токи. Будто я его узнавал… Он был легко освещен изнутри.
Струя урины, резким шумом буравя холодающий час, ввинчивалась в обочину, в ее мякоть. Это был бесконечный эпизод, и мне казалось, что все, заизвестковываясь, застывало. Сдвинуться даже на микрон было невозможно. Этот эпизод годился для эпического полотна, так как в нем нет ничего дерзновенного и омерзительного. Я удерживался в нем не банальной силой своей тяжести или волей случая, что свел меня с отцом, а напряжением животной тревоги и душевного отвердевающего вещества. Будто вот-вот начнется буря и сметет меня и отца с этого безнадежного потемневшего клочка сиротского времени.
И этот эпизод оказался воистину гигантского размера. Он до сих пор давит и теснит меня.
Вот – мы оба с ним, с моим несчастным отцом, – абсолютная быстротечность, и мы, в сущности, – одни на всем белом свете, тревожно обступающем нас.
Отец виделся мне как сквозь сон. Я увидел все его неудачи. Увидел как он мне во всем признается. Во всех несчастьях. Так оно, впрочем, и оказалось.
Я не могу поручиться теперь за достоверность того события.
Я ни в чем не уверен. Только лишь в том, что к нам обязательно придет смерть. К нему – пусть во сне как завершение тяжелой и долгой болезни. А ко мне… – пока не знаю.
А пока я смотрю на него. И когда он лишится своей текучей субстанции, может начаться что-то совершенно новое. Для нас обоих. Это было чем-то вроде жесткой неотменяемой связи.
«Вот я и увидел твой член», – подумал я тогда, не изумившись тому, что меня не коснулась и тень смятения, и во мне не пронеслось и легкой толики стыда.
И я не отвернулся, и я не почувствовал себя Хамом, так как никакой частью своего существа не насмехался над ним.
Ни душой, ни телом.
Ведь они-то, душа и тело – мои, оказались, и я впервые понял это там, при тех тихих обстоятельствах (и не смею поименовать их дурацкими) еще и отцовскими.
До меня дошло, что и я – это он.
Абсолютно сразу я почуял знак равенства. Он пролег между нами.[12]
Да и потом, что я тогда увидел? Кто объяснит мне? Просто член своего отца? Его некрупный смуглый конец?
Теперь-то мне абсолютно ясно, что я увидел, что отец позволил мне в самом себе, отошедшем так далеко от меня, уразуметь. Вопрос только в том, понимал ли он сам это?
Ведь по сути, единственное, что я в нем, без тени стеснения мочащемся на моих глазах, различил, невзирая на тяжелые для меня подробности, которыми сейчас испещряю текст, был его чин.
О, не военный, конечно, нет.
Я уразумел в своем отце (о котором уже не мог сказать даже самому себе безлично: «в нем») сокровенность и особенность.
Узрел всем своим сердцем в своем единственном отце невещественный, но абсолютный чин существа.
Когда он мочился, он становился стихией, равной земле, как гряда почвы, сваленная в гурт, как мерно сгущающийся вечерний холод. Звук струи, разбивающийся о почву был настолько громок, что слышался мне не звуком, а как рокот, порождаемый черноземом.
Я это видел так же как темное дерево, одинокую старую березу, стоящую в десяти метрах. Но то что я увидел не имело ни меры, ни веса. Оно было невидимым и бестелесным, так как происходило во мне и было мною. Словно бы для меня осталось только – его болезнь, похороны. Я каменел. Я становился почвой, орошаемой отцом, я становился струей и, наконец, самим отцом.
– Ты что? Ослабел?
О, не отталкивая и не отстраняя, он проверял меня таким нехитрым образом. Не буду ли потешаться над ним, над почти чужим мне мужчиной, ведь я не видел его столько лет, и не успел за эти несколько дней к нему привыкнуть, с трудом обращался к нему на «ты», огибая слово «папа».
Ну, все-таки, может ему мерещилось, – не стану ли я брезговать и презирать его. Буду ли с ним так же серьезен? Может быть, он хотел в этом убедиться.
Но разве я мог презирать его, еще чужого, которого только-только с трудом начинаю принимать за своего.
О!
Того, кто разоблачался передо мной и вот предстаёт сейчас в случайной слабости и полном доверии.
Но в таком, когда доверяют, не договариваясь ни о чем. Ни о какой общей вере.
Он стряхнул последние капли со сморщенной закрытой плоти. Я понял теперь – на что так похож увядающий бутон розы. Я почему-то почувствовал торжественность, жалкость и несуразность испытания, которому он меня, сам того не понимая, подверг.[13]
__________________________
…Он катит навстречу мне маленький паровоз вдоль половицы как по путям. Присев на корточки, азартно пыхтит, выпуская невидимый пар – «чух-чух-чух». Я раздраженно и капризно уличаю его: «А паровоз без дыма не ездит». Он закуривает папиросу, выдыхая, набивает ватным дымом игрушечный локомотив. Дым почти как настоящий, он стекает на пол. Я наползаю лицом на игрушку, чтобы уловить начало чудесного самодвижения, захожусь в кашле. Бабушка с гневом выставляет его докуривать на кухню. «Дурень, разыгрался!»
Вот, что есть в моей сквозящей памяти.
А потом, появляясь все реже и реже, в один прекрасный летний день он куда-то укатил, собравшись незаметно от меня. Я только помню щелканье затворов на чемодане. Исчез как туман. Через несколько дней исчезнет и клетка с его мышами.
Есть ли во мне обида? Есть. Но на него, застегивающего передо мной штаны, – нет.
Глядя на него тогда, я понимал, что смотрю все-таки сквозь, в даль, теряющуюся за темным полем. Но горячая волна чего-то странного, состоящего из стыда и счастья, мгновенно залила меня, изойдя из самого солнечного сплетения.
Отец начинал мной властно овладевать, ничего не совершая для этого. Он из имени, которым я называл его, из краткого слова «отец», входил в плоть человека, обряженного в плохую одежду, стоящего рядом со мной так близко, что его можно потрогать.
У жирной обочины разъезженного пьяными бэтээрами грунтового шоссе.
На краю перекопанного картофельного поля.
С чернеющим лесом вдали.
И мне показалось, что видимое мною столь сильно, что вывернуло меня, но не свежуя наизнанку, а в ту сторону, где простираются мужественность и сдержанность, сила и вера.
Что-то во мне переменилось. Я упал в пропасть, у которой далекое упругое дно. И смог встать там сразу на обе ноги.
Я пережил некий знак равенства, вспыхнувший между мной и этим человеком. Равенство, смененное чувством острой потери и сожаления о быстротечности. Нет, не струи отцовской урины, что текла мощно, разбиваясь у земли в хаос капель, а всего неостановимого, что мне сигналит о смерти.
Словно он абсолютным образом доказал мне, что именно жидкой ипостасью своего тела, в каком-то смысле уменьшеньем себя, подвижным жгутом субстанции, истекающей из его тела, он вызвал к этой жизни меня.
Подозвал к себе и поманил.
Оттуда, оттуда, где у меня не было ни склада, ни имени, ни оболочки.
Я стоял вблизи него, и мне казалось, что струя, стекающая из его члена, жалко продолжающая его тело, увеличивающееся в моей памяти, может меня задеть, утянуть вниз, в почву, как можно дальше от этого человека, который все ближе и пронзительнее делался моим единственным отцом. Могущим меня породить еще один раз. Если я вдруг умру. У него на глазах.
Вся глубина времени, отделяющая меня от него, предстала мне образом перепаханного черного дурного поля. Темная лужа проваливающейся в почву жидкости. Что она символизирует? Какую славу или поруганье? Чью смерть? Кто еще не родился? Что не родилось и не появится никогда?
Ответа нет.
Удивительно и неотразимо я почувствовал, что он непременно умрет.
Так ведь оно и оказалось. И надо честно сказать, что когда меня через многие годы, через целую эпоху, застигло известие о его кончине, оно не произвело на меня абсолютно никакого впечатления. Смерть всегда будет во мне заслонена другим.[14] Будто уже один раз мне пришлось пережить его смерть, его исчезновение, торжественный переход из мира обычных людей в особый тайный континуум моей души. Если она у меня есть.
Мне показалось, что я провидел тогда горсть серого пепла, гораздо светлее золы, сажи и копоти. Вдруг увидел то, чем он стал или станет.
И не могу поручиться, что именно в тот миг, на краю распаханной почвы в моем уме не пронеслись сразу все эти картины моей жизни, путая линеарность течения белого пустого будущего, вдруг ставшего настоящим. Представшим случаем, произошедшим почти со мной. Ведь всё, даже я сам по себе, сплочено из тоски и сожаления, и они навсегда незавершенны и невещественны.
Это была моя первая катастрофа.
Познать и ужаснуться своему недоумению, его бесконечной мере.
Не понять ни причины, ни правомочности своего собственного бытия здесь.
Испугаться случайности промысла…
Увидеть воронку мира.
Прозреть ее в луже, оставленной отцом на обочине поля.
Между горбами перепаханной мягкой земли кое-где завалялся посиневший снег. В свете темнеющего вечера он был едва различим. Будто почва его зажевала черными губами.
_________________________
В остывающей бане еще копошилось совсем немного голых мужиков.
Уже половина ламп была отключена.
И парилка сырела своими распахнутыми черными внутренностями. Тяжелела исподом.
Отец клял этого жлоба…нко, этого матерого ворюгу и гада, и здесь перекрывавшего краны, пар, кипяток и свет за целый час до урочной поры.
Отец все уворачивался от меня, будто устыдился наготы своего срама. А может, так и было на самом деле. И сидя рядом на лавке, зажимая свои тугие безволосые ноги, быстро покрывал себя мыльной пеной, словно хотел ею одеться.
Он был очень далеко от меня, как во всей моей прошлой обычной жизни, прошедшей без него, на расстоянии более тысячи километров. И меня не было рядом с ним. Нас разделял грозовой горизонт.
Он, сохранивший фигуру подтянутого недоросля, как-то зажимался, тускнел и ежился вблизи. Неужели он меня боялся. Но мне был неизвестен его секрет, и он от меня не зависел.
– Вот ведь, людям отдохнуть не дают нигде нормально по-человечески, даже в сраной бане, а сволочи, ну какие все-таки они сволочи, – начинал вдруг по-старчески бубнить он. Он как-то мгновенно и болезненно слился со своим еще не наступившим старчеством. Он морщился. Пережил мгновенный толчок времени, показавшего ему его место в этом мире.
Он обвинял вся и всех, он, называя весь мир «они», упрекая его. Он слабел на моих глазах. Эта беспомощность, эта жалоба так не совпадала с его боевым поджарым телом.
«О, папа, мне безумно тебя жалко, не надо так сетовать, ведь я ничего не могу для тебя сделать,» – думал все время я.
Но вслух ничего ему не говорил.
Он, не вставая, сжав свои ноги, совсем став русалкой, быстро потер мне спину.[15]
– Ну что, ополоснемся, сын, и по домам? – спросил он серьезно.
Спросил меня, меня, уставившегося в воду, сидящего рядом, и просто так болтающего в тазу рукой.
Я замерз.
Вода шла за лопастью моей ладони медленной воронкой.
Крышка мыльницы плыла в этом мальштреме как кораблик.
Ведь я на самом деле к отцу так и не прикоснулся. Даже через промокшее лыко старой мочалки.
Я тогда думал – ну отчего я этого не сделал? Не коснулся его.
Ну отчего?
– По домам, – повторил он.
Он не оговорился, у нас с ним были разные дома, но он этого не понял.
Я словно проваливался в беспощадное настоящее.
Он, этот человек, гнущийся тугим стволом в полуметре от меня, сам моющий свое невещественное тело, был только видимостью моего отца. Ведь я не мог коснуться его. И он становился абсолютной кажимостью, итогом свечения, концом неприкосновенной теплоты и непроницаемой близости. Мне кажется, что он сам, его голос, не имеют к веществу его плоти никакого отношения.[16]
И желтый банный свет, и парная муть, еле ворочавшаяся у светильников, и редкий испуганный шум последних шаек – стояли между нами темным фронтом. Я чувствовал всем своим существом, что он все это время меня неистово стеснялся.
Его стеснение заразило и меня.
Я стал бояться, что у меня может встать член. Внизу моего живота что-то перекатилось и екнуло. Чем же мне тогда прикрыться в голых банных стенах, в одном метре от него? Что он подумает обо мне? Как он меня поймет и кого во мне тогда признает? Какое животное? Пса? Росомаху?
«Ох…» – выдохнул я. Отец поднял на меня быстрый взгляд. И я нестыливо почувствовал в нем мокрость и теплоту. Он что-то понимал во мне. Не больше, чем что-то. Но и эта неясность насыщала и успокаивала меня.
В холодной раздевалке мы сидели на лавке рядом друг с другом. Как будто и весь день мы провели вместе, прослужили, и вообще все время до этого дня стало для меня общим.
Ничего, мне легко вытерпеть липкую сырость. Не нести же отцу свою чекушку водки обратно домой.
Он выпил ее содержимое в несколько заходов, каждый раз отворачиваясь в сторону, один на один с собою. Он нюхал после каждого залпа тыльную сторону ладони. Кожу у самого основания большого пальца. Зажимая узкие конские ноздри своего правильного носа.
Подпирая нос крылышком ладони, он будто обиженно показывал кому-то, что вот – по самый нос его достали. Еще немного и он просто здесь, в этой жизни, утонет.
Я боюсь взглянуть на него. Он сидит согнувшись, прикрывшись от меня, обретя непомерный неотцовский стыд, будто он – мой любовник и боится выдать себя хоть как-то, жестко положив ногу на ногу, деревенея в этой позе. Внизу живота легкие нетемные кучеряшки. Ни члена, ни мошонки не видно. Они канули в глубине его слишком стыдливого, предательски стыдливого тела. О как хорошо, что его стеснения кроме меня никто не приметил. И я могу спокойно рассмотреть только его тонко очерченные застывшие в неподвижности ступни, как на прекрасных натурных штудиях классицистов, – веер тонких жил, разбегающийся к чуть подогнутым пальцам, гладкая желтая молодая кожа. «Самое уязвимое место его тела», – почему-то подумалось мне. И я фотографирую его ступни бесконечно долго. Я весь завален липкими свежими карточками моего тайного «поляроида». Но мне их не хватит на все предстоящие годы. Я вдруг понимаю мизерный запас памяти.
Мне прикосновенна военная татуировка на его гладком совершенно белом плече. Я вижу как она остывает вместе с ним. Вместе. Мне кажется, от нее еще восходит слабый пороховой дымок. Как из дула после выстрела. Чем бы она запахла, если бы мне хватило сил и доблести понюхать ее? Совсем вблизи. Ну, лизнуть?
Как же мне вспомнить, Господи, какая там была выколота густая картинка. На самом-то же деле! Что? Ну? Танчик? Пушечка? Маленький парашют? Какова она на вкус? Ну, солона ли? Не узнать никогда.
Это одна из самых больших потерь в моей жизни.
Вот, у меня нет никаких отцовских примет. Все, что виделось – покажется мне домыслом. Я не имею ничего достоверного. Образ, обитающий во мне – просто фантом.
И облик его будет обречен исчезновенью.
– Все-все, мужики, запираю, расходимся, кто не поспел – по хатам, к мамкам под бок. Сейчас как свет всем вырублю, пиздец! – Бухнул дверью каптерки наглый непомерно веселый прапор…нко.
Он обвел свою территорию. Скупо улыбнулся, поджав губы.
Отец как-то подобрался по животному, распрямился, встал во весь рост. Чуть не бросился на него с кулаками. Столкнул пустую чекушку. Выдохнул с низким шипением:
– Ты, блядь, ни дома не топишь, ни в бане посидеть по-людски не даешь! Ах ты крыса! Тыловик хуев! Прилипала!
Прапор, шагнул в сторону отца, провел по его телу медленным смеющимся взглядом. Словно липкой широкой кистью. По моему голому, моему позорному… Снизу вверх – от драгоценных ступней, по плавным голеням, до сокровенного, выставленного на мировой позор срама. Где и остановил свой липкий взор. Куда он наконец спокойно вперился. Он чуть поднял брови. Я вижу как он лыбится, покусывая сжатые губы. Господи, я рассмотрел каждый сегмент этой сцены. Она, произойдя, началась снова и повторилась во мне многократно.
– А за блядь еще ответите, товарищ майор! – Преувеличенно спокойно сказал прапор не поднимая взора. Он перелетел через паузу как победитель.
– Кругом! – уже орал посрамленный отец.
Он не почувствовал ритма этого поединка. Он проиграл изначально.
Выкрик напряг его, и он предстал мне мраморным. Даже в банном сумраке мне было видно, как по нему расползись румяные пятна гнева. На мгновение отец стал далматинцем, вставшим на задние лапы. Он мог броситься.
Но прапор…нко знал себе цену. Он со спокойным призрением вышел. Особенная тайна раскрылась и схлопнулась. Я понял невыразимую муку моего отца. Как гимн.
– Не надо, папа, – сказал я.
– Да, – кивнул ослабший отец.
Он будто сразу заболел.
Это его «да» стоит в моем пищеводе, словно я им навсегда поперхнулся.
И сейчас, когда думаю, как он умирал вдали от меня, то припоминаю именно ту сцену, и то невыносимое, притупленное, словно он слишком много употреблял про себя, то самое «да». Такое, за которым следуют усталость, отупение и ступор.
Утром под кухонным столом у плинтуса моя стопа в мягком носке задела засохший кубик серого мякиша. Я долго берег этот след отцовского инстинкта. Перевозил от жены к жене, а потом спрятал так, что потерял. А это был подарок из его добровольной тюрьмы, переданный на мою злосчастную волю.
Разговор у меня с отцом так ни разу и не заладился с самого моего приезда. Мне остается ревниво пережевывать нашу встречу, рассыпавшуюся на сегменты.[17]
Ревность насыщала меня, как и ненависть к самому себе за это жалящее меня чувство, выжимающее и изнуряющее меня. Ведь мне было непонятно на что оно было направлено. К чему я его, почти несуществующего, ревновал. Может быть, к его отсутствию в моей жизни, но уж точно не к скучнейшим людям подле которых он, смущаясь меня, испытывал великую скуку и голое нескрываемое отчуждение.
К вечеру я отчужденно застигал самого себя, точнее свое тело, за чтением скудоумной книжки из серии «Военные приключения». Глаза перескакивали строчки, губы втягивали в себя комнатный эфир, и я понимал, что он, насыщенный прелью сухих грибов, висящих бусами тут и там по всей квартирке, слишком велик мне, проходит насквозь, не задевая, не насыщая, не густея во мне, совершенно бесполезно и безвкусно. Этот образ дурной траты жизни вводил меня в волнение. Заводил как игрушку. Я начинал дышать полной грудью, мерно и глубоко, не насыщаясь. Мне всего делалось мало. И восстановить нормальный ритм дыханья я был не в силах. Я становился сквозным – через меня бежало время. Бесцветная секунда к секунде, темная минута к минуте, приближая меня к полному исчезновению.
Даже мне, тогдашнему юнцу, казалось, что отец как-то одеревенел. Ведь он действительно стал постыдно прозрачно несчастлив.
Одни мышки привставали, как маленькие символы победы, когда он подходил к самодельной клетке, где они неутомимо строили норки из бумажной шелухи. Интересно, переживают ли мыши счастье?
У него не задалась военная карьера, он не попал в столичную академию, он был множество раз обманут начальством, посулившим ему бог знает что, и вот он понял, что обречен на прозябание в далеких лесных гарнизонах.
Если только не новая война, откуда можно вернуться победителем. Войны не предвиделось.
И вот он признается мне в своем сумеречном, уже не оскорбляющем его несчастье. Он глупо возится с мышами. Чтобы он возился с близнецами, я ни разу не видел. Тогда я не спрашивал себя, а были ли они его детьми?
Это вездесущее несчастье, это тупое оно, видимо, растлевало моего отца. И он незаметно примирился. С теплым тлением внутри, наверное под самой ложечкой. Ведь он часто тер себе грудину в том месте, где его нудило средостение.
На его лице я различил поношенную резиновую маску. Она мягко и отечно повторяла его прежние резкие живые черты.
_____________________________
В единственный свободный от службы день он впервые собрался со мной погулять. Именно со мной, только одним. Все началось со вспышки раздражения, так как новая жена, не зная о его свободном дне, замочила что-то из его гражданского платья, и отцу пришлось надеть форму. Когда это выяснилось, бедный отец чертыхнулся в сторону мышей, будто они были виноваты, и стал стаскивать домашние треники. Взялся за форму. Его перекосило:
– Волглое не люблю, – он прибавил, как особенную язвящую новость: – ведь знаешь же.
Будто ему надо было что-то мокрое натягивать на себя, прямо из корыта.
– Ой, да утюгом мигом-то все сразу высушу, погодьте полчасика, а? Заодно твои штанишки до стрелок отпарю. А? – Жалко затараторила безмерно виноватая женщина.
– Паром провоняю, в обед попаду, – уже совсем зло заключил отец.
И мне до сих пор не ясно – чем же воняет пар? Воняет? Как попадают в обед?
Он ходил по квартире белотелый и поджарый, раздраженно натягивал галифе, чистил сапоги. Настроение его было испорчено. Видно, что толком надеть ему было нечего.
В форму он вдвигался как улитка, как-то преодолевая липкость – выползал в скользкие завитки. Я чувствовал, что эта одежда для него – ненавистный кожух, в котором он многое претерпевает – печаль, издевательства, тупость и неотзывчивость своего времени.
– Ой, да только утюгом просушу, – лепетала женщина, безмерно виноватая.
– Не трожь, пусть так сохнут, только покорежишь, – говорил ей натужными согласными отец, застегивая слишком тугой крюк на тяжелой шинели, он еле сдерживался, чтобы не обрушить на жену гнев.
Он преувеличенно не хлопнул дверью. Выходя, он ее прижал как герметичный люк. Беззвучно.
На улице он оправлял обшлага. Проверял – мокры ли они. Единственный завершенный его жест, который я могу повторить. Но у меня нет одежды с обшлагами.
Мы дошли до убогого военторга, и он впервые держал всю дорогу меня за руку. Он сам, идя рядом, стянул перчатку, протянул руку и нашел мою вислую ладонь. Мне кажется, его обжег холод моей кисти, и он сдержался, чтобы не поднести ее к губам и не обдуть теплым воздухом из своих легких.
За нами шла кошка, полная деликатной грации, как знак параграфа или интеграла. Она мягко шествовала на почтительном расстоянии, иногда проверяя на какие-то известные только ей точки, убеждалась – все ли там по-прежнему, все ли в том же безупречном, ведомом только ей порядке. Я впервые видел, чтобы кошка за кем-то шла.
Я перехватывал мягкий взгляд отца, обращаемый на животное. Он чурался своей тяги к ней. Наверное, также, как и ко мне.
– Да, вот сын на побывку приехал. За гостинцами идем. – Говорил он трижды разным людям, встречаемым по дороге.
Одну и ту же фразу. Бесцветным голосом.
Одним и тем же тоном. Но в первый раз он именовал меня «сын», как примерного рядового, в другой – «сынок», как полкового любимца и в третий, – «сынишка», как возлюбленного баловня всей армии, которому все простится. Он говорил эти слова ровно, словно считывая их с листа, – чтобы у встречных не появилось сомнения в моей сыновней связи с ним. У меня должны были появиться в их глазах высокое звание и громкий титул. О, если бы они сразу услышали три степени сыновности.
Почему «гостинец»? Ведь гостинец привез я – три литра меда. А может, он хотел побыть в гостях у меня? Дурацкое слово «гостинец».
Мне показалось, что ему тяжело идти со мной, что ему почему-то необходимо оправдываться в глазах встречных сослуживцев. Но, нарекая меня производными имени «сын», он словно предъявлял окружающим меня во всем родственном блеске, что-то им непреложное доказывая.
О странные люди, особенно тот, что сплевывал беспрерывно, пока о чем-то говорил с отцом. До меня донеслось однообразие склоняемых местоимений «моя», «ко мне», «моей», и я цинично ждал появление торжественных форм «моею» и «мною». Но вместо этого собеседник отца сплюнул в сторону кошки так мощно, что на облезшем кусте волчьей ягоды, под которым животное копалось, повисла белая растерзанная медуза. Брезгливое животное метнулось к подолу отцовской шинели. Как под сень. Жалость переполняла мое сердце.
– Слышь, твоя кошара? Поймаю – удушу. Как машину поставлю у дома, так на капот садится, всю восковку истоптала, на дворники, падла, ссыт.
Замахнувшись, он сделал в сторону спрятавшейся кошки боевой выпад.
– Ну, будь, я блядь до гаража, – козыряет отцу человек-плевательница, показав два оттопыренных пальца. То ли голова черта, то ли три четверти стакана. От него пахнуло пережеванным перегаром.
Отец качает головой и снова берет меня за руку.
– Ну, совсем медуза, – говорит он.
То ли о плевках, то ли об этом человеке. В его словах не было ни брезгливости, ни осуждения.
Неотвязная кошка левой лапкой бережно закапывает за собой сырую ямку, она при этом странно смежает глаза, полные довольства.
– Как щурится, глянь, ну чисто баба, – замечает разулыбавшийся отец.
Мне не понятно это сравнения.
У него совсем мягкая, совсем несильная сухая кисть. Это столь контрастно с жестким обшлагом рукава шинели. «Нежная ласта», – думаю я. Мне страшно, что он вот-вот выпустит мою руку, так как моя ладонь, как кажется мне, постыдно и отчаянно липко потеет, потеет и полна немужской холодной слабости. Как перед обмороком.
И он то и дело то напрягал свою кисть, то расслаблял ее, играя со мной, показывал мне, что всё, и я тоже, еще в его власти, что он якобы может все что угодно сжать и поворотить в любую сторону. Но мне было ясно, что ничего он уже не может, что от него уже ничего не зависит, что он опоздал и пребывает в глухом беспробудном тупике. В нетях этого захолустья.
Я почувствовал, что глядя по сторонам, на дальние леса, перекопанные картофельные огороды, распаханные пашни и битые дороги, он не устанавливает между ними и собой предела. Что то, что простерто вокруг, – уже и он сам. И от этого мне делалось невыразимо грустно. Мне было его как-то невыразимо жаль. Почти больно за него. Но больно, если под этим понимать протяженность – им.
Как кажется мне сейчас, я его оплакивал.
«Ведь что за осенью?» – спрашивал я сам себя.
«Смерть, смерть, смерть», – кто-то трижды тарарахнул во мне.
– Что такой грустный? – отец сам понимает, что задает напрасный вопрос и сам не хочет, что бы я на него отвечал.
Я взглядываю на него и молчу.
Он отворачивает лицо.
Мне не удалось ничего выбрать среди скудости бесполезных товаров. Огромные кастрюли-выварки, дуршлаги, многолитровые миски. Кухня Голиафа. Шеренги пухлых пальто и одинаковых костюмов. Плохая какая-то босая обувь. Мыло, стиральный порошок и зеленый одеколон. Тоже шеренгами.
– Ты еще не бреешься, – вдруг говорит без вопросительной интонации отец, пристально посмотрев на мои щеки губы и подбородок.
Я слизываю его взгляд с тыльной стороны щеки.
– Кажется, нет.
– Так «кажется» или «нет», скажи по-нормальному.
– Не «по-нормальному», папа, а просто «нормально», – зачем-то говорю ему, хотя совсем не хочу выправлять щуплые вывихи его речи.
– Тоже мне нашелся, грамотей, как твоя бабка прямо, – он не сердится.
Он проводит сухим пальцем по моему подбородку.
Во мне стихает шум леса.
– Нет, бритву еще рано. – Но он вдруг задорно приободряется. – А черт с ним, рано или поздно. Пригодится. Если мужик нормальный. Все в хозяйстве мужику пригодиться.
В нем пробуждается другой человек.
Он запевает последнюю фразу куплетом «Как родная меня мать провожала». И это была единственная вспышка веселья, согревающая меня до сих пор.
И он покупает мне черную, как осенняя почва, электробритву «Харькiв». В жестком футляре с зеркальцем на крышке, кисточками и щеточками для выметания щетины, с крохотной масленкой для смазки, чернильными штампиками в паспорте. Это настоящий сложный агрегат, усерьезнивающий отныне всю мою жизнь.[18]
Я делаюсь бритым мужчиной.
– Хорошая вещь. Хочешь на двести двадцать, а хочешь – хоть на сто двадцать семь.
Он молча пристально смотрит на меня, он что-то начинает понимать, будто видит впервые.
– Вольт, – говорит он через несколько длиннотелых секунд.
Молчит еще, рассматривая склонившись над витриной какие-то армейские штучки. Петлицы и кокарды.
Я думаю теперь, что он не речь прибавлял к молчанию, а молчанье суммировал с молчаньем.
И вот он тихо говорит мне, сжимающему гладкую коробку. Словно прорезает бессловесность:
– Ей не говори, она все копит. Только потом обязательно одеколон, не забудь.
Он переходит к заклинанию, к тайне, которую он мне поверяет. Смотрит мне в глаза, будто с трудом узнает:
– О-де-ко-лон… Ну там «Шипр» или еще получше «Тройным». «Тройной» крепче в три раза. У тебя на левой скуле будет скорее расти. Как у меня. Одна порода. Вижу. Одна.
– Еще что брать будете? Ну вот хоть звездочки крупные завезли. Не приобретёте для пары, товарищ майор? – Говорит с тихим вызовом отцу продавщица.
Глагол «приобретёте» она словно считывает из сухой инструкции.
Моложавая тетка со злым деревянным, каким-то вчерашним лицом.
– Не к спеху, – отвечает ей с пустой интонацией отец, подталкивая меня к книжному закутку.
Там еще скупые злые авторучки, серые тетрадки с кем-то из классиков, тушки небольших глобусов. Почему-то Луны. Одна половина белая, а другая, невидимая – черная. До сих пор безмерно сожалею об той чудесной вещи.
Перегнувшись через прилавок отец что-то неслышное говорит потупившейся женщине. Она зло слушает, стреляет в него опухшими глазами и убегает за занавеску в закуток.
До меня доносится сдавленное, взятое в войлочные кавычки:
«Да он опять. Да это пасынок с ним. Не его пасынок, – глазуньин, у нее утробных своих – два. Да дура ты… От кого? От духа святого. Сын – его, а не Глазуньин. Бритву. «Бердск», да нет – «Харькiв» за двадцать семь. Сюрпризная. Уж с год лежала, пылилась всё».
Показываются две другие продавщицы, как в самодеятельном театре, они задергивают за собой тощую занавеску, делая все происходящее совершенно прозрачным.
Эта реприза делается многослойным стеклянным кубом, где разговор оживляет зрелище, а зрелище делает разговор цветным. Отец выговаривает серые как табачный дым слова, они – ниспадают к его ногам хлопьями копоти, будто пригорела котлета.
– Ну, здрасьте, деушки, – бросает им протяжные кольца слов отец, став на секунду бравым премьером в этом театре.
Они испепеляют его.
Я киваю тоже, глядя в фасад нарядной коробки. Там портрет бритвы в натуральную величину. Зачем?
Мне неловко.
Стеллаж никчемных политических книг.
Что он им еще сказал я не разобрал.
И мы вышли вон из торговой бедноты в те же самые двери. Он не настаивал на других покупках. Он подарил мне накануне темно-зеленую холщовую плащ-палатку. Зачем она мне? Чтобы я ночевал в чистом поле…
Глазунья…
О, какой кошмар, значит он, мой бедный отец, тут прозывается Глазуньиным мужем. Муж Глазуньи. Лучше бы она звалась адмирал Нельсон, пират Джо, мифологически – Циклопка, Полифемка, но только не Глазунья.
Это перебор, это чудовищно, это метко, это прямо в глаз.
– Что? Попало? – Спрашивает отец, видя, как я тру пальцем веко.
– Соринка, – отвечаю я.
Он отвернулся от меня. Он все понял.
– Да пошла ты! – Бросает он раздраженно в сторону кошки.
Потом смягчается:
– Ну, нет у нас ничего, что не видишь – нет ничего. Ни-че-го.
Кошка мягко отступает.
Мы молча шли домой. По пути нам уже никто не встретился. Он все-таки нашел в себе силы взять меня снова за руку.
Через грустное тепло его сухой ладони в меня словно перешло вспоминание об одной сцене, разыгрываемой бабушкой перед подругой моей умершей матери, Любой, о которой речь впереди.
Когда он уехал и сообщил через какое-то время о том, что то ли женился, то ли сошелся. На доброй местной женщине. Прислал в твердом конверте фото, подписанное с оборотной стороны. Отец, сидя рядом со своей новой очень доброй женщиной, безразлично смотрел вниз, – там лучи его зрения не сходились.
Так, короткая сценка, быстрый скетч. Приступ ненависти, порожденный на самом деле отчаянием, утратой власти, подступающей немощью. Бабушка шипела, показывая лучшей подруге моей матери, Любаше, Любе, Бусе разлюбезной, недавно полученное фото: «И такая-то мымра, глянь, его приворожила, на порог тварь с ним не пущу, чтоб глаза ее ослепли». Следом следовал краткий залп магического плевка. Проницательная бабушка по небольшому фото что-то почуяла про скрываемый ущерб. Она никогда зря не сыпала проклятьями.
Буся кивала, подмятая ее гневом, тупо качая головой, как китайская кукла. «А ты, дура-то, куда ж все смотрела? Проглядела, дуреха, свое счастье!» бросила бабушка в бедную Бусю, еженедельно приходящую к нам, вернее ко мне, смятый ядовитый ком. Та зарыдала, словно виновата во всем именно она.
Бабушка вообще-то насчет своего порога слово сдержала.
Отец так и не приезжал никогда.
Бабушка гневалась столь сильно на моей памяти лишь однажды, сразу по отъезду отца, после его ночного бегства. Когда униженно пристраивала в зооуголок домоуправления мышей, которых в один миг возненавидела. «В канализацию спущу, в канализацию, к говяшкам», – почти кричала она на парочку тварей в клетке, давясь сухими слезами.
Эти вспышки ее гнева пронеслась во мне за долю секунды. И засели в подкорке навсегда, как занозы, как первые рифмы, прожегшие стопку бессмысленных лет – насквозь. Они осознанны мной в моей жизни как единственный достоверный смысл.
Тогда ведь вдруг, помимо моей воли, впервые сошлось все и стало прозрачным и незабываемым, невзирая на все чувства, что я пережил. Чувства, что я пережил.
Позорные, смутные, язвящие, но неотъемлемые.
Делающие меня мной.
Назавтра отец увозил меня обратно, в тот город, где он когда-то жил со мной, где до сих пор обитал я вместе с его постаревшей матерью, в ее древнем упорядоченном мире.
Хотя я мог добраться и сам, без него – три часа на автобусе до станции и потом – на поезде. Но он хотел просто побыть со мной вдвоем. Ведь у него была жалоба. Словно он готовился ее каким-то способом поведать мне.
Ранним утром его новая жена, провожая нас, вынесла четыре трехлитровых банки к багажнику автомобиля. Две – маринованных грибов, две – моченой клюквы.
– На зиму ой хорошо. С картошечкой там, чайком, – как-то униженно промолвила она. И я понял, насколько она слаба.
И эти дары были принесены совершенно напрасно.
Неумолимая бабушка даже не позволила мне внести банки в дом.
Так их кто-то и подобрал.
___________________________
Итак, мне шел пятнадцатый год.
И это – самая быстрая часть моих воспоминаний, потому что я хочу отделаться от них как можно скорее. Ведь мне не хватает на все наркоза.
По прямому шоссе мы неслись с отцом на его неказистом автомобиле через лесистую равнину. Она холодела на моих глазах. Я увидел – в черных бороздах редких узких полей, словно выбритых в лесу великаном, мерзнет жесткий снег. Красно-черные березняки с осинниками, сменившие темень бора, притесняли дорогу, как в одном тексте, который я прочел, будучи взрослым. И мне теперь кажется, что, сходясь, они трещали, как запрет, к которому я вместе с отцом придвинулся вплотную. Будто Бог собирался надорвать пергамент над самыми нашими головами. Слов, начертанных на нем, мне было не разобрать.
Стрелка спидометра возбужденно дрожа встала у отметки «сто». Наверное, этот было на последней возможности автомобиля.
Сухие нервные руки отца, лежащие на руле, как на дуге мира.
Безукоризненно прямое шоссе гнется и горбится, оно брошено швом на живот равнины. Его прямизна как бандитский быстрый порез тела. Когда-нибудь леса и поля, лежащие поодаль него, сойдутся. Все исчезнет без следа. Как и мы.
Я боюсь, что отец заснет, и мы мгновенно погибнем. Точнее, я боюсь не смерти, мне просто жаль возни вокруг двух бесполезных покалеченных тел. Я брезгую, ненавижу быт похорон, которому был не раз свидетелем. Запах лесопилки, исходящий от халтурных гробов. Слезы, сопли, водка, торопливость преодоленной брезгливости. Искусственные ядовитые цветы.
Шоссе медленно и тревожно то опускается вниз, то начинает вползать вверх, будто мы едем по диаметру непомерного шара – так, впрочем, и есть.
Я чувствовал рядом с собой тело отца, равное биению моего сердца, равное гулу леса, идущему от набегавших справа и слева прямых стволов дерев. Время густело за дверцей нашего помолодевшего от быстрой езды автомобиля.
Мы едем молча целую вечность.
Но почему-то темнеет, и отец начинает искать место для ночлега, так как встречные автомобили его слепят, и он боится столкновения. Ему кажется, что ночью все едут как никогда не высыпающиеся солдаты-караульщики его части.
Он, чтобы успокоиться, кладет мне руку на плечо, отпустив передачу.
Гладит меня по затылку.
Его ладонь складывается в живой крупный лепесток. Я опираюсь о нее как о подголовник. Его пальцы мягко вздрагивают.
Я чувствую достоверность и выстраданность этого жеста. Его необходимость.
Я чувствую, что в сумерках ему легче что-то необходимое пережить со мной. Перенесть наш общий неделимый остаток. Ведь в нем заключены именно мы – друг для друга, неотъемлемые, постыдные в своей разделенности, кроткие и согласные на расставание.
Ему в сгущающемся свете делается свободнее.
У него тяжкая десница.
Я понял тогда, через это прикосновение кто я.
По плоти своей.
Понял себя как цитату, возвещенную им и продолжающую его.
Ведь кто я? Извещение о себе самом и о нем, о моем отце одновременно. Ведь рядом со мной он меня все время ирреально порождает, так, что я делаюсь не нашими невысказанными отношениями, а их неподъемным весом.
Ведь я наконец-то понял его особенным образом, без помощи слов, так как у меня не было тайного языка, что бы об этом понимании сказать даже самому себе.
«Господи, Господи, Господи, – с кроткой серьезностью повторял я про себя, – если Ты есть, не дай мне, добрый Господи, расстаться с ним».
Я понял, что иметь жалкого отца – больше, чем иметь сокровище.
Вот почерневшая пустота и редкие летящие двойные огни влетают в нас, делая нас неодушевленными, распахнутыми и сквозными.
Моей молитве не за что зацепиться, и она тоже пролетает сквозь меня, оставляя во мне щемящую выемку.
Мне становится понятно, что я состою из иного вещества, и тела во мне почти нет. Я делаюсь равным видимости того, что переживал. Для самого себя совершенно нереальным.
Ни одного моста по пути.
Ни одна железная дорога не пересекает шоссе, ни одного шлагбаума, где бы мы могли хоть на миг остановиться. Чтобы обездвиженность отяжелила меня или растворила как полную мнимость. Ведь я пребывал где-то между ними. Вблизи фантома отца, которого страстно любил, и человеческого тела, принадлежащего другому мужчине, вычеркнувшему когда-то меня из своей взрослой жизни так цинически легко.
У слова «легко» нет границ.
Мы мчимся, чтобы больше не увидеться, понимаю я.
От руки, лежащей на моем плече, от пальцев, перебирающих мои волосы на моем затылке, я начинаю возбуждаться. Даже не от этого, а оттого, что моей близости с отцом положен серьезный и зримый конец им самим, ласкающим меня в первый и последний раз.
Ведь так и вышло. Потом мы так и не пересеклись. Нигде. При его жизни.
Хотя это и было сто лет назад, я помню каждую деталь той ночи.
Особенную страстную деталь.
Данную мне как отсутствие смысла и содержания. Как внятное одному мне незначащее пустое слово, но обозначающее дорогую мне вещь или желанное действие. Они уже настолько дороги и желанны, что имеют обратный знак. Они вывернуты.
Эта ночь зачеркивала все:
– календарные пределы суток (ведь дорога бесконечна и равна ночи с сияющими зодиакальными животными, настигающими и обгоняющими нас),
– закон мужественности (нежность отца поворачивала его ко мне другой, невероятной страшной и торжественной стороной),
– сыновний запрет (я-то ведь не мог быть с ним ласков, как и не мог отвергнуть его ласку, я не мог насмехаться над ним, но в тоже время я безмерно желал, чтоб он был нежен со мной).
Он что-то тихо мычал себе под нос. Песню. Ее мелодии за гудением мотора я разобрать не мог. Может, это была колыбельная? На слова Лермонтова? Они сливались с шумом мотора и свистом дороги.
Он как-то серьезной кротостью меня пугал, и мне становилось страшно, но не его, а самого моего страха. Будто в отца, а я про себя понимал его не как «отца», а как некоего непомерного «его», постепенно вселялся другой, непонятный, но невероятно близкий мне, прекрасный и поэтому желанный поющий человек. Мой смилостивившийся преследователь, подаривший мне ночную отсрочку.
Не мой священный неприкосновенный отец, а пугающе близкий мужчина, сплетенный из узкой ленты дороги, темной полосы небес, лучей, несущихся навстречу рассыпающимися слезными снопами. И самое главное – из моего страха потерять его. Не вообще, когда-то, а именно сейчас на исходе его ласки.
Скашивая глаза, я наблюдаю его. Мой взор спускается по его высоко подбритым вискам, через гладкую скулу к подбородку. Я не замечал этой мягкости. Он – большой младенец, замкнутый серьезностью своего мира. Мира, претерпеваемого им. Мира, внятного только ему. Где-то за границей этого надежного напева. И из-за этой его новой безвозрастной детскости я перестал его бояться.
Но я был ни жив, ни мертв, так как оцепенел от страсти. И мне не было стыдно. Стыд простирался за другими границами, которых я может быть так никогда и не достигну.
Повернувшись, я смотрю на его профиль, вспыхивающий со встречными огнями. Я знаю, что он чует мой взгляд.
Самый важный итог моей связи с ним должен быть повторен трижды!
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И от этого желания, чтобы ничего не изменялось в сложном с таким трудом достигнутом равновесии между мной и им, мне делалось не по себе.
О! Я теперь это понимаю.
И никто не переубедит меня в обратном.
Как очень давно, совсем в раннем детстве, когда, подвыпив, он сделал вид, что не знает меня, что я для него – чужой надоедливый мальчик. Сейчас все происходило наоборот. Он показывал, как он близок мне, как любит меня, и это меня точно так же пугало, как отчуждение в детстве, и я едва сдерживал слезы.[19]
______________________
В доме дорожного мастера в комнатушке дворовой пристройки одиноко стояла железная кровать. У темной дощатой стены. Мы даже не перекусили. Большой грязный стол, на который нельзя было ничего целого и чистого положить.
Калилась открытая спираль примитивной электропечки. Ее принес добрый хозяин постоя. Он сказал: «А вот вам и козел». Словно здесь были еще другие животные. Водрузил ее, колченогую, на кирпичи. Напротив кровати. Вытянул в сени длинный провод. Подсоединил к чему-то. Вернулся, ушел улыбаясь. Я стеснялся его, он что-то такое знал про нас.
Но вот от властной красноты быстро сделалось почти горячо. До приземистой духоты и шалой одуряющей слабости. Будто кругом стояли темные зеркала, и легкое марево жара склеивало убогость в тяжелую одомашненную массу, где было уже совсем не страшно, как под двумя одеялами. Я начал глохнуть. Звуки с трудом достигали меня. «Сегодня» кончилось.
На вещмешке, принесенном из багажника машины, мрачно смешались наши одежды – военная мужественная его и хлипкая подростковая – моя.
На мои потертые ботинки навалились голенища его высоких блестящих сапог.[20]
Звездочка не тускнела на погоне. Звездочка, о которую я когда-то до крови оцарапался. Правда, он тогда был старлеем, а не майором, как теперь.
Эту мешанину одеяний я помню по-особому до сих пор. Я даже осязаю и поверхность тех вещей, и легко смешавшийся наш телесный дух на фоне затхлости и пыли. Именно чую, осязаю, разумею как шершавую поверхность ночного воздуха необитаемого жилья, ставшую вдруг вещественной. Неотъемлемой субстанцией моего несуществующего отца.
Отец остался в одних голубых кальсонах, пузырящихся на коленях. Он сделал еще один невидимый шаг и быстро, как чешую, стянул и их, оставшись совсем голым. Его поджарое тело, мягко разогнувшись, приняло теплый рефлекс калящейся спирали. Словно мягкий толчок. Я впервые увидел, как он красив, как он отточено строен, как теплы линии его движущегося тела, – они немного отставали от него в этой жидкой маленькой духоте, их можно было коснуться как сотни гармоничных лекал, роняемых им тут и там. В тихом зареве красноты как позднее насекомое, как робкая ночная пчела, плавно мелькнули его гениталии. Словно собравшиеся покинуть на ночь темную гущу пряжи. И мне не было ни душно и ни тяжело различать и понимать это.
Вот он остановился против меня, заломив руки за голову, повернулся, выкручивая корпус как гимнаст, всего на пол оборота, чуть вспрыгнул, легко по-молодому ухнул высоким тоном своего неусталого голоса,[21] и какая-то пронзительная гармония новой наготы и вольности насытили его обаянием, и, двинувшись дальше, он чуть пританцовывал. Одну секунду. Только два па. Не больше. Весело качнулся его член, неотличимый ни от его нестыдного лица, ни от темного худого какого-то ущербного живота. «Месяц на ущербе», – должен про него теперь сказать я. Он что-то должен был сделать исключительное, так как радостно посмотрел на меня – глядящего на него, как на самое лучшее зрелище моей жизни. И я понял, что он не предавал меня, я отчаянно захотел просить прощенье. Я сдержался. И он, поняв мои неизреченные слова, засветился сам.
Пока я переминался на одном месте, он лег – будто нырнул в ртутные густые воды, не утопая в них. Свет, в котором только что стоял он, остался поколебленным. Мне со всею отчетливостью привиделось как отец легко вышел из себя. Оставив мне так много.
Я мгновенно обнажился тоже. Не стесняясь его, так как он совсем не теснил меня.
Мне какой-то самой легкой моей частью делалось, делалось, делалось мне все свободней и свободней…
– Ну, иди же ты сюда, – позвал он не своим обычным голосом, а тоном высокого охотничьего рога, таким истомленным, что им невозможно даже распугать самых мелких птиц. Я понял: с таким «ты» мне не уравняться никогда.
Я подошел, ни сделав и шага, так как стал слишком легок для шагов, я вплыл в его эфир, в котором было все, что я знал про него, – все, кроме изнурения.
От него шли такая слабость и нетерпение, что я никогда не смог к этому сегменту моей памяти подобрать слова.
Отец оказался не тяжелее одеяла, чью полость он распахнул мне навстречу как моллюск створку раковины.
«Полезай к стене», – кажется, не попросил он меня…
«Не упадешь», – о, и этого мне он не сказал…
И я легко перекатился через сильное тело низкой помраченной волной, рассыпался по нему песком, пеной, чем-то еще – беспамятным и влажным…
Мне было необходимо задеть его собою, так чтобы проникнуть во все его поры.
Хоть на мгновение.
Ну. Вот и…
Где-то внутри меня, на самом моем дне опрокинулась низкая миска с парным молоком.
Я все про себя навсегда понял.
– Спать, – безмятежно улыбнувшись чему-то, позвал он меня, уже замершего рядом. И, кажется, я понял чему он улыбнулся.
Той ночью не произошло инцеста. Это было невозможно. Ни для него, ни для меня.[22]
И я снова, лежа с ним, вытянувшись струною, ощущая его не как корпус, бедра и голени, а иначе – как извещение о самом себе, и я всю ночь нарождался.
Но не наново, а как-то иначе – в другую сторону от моего паскудного завтра, в-туда, в-до-слов, сворачивался в полный покой и беззвучие.
Будто меня уже нельзя было прочесть, так как моя поверхность, мое тело перестали что либо означать, ибо я сам стал больше, чем гудение своей напряженной пустоты и значительнее опасного беззвучия, разлившегося во мне. Звучнее, чем переполненный улей, зудящий на манер отцовской колыбельной.
Я, – слитый с ним в этом порыве близости, останавливаемом мной, за что я еще поплачусь, – недвижимым лег у самой стенки. А потом повернулся. Лицом к нему. Почувствовал его мерное тело, вошел в зависимость от его неукротимого тепла, был понужден им к близости. Уткнувшись, нет, уставившись губами в отворенную только для меня сладкую подмышку. В робкий отцовский лес. Как в сокровенность. Как в сокровищницу с особыми пряностями, которые скоро унесут, но пока – они мои. Будто бы навсегда.
Он тоже, ответив мне, испуганно вздохнув, привалил к себе, обнял за плечи и гладил по затылку, еле слышно приговаривая: «Мой мальчик, ну мой любимый сыночек, мой мальчик. Моя детка».
Это «ну», полное тихой бесконечной горечи, засело в моем сердце.
Он твердил: «моя детка, моя детка…»
Будто улыбался.
Он это говорил не мне, смятенному его лаской, а себе самому, ставшему вдруг в тысячу раз слабее меня, юнее и ничтожнее. Оставшемуся наедине со своей плотью, не имеющей ничего – ни запаха, ни плотности, ни тем более – пола. Он переставал быть всем, чем был раньше – мужчиной, моим отцом, бросившим меня.
Я понял, что становлюсь прозрачным, и во мне уже ничего не держится – ни память, ни слова, ни желания.
Ведь он ни к чему меня не понуждал. Как и я его. Только к жизни. И вот это было неукротимо.
Я понял, что все исполнилось. И мне можно не жить дальше.[23]
Время остановилось.
Я знал, что наша кровь наново смешалась, но не в ужасающем, не в роковом смысле, а в другом, другом, – возносящем меня и оставляющем в живых.
И мы, сползая в сон, по-моему, так и не заснули.
И я понимаю, что и ему великого напряжения стоило не разрыдаться. Ведь мы наконец стали и, не преставая, снова становились ровней. Как не должно было случиться.
Между нами пролег знак великого кровного тождества. Таковой, от которого отказаться будет невозможно.
И он, он, мой бедный отец, будет понужден навсегда, даже когда его не станет, отвечать за скуку, скуку, приключившуюся в моей жизни.
Но я вспоминаю его, уснувшего рядом со мной не по уставу отцовства, а по мере столь глубокой человечности, что никто не смог бы осудить ни его, ни меня, ни темное время суток, ни безропотность веществ всего мира, – за это потакание чувственности и небрежение кромешным законом.
Потому что закона не было.
Всю ночь я поддерживал на весу его тиходышащее нетяжелеющее тело, переставшее быть мужским и отцовским, – подставлялся под бесплотность его чуть колкой щеки, заполняя собой жесткое кольцо его горячих сомкнутых на мне рук, иногда они мягчели и вздрагивали, как будто роняли что-то; и я понимал что этим чем-то был я, и он в ответ на мое понимание туже смыкал кольцо. Я лежал в пеленах колыбели, свитых из зажегшегося внутри меня тленного света, равного отцовскому, овивающему меня со все сторон. Он вдыхал в меня жизнь. Он недвижимый так старался. Стать мною. Как и я им.
Меня обволакивал ватный пустой выдох, приотворяющий его ослабшие губы у самого моего слуха, – и я чуял под своей щекой, как в этом долгом дыхании зыбится глубина его тела, тела, не имеющего отношения к обычной телесности. И насыщая меня своей жалкостью, он не делался жалким, и я не жалел его, так как просто желал, даже не его, а его жизни. И он, будучи слабее видимости и ирреальнее миража, со всею очевидностью сосуществуя со мною здесь, иссякал, – как прекрасная однозначность моего непоправимо опрокинутого выбора.
О, не только моего…
Он легко обвил меня ногами, прижимаясь сильнее и сильнее, если к тому, кого уже не было, можно было прижаться, и мое бедро не уколола травянистая растительность его живота, не отяготил перекатывающийся теплый ком мошонки и мягкого члена, к утру ставшего большим, поправ мой щуплый живот; – и когда сквозь дрему я подавался к отцу, тяжко вздыхая, то в ответ мне вздрагивала раскрывшаяся головка, чуть подталкивая меня; и еще этот ранящий ноздри запах – словно скрипнувшего канифолью распила или дальней речной липкости – мягко и беззащитно настигал меня; – это мой отец, безмерно ослабнув, со всей безутешностью опершись о меня, как о последнюю твердыню, уходил в небытие. Таким вот образом просачиваясь в меня. И эта легкая горючая прель оказалась главным его признаком, достававшимся мне, – куда соскальзывал и я, утеряв опору в нем. В полусне я понимал, что весь он, и тело, и запах, и плотность – исчезают, уводя его как череду видимостей, иллюзий, всего несбывшегося, – и удержать их подле меня не смог бы никто.
Его сил хватало, чтобы оставить о себе такой эфемерный преисполненный пугающей точности и драгоценной зыбкости, отчет предназначенный иссяканию.
Вот, вдохни, не бойся, ну, понюхай, мой любимый, – как будто подталкивал он меня, – ведь почти ничем не пахнет. В тот самый момент когда мы проснемся.
Меня, как припозднившегося маленького гулену, накрыло упавшее в непогоду растение. Огромный влажный куст, чью породу мне ни за что не определить, так как суть ее состояла в характере моего поражения всей путаницей листвы и веток, нежным тактильным ударом, растворяющемся через миг после опознавания легких сумерек этого касанья…
Я боялся разжать объятия. Во мне не было стыда. Потому, что и в нем не было срама. И он, наивно приоткрываясь мне, не изменил своей позы, – слабый с напряженным членом, полный смирения, самоотдачи и признательности. За что? За то, что и я, наконец-то, и я тоже подарил ему жизнь. Как мог. Со мной. Робкий клок жизни. Не отторгнув его в этом ничтожестве слабости и великолепии близости, – мы ведь вырвали с ним лишь несколько часов из всей бездны нашего разобщенного времени.
И он показался мне понурой ровностью, тщетной неизменностью, сокровищем жалкости. Я просто понял то, что он – мой отец, понял в нем то, что навсегда изъяло из нашей неосуществимой близости все тени.
Мне привиделось, как я спал на самом дне его жара, не застав там себя спящим ни одной секунды, которую можно вымерить с помощью обычных часов. Ведь человеческое время для нас перестало что-то означать. Для него – спящего, а для меня – спящего в нем, и не подозревающем о скором времени. Он словно извещал меня об очень важном, – что это известно и ему, а теперь и мне, так как мы стали единственным достоверным извещением друг другу.
О том, что придет смерть.
И его, покоящегося рядом, я уже не боялся.
Я перекрутился лицом к стене как жгут влажного белья, но отец что-то вымолвил детским гортанным тоном, он донесся до меня откуда-то с дальней прекрасной изнанки его жизни, он вздрогнул, – я, поворачиваясь, наверное грубо задел его.
И тут же под его робкий стон я изошел.
Мое напряжение разрядилось от одного прикосновения к стене.
Сырой крупный крот промчался во мне как в просиявшей норе. Случайным толчком по моему распрямленному в дугу телу. Кажется, я ухнул. Будто с трудом потянулся, оживая. И так – быстро и легко, в моей дурацкой жизни больше никогда не получалось. В горькие ночи я толкал стены – каменные и фанерные. И они отвечали мне мертвым покоем.
Глагол «кончил» совершенно здесь не подходит, так как во мне остался огромный сложный остаток. И его низкая, тяжелая, но не низменная взвесь не растворится во мне никогда, чуть колеблясь на самом моем сокровенном дне. Она исчезнет только вместе со мной.
Кажется, отец сквозь предутреннюю дрему ничего не почуял. Хотя, как сказать.
Но та ночь до сих пор предстает мне объятием таким большим и призрачным, что заштриховывает, смывает своим несуществующим временем всего меня. Хотя не было не исчерпано ничего.
Может быть после этого мы должны были бы оба сгореть, как в недошедшей до нас самой ужасной греческой трагедии.
Но то, что было на самом деле, упраздняет меня, ибо я сам себя исполнил.
И самый тяжелый итог тогдашнего эксцесса – то, что мной больше ничто не желаемо. Если вообще возможно подводить какие ни было итоги.
Вот, нет моего отца, у меня не осталось ни одной его вещи, кроме разваливающегося того самого древнего совершенно разлохматившегося «москвиченка».
И мне начинает чудиться, что все это случилось со мной одним, без его участия.
Он утром натягивает галифе, переминая ногами. С трудом попадает в другую кожу.
Я чувствовал, что его тело говорит со мной не на языке строгой военной одежды, этих золотых пуговиц, хищного ремня, погон, а на щемящем и трудно переносимом наречии нежности, оставленности, муки и невозможности не только что-либо исправить, но и вообще сказать, просто произнести.
У меня стоит ком в горле. Я не могу даже коснуться его руки.
И я понимаю моего отца так, как не понимал никто меня в моей жизни. И я не знаю, хотел ли я быть понятым таким образом. Не образом, а чем-то иным, чему нет ни дна, ни предела.
Отец затягивает вокруг своей талии ремень как запрет.
Мы ведь должны продолжать путь.
Жалобная странная фраза, выроненная им оплошно из своего сокровенного нутра под утро: «Мне трусы в паху натирают», – кажется мне посейчас особым подкопом под меня, мою сущность и мое тело, дерзостной диверсией.
Если б он ее не обронил, оборотясь к окну, где уже начало потихоньку сереть и так же серо заурчал грейдер хозяина нашего постоя, то я бы решил, что ночь равна мороку, и все не более чем мой сон после тошнотной дороги.
Не знаю почему, но я заплакал.
Он растерянно и жалко посмотрел на меня. Всего одно мгновенье. Будто испытал боль. Не сделав и шага в мою сторону. Только посмотрел. Таким я его и запомнил…
Этот образ военного человека, поворотившего на меня взор, чуть колеблется во мне как бакен в створе реки. И, кажется, уже ничего не значит.
Он мне не сигналит.
Это не подробность. Это мотив моих дальнейших затравленных воспоминаний о нем. Они зарастут как луг, где не косят траву.
Вот я смотрю сегодня из себя тогдашнего на тот придорожный домик.
На грейдер, который пятится по обочине шоссе сам по себе. Он посейчас не прекращает своего тихого обратного движения. Но, обречено удаляясь, он почему-то не уменьшается.
В этом есть порча, порочность.
У меня начинает кружиться голова, и меня вот-вот стошнит. В мой рот забит кляп. Из осенней холодной травы. И земля, прилипшая к глобусу, поползла подо мной. Как скальп.
Дальнейшего пути я не помню. Мы ехали вместе с однообразием пейзажа. Тяжесть была непомерна, она ведь состояла в том, что мы должны были позабыть друг о друге. Однообразие дороги переходило в чистую муку.
Из тех ночных руин, обрушившихся когда-то на другого, но равного мне подростка, я так никогда и не выбрался.
Вот, совершенно не помню его взгляда, не подберу название к цвету его глаз. И могу все только досочинить со всей безутешностью потери. Его свойства остались во мне как смолкнувшее предание. И я помню все сюжеты – на ощупь, на запах, на вес, – хотя и они скользят во мне, не цепляясь ни за что. Будто я только и делал, что прикасался к нему и пробовал на вес его тело. Его взгляд вдруг упершийся в меня. Вся эфемерная память о нем осталась неисчисляемой, не подверженной анализу, – просто в виде плотного шевелящегося осадка. Будто во мне, в моем средостении есть тяжкий сгусток ртути, не смачивающий меня, но организующий мое равновесие, – и если меня кто-то бросит в цель, то я непременно приземлюсь на обе ноги. Как трофейный боевой нож, по скважине которого бегает ртутный груз.
1
…мы не дождались и середины второго действия. Хотя, что середина? По сюжету понять это было невозможно. Мы вышли на улицу. Духота была недвижимой и всеобщей; и совершенно не грозила ни близким ливнем, ни внезапным ветром. Только благоухание поздно зацветших лип чуть расталкивало воздух. Ведь даже в самую жару эти деревья дарят иллюзию свежести.
Моя спутница сказала, что ей необходимо зайти к одной пациентке и это совсем близко.
Мы шли по переулкам мимо выстаревших домов, и асфальт скучно пружинил наши шаги. На юге темнеет быстро, будто специальная служительница выключает свет, – будто клетку с птичьим переполохом накрывают непроницаемым платком. И я чувствовал себя одной из птиц, так как вязы, сросшиеся ветвями над самой дорогой, едва пропускали рябой тканый свет лампионов. Мне приходилось наступать на пятна света, словно на кисти платка, занавешивающего ночной час.
Спутница моя оказалось жизнерадостной и жизнелюбивой. И очень любила мороженое. Держа на отлете стаканчик тающего пломбира, она повествовала о своем скупом детстве, прошедшем в дальних гарнизонах. Но это была несладкая история. Путешествуя с родителями она меняла школы, окончила самое северное медучилище, скоротечно побывала замужем за неудачником. Проживает теперь с братом.
Перед самой дверью, за которой жила ее пациентка мы поцеловались; ее губы были мягкими и сухими, и я почему-то не коснулся ее плотного тела. Пациентка, к которой можно и поздно. Мне подумалось, что первый поцелуй не очень молодых персонажей не имеет под собой литературного фундамента. От него всегда отдает самодеятельностью, наивными поисками благодати там, где ее никогда не бывало. Одним словом, таинства не получилось. Неясная встреча с неясной женщиной в неясном театре. И меня обуял приступ уныния. Мне захотелось откланяться.
Уйти мне помешала отворившая женщина. Ее дерзкий воспаленный вид так контрастировал с пароксизмом уныния, накатывающего на меня после ботанического поцелуя, что мое тело непроизвольно двинулось к ней. В сторону запахнутого халата, небрежно и нестыдливо придерживаемого руками, ближе к пестрой повязке, перехватившей нечистые волосы, к большим шлепанцам, в дурман лекарств, заклубившейся из квартиры. Все это заставило меня облизать губы и проглотить сухой узел, вдруг переполнивший рот.
Женщина посмотрела на мою подругу, потом на меня, и я уже был готов выставить свою пассию – одним словом, я сделал шаг к ней…
Меня оставили на кухне и в промежутках приглушенных реплик еще два-три легких вскрика донеслись до меня, словно отдирали повязку. Каким-то непостижимым образом я присутствовал там, где производились болезненные манипуляции или облегчающее недуг нежные процедуры, – со всей ясностью и отчетливостью, хотя не видел ничего. Будто бы принял специальный наркотик, не дарящий галлюцинаций, а вводящий в необыкновенное отрезвление. Все во мне стало зрящим – носоглотка, горло, ладони, голени. Во мне рассыпались колкие звезды.
Мое волнение было не соразмерно ситуации.
Мне было невероятно жаль страдающего тела той женщины. Волнение подступило ко мне, оно кололо меня изнутри.
Под свист закипевшего чайника я отворил рамы, и в проем вломились ветви мелколиственного вяза. Где-то в вышине дерево привечало воробьев, устраивающихся на ночлег, и тощие побеги торчали прямо из ствола как безумие. Внизу под окнами – прибитая дождем россыпь светлых семян. Их никто не метет. И в этом мне видится благообразие запустения, словно все сговорились умереть. Эти побеги кажутся мне розгами, в них застревает неоновый свет как кислота, чтобы порка была больнее. Из зеленого облака листвы может протянуться безжалостная рука. Но на самом деле, эти дерева всегда смягчают удар искусственного света, и резкий южный вечер кажется мягче, он подсыхает как сукровица на ссадине, становится мягким струпом, прикрывает прошлые следы – неопрятности и бесчинств.
Но лучше всех пород – тополя, я прощаю им мусор горючего пуха. Цветущий тополь, осененный вечерним усталым светом, пылясь светится сам – у могучего дерева хватает сил отдать дневной свет в течении первых мгновений наползающих сумерек… В их цветении есть что-то от прощания с самым дорогим, с жизнью, – белые лужи их аллергического цвета вспыхивают в одно мгновение – только чиркни спичкой.
Когда-то, в баснословные года мне нравилось вступать в территорию тополиного горения и выходить неопалимым. Вот, наивно и самовлюбленно думалось мне, огнь меня совершенно не берет; стоя в лужице низкого пламени, я впадал в сладкую кому обездвиженности. Но однажды горючий чулок взбежал по пушку на моих бледных ногах, и запах паленого отрезвил меня. (Бабушка, взглянув на меня тогда сказала: «Ну, – чистый отец, тот тоже на горелке всё руки себе палил»; и показывала, как он, согнув руку, проводил локтем по над пламенем. С него, наверное, слетали искорки, как с точильного камня. В моей прошлой памяти он, нанесший мне невосполнимый урон, все равно пребывал безупречным. Как ствол тополя.)
До моего слуха доносится речь, словно перевязанная марлей: «Ну, все, все, все, не будем больше, сейчас пройдет». Голос, пройдя колено коридорчика, стал принадлежать не медсестре, моей недавней спутнице, а волшебнице. Стерильной, почти ничего не весящей. И если бы ее просветили рентгеном, то никаких теней не проступило бы, так что мне не за что было ее полюбить. Тело моей спутницы было непредставимо в отличие от другого, претерпевающего невидимые мне манипуляции. Ведь мне сразу почудилось, что в той женщине, как в древесном стволе, заключена тайная суспензия неостановимого горения. Это сразу чувствуется в некоторых женщинах, и делает их, невзирая на внешность, неотразимыми. Будь она однорукой, с короткой культей, то и это было бы обращено в ее пользу. Ведь этот недостаток никогда не приелся бы. В ней возможно было полюбить даже изъян, как вакансию прекрасной полноты. Но только не врожденное уродство – циничное предательство природы, а благоприобретенное увечье, когда чем меньше, тем больше эта малость удорожает остаток жизни…
Я медитирую, глядя в скупой рисунок, тиражированный на кафлях. Но ничего кроме этой синей ерунды не могу увидеть. Внутри меня – приятно и пусто. Я пытаюсь выковырять несуществующий сгусток серы из своего уха. Ничего нет, даже палец совсем не горький. Пробую на ощупь ушную раковину – податливые хрящи, вялая мочка. С лаской у меня проблемы, так как понимаю ее как тихую механику. Она – чересчур легка. И это – главная причина почему мне ее не надо. Кафель очень чистый, и я вижу свое лицо. За мной синеет окно. Обычная чистая кухня. Я, не прикрывая рот, зеваю.
Теперь моя история может разделиться на два рукава, ибо появились люди, а им ничего не стоит изменить сюжет, ведь они могут что-то предпринять.
Надо сказать, что мое знакомство с той женщиной, той пациенткой, состоялось. И именно с нею, с ее сердечным участием в моей жизни оказалось связано полное излечение, лучше сказать – извлечение из машинерии кошмара, из чистой фикции, куда я просочился, став совершенно бестелесным.
Она вернула мне его. Кого его? Тело…
2
Мне наверное, надо обязательно сказать, что ее отсутствие повлияло на все страхи моей жизни. Точнее, тотальность этого качества отсутствия. Ее не было нигде – и в этом для меня состоял непреходящий ущерб. Ведь ее нельзя было обнаружить ни там, где на самом деле не было и меня, ни тем более тут, со мной, но и где-то вообще в мыслимых мною пределах. И мне безмерно тяжело перечислять эти «места», где ее не было.
3
Неукротимые игры в «войну» всегда отталкивали меня, мне не хотелось бегать с деревянным автоматом за «фрицами», на мой вкус это было слишком серьезно, и я не мог, как говорил сам себе, «разыграться», так как подозревал даже в раннем детстве об истине настоящей смерти.
Великой войной, звериной памятью о ней, какой-то неистребимой перхотью было осенено все вокруг моего детства. Изобилие военных-орденоносцев, куражащиеся нищие-инвалиды, вопиюще свежие названия улиц, близкие к поминкам праздники, нетрезвые разговоры, оправдания ничтожного настоящего и бахвальство победительным прошлым. Ожидания в конце концов. Они не оправдались.
Взрослые вызывали во мне зависть, так как они уже не попали на войну и живы, а я… ну, что может сделать со мной любая бойня. Я чувствовал слово «война» как дисперсию страха, осязал, что даже в своей словарной сущности (коль и посейчас есть это неукротимое слово), она не кончилась, а ушла под почву, в лаву и может всегда проявиться, спалить все на свете, и первым оплавится до окатыша в ее горниле – мой отец.
4
Это очарованность тёплым и нутряным, но никогда – омерзительным, – в отрочестве всегда довлела надо мною. И я пугался тусклого очарования и испытывал удовольствие от испуга, вдруг наделявших меня выпуклым чувством – что я жив.
5
Что внутри блондинов, какие мысли колосятся в их ржаной голове? Они почти никогда не встречались мне – ни до ни после. Сон, мякина, оторопь. Мне очень трудно с ними разговаривать. Кажется, никогда не дождаться ответа, как из колодца.
6
Он, показывая эти фотографии, ничего не транслировал собою. Даже не раскупорил ни одной пуговицы на теснившей его форме, чтобы доказать, что это он – тот самый, кто куражится, составляя часть орнамента. И я понимал, что он перешел какую-то черту, после которой прошлое исчезло, и вот – у него совсем ничего нет.
7
Тут я вспомнил, что отцовской одежды в доме, где я жил, не осталось, я не встречал даже шнурка от его исчезнувших вместе с ним ботинок. Все его следы бабушка, так никогда и не простившая ему внезапного побега, вывела начисто, будто особо едким растворителем своей ревности. Про мать я хотя бы мог сказать – вот ее платье в шкафу. (Кто она такая я не знал. Но в эфемерном крепдешиновом мешке для меня существовала полость, обитала память о ее плоти. Это был повод для фантазии. Она, несуществующая моя мать, будто задевала о швы, чуть замятые и выжелтившие в проймах. Мне всегда хотелось пожевать их, помусолить, но я сдерживался.
8
Мысленно – через редуты заграждений, прорывая оцепления, составленные из рядов солдат-азиатов, карябая щеки и нос о колкое шинельное сукно, раздвигая лицом дух казармы, толкая бамперы угрюмых грузовиков, – я пробирался в азарте опасной игры через улицы, проулки и площади, запруженные для вакхических шествий насельников моего города. Я перебирал варианты своей смерти – от войны, от парада, от учений, в конце концов, просто – от государства, от его скорбного смысла.
9
Такая же клетка с мышками была и в бабушкином жилье, пока отец жил со мной. Но бабушка мышей ненавидела. Это чувство было глубже, чем простая боязнь. Какая-то нутряная ненависть. Она звала мышей «зародышами». С трудом сдерживалась, чтобы не плюнуть в них. Это чувство к мышам – мой первый урок необъяснимой чувственности, ведь бабушкина неукротимая ненависть была так близка к вожделению. Мыши, живя у нас для чистого развлечения, лишь будоражили пустой сюжет нашей жизни и, как выяснилось, ничего не значили. И отец с такой легкостью их бросил, такую же клетку с дверкой, баночку крупы и щеточку в паре с маленьким совком. Бабушка, когда он при ней возился с грызунами, шипела в его сторону непонятное мне ругательство: «Ну, запашный». Что значит «запашный»? Носил одежду запахивая ее, а не застегивая? С ума сошел за пашней? И вот отец живет от меня в дикой дали за пашней. Через гигантское поле слов. Со мной не ходили в цирк. Иначе мне вспомнилась бы фамилия укротителя крупных саблезубых хищников.
10
Я понимал, что наши часы могут не совпадать, но отстать они уже не в силах. Кто-то все время заводит пружинку. Это даже не механизм. Это – сущность. И я все понял, ничего не прояснив.
11
Мы общались с его новой женой только по поводу мышей. Через мышей. Посредством мышей. Мы обращались к серым крохотным сгусткам как разговорнику, и они начинали шевелиться, «девочки» пили свежую водичку, возились в крупяной мисочке, ждали какого-то «мальчика». Как понял я только теперь, мышиным «мальчиком» звался отец, и меня сковывает прилив жалости, когда я слышу это слово внутри себя, – будто я вижу интимную сцену, и кто-то смотрит на меня, проверяя, с какой степенью искреннего соучастия я ее созерцаю.
12
В этом не было стыда, так как ни одного слова о его теле, скрываемых частях тела, я не произнес. Я просто это узрел, не уразумев.
13
Будто он уже был тогда болен, думал я позже. Словно мне надо будет за ним долгие годы ухаживать, не испытывая и толики стеснения, только соболезнуя и утоляя его муки. Но этого не случилось.
14
Даже не тем, что в морге больницы, по ошибке зайдя в другие двери, я спокойно опознал его распоротое тело с перламутровой мешаниной тяжелых внутренностей.
15
Я хочу несколько строк написать курсивом, он кажется мне летучим и легким, уходящим за общий трезвый строй речи:
Но вот он поднялся, отвернулся от меня. Оперся о лавку. Согнулся, чтобы мне было легче достать до его спины.
И я словно в ответ на его доверчивость заскользил своими мыльными ладонями по его телу, по могучей прекрасной спине, восходящей капителью, круто расширяющейся к плечам. А потом стек вниз, круговыми движениями по стволу позвоночника. По бокам – к узкой пояснице перехваченной следом загара. Спустился еще ниже – к впалым белым ягодицам. И ребром ладони в – темноту меж ними.
Я делаю все совсем легко и тщательно. Совершенно не стесняясь своих магнетических пассов. Ведь он мой отец. И мы ведь вот-вот расстанемся с ним. Совсем скоро. Я растирал драгоценную пену своей галлюцинации по его телу чересчур долго, безмерно длительно, целый век, но он ничем не прервал моих движений, будто вошел в податливый анабиоз слабости. Исподлобья взирая на него, я старался вовсю. Ведь я хотел показать ему, что вот – я сдаюсь, я люблю его. Вот – я готов сделать ему приятное. Вот – я умело удерживаю жалкое мгновение его зыбкого удовольствия. В его тяжелом мире, где он попран и все проиграл. В мире, куда я попал, в сущности, только на одно мгновение. Я будто жму на лыковую мочалку сильней и сильней. «Уф, сын, как хорошо, как мне хорошо», – кажется, умиротворенно бухтит отец. «Давай еще, еще. Три, три», – ласково просит он меня
И я напрягаю волю, чтобы задержать это время, время его мнимой речи, обращенной ко мне, в мою пустоту. Мне чудится, что я весь делаюсь больше, так как переживаю непомерное напряжение.
16
Когда я его таковым вспоминаю, то понимаю, что я, смотревший на него, и он, представший в моем зрении, а теперь в воображении, един со мною, вмещен в меня, и к сегодняшнему дню – непомерно больше, как маленькая матрешка, переросшая свою внешнюю оболочку.
17
Я с необъяснимой горечью вспоминал. Он встретил меня между путями, как будто уже война. Он пожал мне руку. Как гражданину. Товарищу по будущей службе. Подхватил мою сумку. Легко забросил ее в багажник своего куцего автомобиля. Всю лесную дорогу он молчал, ведь дежурные расспросы, – как закончил эту чертову первую четверть и кем собираюсь, в конце концов, стать в своей жизни – не в счет. Тем более, он был в этом осведомлен из пространных писем моей бабушки. Она как автомат ежемесячно сухо строчила ему отчеты. Описывая мои школьные невеликие с «три» на «четыре» успехи и свой пенсионный достаток. Она ведь доказывала, что мы с ней ну ни в чем абсолютно не нуждаемся. Живем как все нормальные люди – строго по средствам. Даже с припасами и «откладыванием на черный день».
Я начинал сам себя шантажировать. Что? Будто уже тогда он стал уставать от меня. Сразу? И мне становилось грустно. Вещи занимали свои привычные положения. Оправдывались мои ожидания. Ничего не происходило.
Но все-таки он мне сразу понравился тогда. Даже невзирая на сухое деловое равнодушие. Ведь я приехал всего лишь знакомиться. Как будто мы нашли друг друга. Хотя на самом деле мне хотелось различить в нем себя. Это был мой тайный план.
18
Мне, кажется, стала понятна суть этой покупки. Будто он одарил меня особенным даром – из самой своей сокровенной и невыносимой глубины. Он будто вывернул логику муторной жизни, уже совсем обступившей его. Со всех сторон. И этот дар просиял для меня.
19
Если бы я мог убедить себя, что нашел подлинный протокол, где тупыми словами излагается то же самое, то вполне мог бы и сжечь его. Вместе со словами «так было». Но протокола нет, и слова вошли в меня как татуировка в кожу. И меня волнует – только узор, а не глубина укола.
20
Мне не хотелось увернуться от этого символа. Именно так я и запомнил.
21
Да ведь Господи, ему ведь было совсем немного лет, и я теперешний куда старше его тогдашнего…
22
Но я теперь думаю о том, что попроси он меня об этом, – и я не проронил бы ни одного звука против, ни то что бы слова. Значит я был с ним ближе самого близкого, став в полной нестерпимой самоотдаче им самим.
23
Я до сих пор помню то чувство абсолютного понимания. Ведь я понимал его так, как никто из моих любовниц и жен – меня. Я не хотел от него никаких подробностей. Ни его дальнейшей жизни, ни смерти. Я понимал его как самый лучший императив.